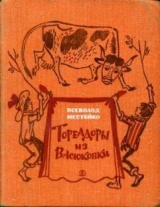
Текст книги "Тореадоры из Васюковки"
Автор книги: Всеволод Нестайко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Глава 10
Мы – крепостные. Приезд Явиных родителей. Пистолеты
Вы не думаете, я папу очень люблю, но он у нас такой упрямый, или, как он сам о себе говорит, «абсолютно принципиальный» человек. Как сказал, и пусть тут камни с неба падают, а так и будет. Сказал – как отрезал.
И если он пообещал мне, что гуляний не будет, то не сомневайтесь – некогда было и головы поднять.
С самого утра он задавал мне такую «нагрузочку» на день, что хороший батрак не справился бы. И я трудился, даже дым шёл.
Мама меня, конечно, жалела и, когда отца не было, всегда спешила сказать: «Отдохни, сынок, погуляй!». Но гордость моя не позволяла её слушаться. Я знал, что, если бы папа узнал, он бы лишь поморщился презрительно и сказал: «Маменькин сынок несчастный», А это было обиднее, чем сто подзатыльников.
И я трудился.
Я не говорю уже, что делал то, что нужно было делать: чистил свинарник, рубил дрова, работал в саду и на огороде.
Но больше всего я выполнял работу, на мой взгляд, никому не нужную, работу, которую отец просто выдумывал для меня. Например, копал большую яму для помоев и мусора. Зачем? Всю жизнь выливала мать помои в бурьян за ригой – и ничего. А тут, видишь, специальная яма понадобилась.
Или – забор из штакетника на границе нашего огорода с соседским. Никогда там забора не было. Говорит, чтобы куры в соседский огород не лазили. Смех! Лазили и будут лазить – на то они и куры. И никакие им дощечки не помешают.
Я знаю, просто это называется трудовое воспитание.
И почему эти взрослые так любят воспитывать! Только хлопот прибавляют. Разве я сам не понимаю, что плохо, а что хорошо, что надо делать, а что не следует! Прекрасно понимаю.
Вот я подслушал нечаянно разговор отца с матерью. Мама просила, что он уже дал мне отдых: «Ты хочешь, чтобы он уже совсем… Посмотри на кого он похож!» Но отец был непреклонен: «Ничего-ничего, это ему только на пользу. А ты что хочешь, чтобы он лодырем вырос, босяком, пьяницей каким-нибудь, алкоголиком!».
Пьяницей! Сказали, Да пускай она сгорит синим пламенем, эта водка! Чтобы я пил её! Они думают, что я не пробовал! Мы с Явою как-то попробовали. А как же! Бр-р! Тьфу! Рыбий жир и то вкуснее.
Честно говоря, по-моему, взрослым она тоже не по вкусу (как они морщатся, когда пьют!). Просто эти взрослые – такие же, как и дети: им неудобно друг перед другом, они хотят показать, что они взрослые, ну и…
С Явою мы виделись мало: не было времени.
Вот только подойдем к плетню, что разделяет наши дворы, – он с одной стороны, я с другой. Пожалуемся друг другу.
– Настоящим батраком стал, – скажет Ява. – Крепостным. Как Тарас Шевченко. Только стихи писать – «Мне тринадцатый пошёл…»
– А я? Хуже раба египетского. Спины не разгибаю. Поясница уже который день ломит.
Повздыхаем мы да и разойдёмся. О футболе, салочках и говорить нечего. Забыли, как это и делается.
От всего белого света изолированы мы были. В том мире где-то там Фарадеевич с юннатами выращивал фантастический космический глобулус. Уже вскоре должны быть результаты. Где-то там занимались своими загадочными темными делами Кныш и Бурмило.
А мы ничего не знали и не видели. Потому что не могли и носа со двора высунуть. А как ты будешь ловить шпионов, сидя дома? Никак.
Один лишь раз Ява прибежал ко мне запыхавшийся, взволнованный, красный:
– Айда! Быстрее!
– Что такое?
– Только что – сам видел и слышал – Кнышиха из хаты вышла. Кнышу сказала: «А ну пойди-ка на улицу выгляни, нет ли кого, и калитку замкни. А то еще увидят эти нищие, будет тогда». И Кныш пошел, и выглянул, и замкнул. И они пошли в хату, и закрылись…
– Ну и что?
– Вот тебе и «что»! Голова! Может, они шпионские деньги в золу прятать будут или по радио передавать будут что-нибудь… шпионское…
– Ну-у?!
– Вот тебе и «ну»! Пошли, перелезем через Великую китайскую, а там на орех, что у хаты, а с него в окно всё будет видно.
– Пошли!
Через минуту мы уже карабкались на огромный забор, что отделял Явин двор от двора Кнышей. Этот необозримый трехметровый забор мы назвали Великой китайской. И знаете, из-за чего возвели эту стену Кныши? Из-за груш-гнилушек. Как раз на границе росла у Кнышей дикая груша и одна ветка протянулась на территорию Реней. А с этой ветки груши, ясное дело, падали к Реням. Их, конечно, отдавали, но иногда свинья какую-нибудь падалицу и сжует – разве уследишь. Вот из-за этих гнилушек, что и слова доброго не заслуживает, Кныши и построили Великую китайскую стену. А груша, как на зло, высохла.
Не любили мы Кнышей. Независимо от их шпионской деятельности. Просто так не любили. Несимпатичные они какие-то были. Кнышиха – широкоплечая, костлявая, хоть и не толстая, но какая-то квадратная. Глаза маленькие, как дырочки в пуговках, а нос, или, как говорил тракторист Гриша Чучеренко, «румпель», огромный и похож на топор. Если бы сам не видел, я бы даже не поверил, что у женщины может быть такой здоровенный носяра.
У Кныша, наоборот, нос был маленький, как кукиш. Зато страшно волосатый был Кныш. Руки, ноги, плечи, грудь, спина – всё-всё было покрыто густым рыжим волосом, жестким, как проволока. Даже в ушах были у него были волосы, и торчали они, как клочья (странно было, как доходили до Кныша звуки, не запутываясь в этих клочьях). И из носа торчали тоже, и на переносице росли, и даже на кончике носа.
Кроме того, что волосатый, был Кныш еще какой-то мокрый – как сырая стена в погребе. Руки всегда мокрые, шея мокрая, лоб мокрый. как-то он взял меня за плечо своей мокрой и холодной, как у мертвеца рукой, и я даже вздрогнул. Бр-р!
И еще – когда Кныш смеялся, нос у него дёргался м кожа на лбу дёргалась (не морщилась, а именно дёргалась). И это было очень неприятно. Хотелось отвернуться и не смотреть. Жили Кныши вдвоём, детей у них не было. И родственников, по-моему, тоже.
В колхозе работал только Кныш. Кнышиха считалась очень больной. Болезнь у неё была неизлечимая и таинственная. Она шепотом рассказывала о ней женщинам, закатывая глаза и приговаривая: «Ох, какая же я больная, больная!»
Между тем неизлечимая болезнь не мешала ей каждый день таскать на базар тяжеленные корзины, а по праздникам выпивать бутылку «денатурчику». «Денатурчик» – так ласково называли Кныши страшный синий-синий спирт-денатурат, на бутылке которого был нарисован череп с костями и написано: «Пить нельзя. Яд». Кныши не обращали внимания на эту надпись. Они что-то там такое делали с «денатурчиком» и пили. Кныш был в этом деле тонким специалистом.
Он говорил:
– Житомирский денатурчик – это настоящая гадость, отрава, а вот черниговский – это, я вам скажу – здоровье! Украинский женьшень! Пей – до ста лет проживешь.
И Кнышиха, и особенно Кныш любили выпить.
Кныш выпивал почти каждый день. А на праздники, то есть на Новый год, на Рождество, на Первое мая, на Пасху, на день физкультурника, на церковные праздники, на Крещение и т. д. (Кныши не пропускали ни одного ни церковного, ни государственного праздника), они выпивали семейно, вдвоём.
В такой день с утра Кнышиха выходила за ворота и, в зависимости от праздника, или крестилась, или торжественно пела «Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов». (один куплет с припевом «Это есть наш последний и решительный бой»).
Потом Кнышиха возвращалась во двор, где стоял под вишней уже накрытый стол, и начинался праздничный завтрак. Через час из-за Великой китайской стены уже раздавалось:
Ой служил я у па-а-на
Да за первое ле-т-то
Заслужил я у па-а-ана
Курочку за лето.
А та курка-щебатурка
По садочку хо-о-одит
да ход-ит,
Цыпляточек водит
да во-о-дит…
Это пели гнусавыми голосами подвыпившие Кныши. После рюмки их всегда тянуло на пение.
Пели они долго, часа два или три. Пели украинские народные, и современные, и песни из кинофильмов, и даже танго.
А потом уже до самого вечера Кныши на два голоса оглушительно, с перебоями храпели в саду, и благодаря «денатурчику» от них пахло так, словно это не люди спали, а два трактора.
Праздновали Кныши всегда только вдвоём. Никого к себе не приглашали. К ним никто не ходил, и они ни к кому. Очень были скупые и боялись, чтобы никто не увидел, что у них дома есть. На людях всё время прибеднялись.
– Да я же совсем нищий! – говорил Кныш. – С хлеба на воду перебиваемся. Даже на зиму ничего не припас.
А между тем Кнышиха каждое утро, отправляясь на базар, даже сгибалась под тяжестью корзин. И бутылки с молоком высовывались из этих корзин, как пушки из танковых башен. Корова у Кнышихи была одна из лучших в селе.
Я как-то слышал, как бабы говорили об этой корове:
– Ох же и молоко у этой коровы! Ну как смалец! Хоть ножом режь.
– Эге. Так что же ты хочешь, если она её хлебом кормит. Каждый день тащит из города мешок. А в том мешке, думаешь, что? Одни булки. Если бы я кормила свою Лиску так, она сметаной доиться будет.
– Ну да! А на базаре, я видела, продаёт жидкое, почти синее. Наполовину разбавляет, не меньше.
– Куда это милиция смотрит!
А как-то вечером, когда уже стемнело, приезжали к ним двое каких-то типов на мотоцикле с коляской, погрузили что-то в коляску и сразу же уехали. И потом еще дважды приезжали, и снова ночью.
А однажды возле чайной Кныш, что в стельку напился, разглагольствовал в обществе пьяниц…
– Не боюсь я вашего Шапки… Какой он Шапка! Штаны он, а не Шапка. И не голова, а это самое… Он у меня вот тут вот. – Кныш показал сжатый кулак. – Я уже написал. кому следует. Скоро вашему Шапке дадут по шапке… Хи-хи-хи!
Иван Иванович Шапка, председатель нашего колхоза, был очень хороший хозяин, и все его у нас любили. Все, кроме бездельников, лодырей и пьяниц, потому что он им спуску не давал. И Кныш всё время писал на Шапку письма и жалобы в разные инстанции. При чём писал всегда так, чтобы люди видели. Открывал ворота, выносил во двор стол, садился и, как школьник, наклонив голову и высунув язык, карябал что-то на бумаге.
– О, снова пишет какую-то собаку, – насмешливо говорил дед Варава.
Кнышевы жалобы, конечно, председателю проблем не создавали. Но у людей темных вызывали к Кнышу уважение и даже опасение – если человек пишет, значит силу имеет. Когда-то, говорят, Кныша из-за этих писем даже умные люди боялись. Это еще больше делало его в наших глазах таинственным и загадочным.
Поверить в то, что он шпион, было не очень трудно.
Мы перелезли через забор, осторожненько, пригибаясь подошли к ореху, забрались – и вот уже внимательно смотрим сквозь окно в Кнышеву хату. В хате темновато, и мы не сразу рассмотрим. что там происходит. Наконец увидели, что Кныш и Кнышиха сидят у стола с ложками в руках и, воровски оглядываясь на окно, что-то едят. Мы внимательно приглядывались и удивленно посмотрели друг на друга. Кныши ели… торт. Бисквитный городской торт с цукатами и с кремовыми и шоколадными розочками. Ели торт ложками, как борщ или кашу. Если тайком спрятавшись от людей, как преступники, ели торопясь, жадно, наверно, громко чавкая (окно было закрыто, и мы не слышали), а может, даже похрюкивая. Рты у обоих были измазаны кремом, а у Кнышихи крем был и на «румпеле».
Вот Кныш подцепил ложкой большую центральную розу, что красовалась посреди торта, и потянул ко рту. Но Кнышиха что-то сердито проворчала ему, ловко перехватила розу с его ложки своей ложкой – и раз – к себе в рот.
Мы снова переглянулись. Кино!
– Ну всё! Ясно! – сказал Ява. – Шпионы! Наши люди торты ложками не едят.
Я не стал возражать, хотя это доказательство шпионской деятельности не казалось мне достаточно убедительным.
Поскольку смотреть на эту картину было противно, мы спустились с ореха и полезли домой.
…И снова потянулись «трудовые будни».
Больше контактов с Кнышами, а тем более с Бурмилой не было.
Лето проходило. Нам даже начало казаться уже, что о Кныше и Бурмиле мы всё выдумали, что не было ни того таинственного разговора («Подарочек от немцев…», «Двадцать железных…», «Вермахт щедрый…»), ни акваланга, ни подозрительного поведения, ничего…
– Нет, никакие они не шпионы, – сказал я. – Помнишь, как Бурмило аистенка раненного подобрал и выходил, выпустив потом. Шпион бы так тебя сделал? Никогда!
Ява сначала собирался возражать, а потом просто переводил разговор на другое.
Один раз Ява встретил меня у плетня особенно мрачный и невеселый.
– Завтра приезжают родители, – вздохнул он. – Просто хоть с моста в воду. Мать как узнает… Правда, дед пообещал в первый день не говорить. «И не из-за тебя, – говорит, – двоечник, а из-за твоей матери. Не хочется в первый день ей настроение портить. Столько, – говорит, – не была дома, так скучала, а тут сынок такой подарочек приготовил. Возьму, – говорит, – грех на душу, совру, что сдал ты экзамен на тройку. Пусть уж на второй день…» Так что, у меня только один день спокойной жизни.
А потом будет такой «вермахт», что… ты же мою мать знаешь.
Явина мать была такая решительная женщина. В отличии от моих родителей, у Явы всё наоборот: папа был добряк добряком (муху не обидит, никогда голоса не повышает, только не скрипке играл), а мать – гром и молния. Словом, папа был мамой, а мама была папой. И Явину тревогу я понимал.
– Ничего, – успокаивал я своего друга, – как-нибудь обойдется. Не убьёт же она тебя.
– До смерти, может, и не убьёт. А инвалидом сделать может. Знаешь, какая у неё рука! Как у Жаботинского[1]1
Жаботинский Леонид Иванович, тяжелоатлет, неоднократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийских игр.
[Закрыть]!
– А ты потренируйся падать. Чуть что – сразу падай. Будто тебе плохо.
– Мне и так будет плохо. Без «будто». Не волнуйся.
Что и говорить, сочувствовал я другу всем сердцем, всей душей, но помочь ничем не мог. Оставалось только уповать на судьбу и на счастливый случай. Может, как – нибудь пронесет.
И вот Явины родители приехали. Радостного гвалта и суеты – полный двор. Калитка только – скрип-скрип. Двери хаты не закрываются. Родственники, соседи, знакомые… Еще бы! Из-за границы приехали! Интересно же! А что? А как? А где? А когда? А какое? А почём?..
В саду целый день стоял стол с едой и напитками: одни вставали, другие садились.
И подарков Явины родители привезли чуть не всему селу. Подарки в основном мелкие, на манер пуговицы – сувениры называются. Но что вы хотите: если бы столько больших подарков – в две телеги не уложишь.
И мне подарок достался. Нам с Явой обоим было подарено по пистолету. Но какому пистолету! По чешскому заграничному пистолету, который стреляет водой. И как стреляет! Нажимаешь на крючок и тоненькая-тоненькая струйка брызгает метров на десять. Классно! Вот пистолет так пистолет! Красота! Сила!
Через пятнадцать минут, после того как нам были подарены пистолеты, мы их чуть не потеряли навсегда.
Ну. вы же понимаете, было бы смешно, если бы мы сразу не начали стрелять. Кто бы это мог такое? Зачем тогда эти пистолеты? Зачем их вообще дарить?
Конечно же, мы сразу…
Бровка на мушку – бац!
«Гав-гав-гав!» – Бровко хвост поджал – и в будку.
Кошка рыжая сидит на солнце, умывается.
Бац!
«Мяяуу!» – И кошка уже на груше.
Курица роется.
Бац!
«Ко-ко-ко-ко-ко!» – и нет курицы – где-то уже на огороде.
А тут дед Салимон идет…
Ну, случайно же, честное слово, случайно крючок нажался.
Бац! – деду Салимону прямо по лысине.
– А чтобы вы лопнули, негодники! Я вам побрызгаю! Я вам!.. Я вам!..
Через несколько минут мы тёрли свои красные уши уже на пастбище.
Пистолеты нам были оставлены при одном условии – только стрелять по неживым целям. Ну и настрелялись мы на пастбище, что называется, вволю. А уж и завидовали нам ребята – и не говорите!
Только и слышалось!
– Дай хоть посмотреть!
– Дай хоть глянуть!
– Дай подержать!
– Можно я стрельну?
– Можно я попробую?
– А я? А Я?
– Вот это да!
– Ох ты!
– Ох же и бьёт!
– Сила!
– Красота!
– Вещь!
Скажем честно, мы нехотя давали не только стрелять, но и подержать.
Можно отдать новые штаны, ботинки, рубашку снять, всё, что хочешь, но выпускать из рук пистолет в первый день – не под силу. Как же его дашь, когда сам еще не настрелялся!
Ну и постреляли мы в ребят – ну и постреляли! Замечательно! Ох и отыгрался я за все свои страдания, которые мне пришлось претерпеть, будучи «Шпионом», «разбойником», и вообще «врагом».
Мы какое-то время колебались, помня условие стрелять «только по неживым целям». Но потом решили, что и Степан Карафолька, и Антошка Мациевский, и Гришка Сало, и даже Васька Деркач по характеру своему совершенные трупы и поэтому целиком подпадают под понятие «неживые цели».
Через час все были мокрые как дождь.
Сначала они к этому относились спокойно – и даже подзуживали:
– Ну! А ну, попади на таком расстоянии. Вот и не попадешь, не попадешь! А ну!
А потом, когда мы уж очень точно попадали, начали просить:
– Да ну, перестаньте!
– Да хватит уже.
– Хватит! Ну!
А Карафолька, когда Ява очень ловко попал ему прямо в нос, решил обидеться и закричал:
– Эй, ты, переэкзаменовщик! Что-то очень уж ты разбрызгался! Шёл бы лучшие уроки учить. А то на второй год останешься. Вот скажу я твоей матери!
Свинья он, Карафолька, долгоносик, не тонкий, не деликатный человек. Разве можно человеку напоминать о таких вещах, как переэкзаменовка? Суслик!
Ява повернулся и пошел с пастбища. Я плюнул в сторону Карафольки и пошел за ним. Нет, не дали Яве забыть о переэкзаменовке, о том, что его ждет.
Но судьба решила всё-таки оттянуть час расплаты. На другой день рано утром Явины родители поехали на несколько дней в Киев отчитываться о своей зарубежной командировке на Выставке достижений народного хозяйства. И дед Варава не успел рассказать о переэкзаменовке.
Но однако настроение у Явы было скверное, подавленное.
– Собака я, барахольщик, – ругал он себя. – Мать меня целует: «Сыночек. сыночек!» – подарки мне, а я… Знала бы она, какой я. Лучше бы сразу… Что будет! Что будет! Эх, если бы выследить, пока матери нет, этих шпионов! Всё было бы хорошо. Можно было бы рассказать правду. Как я тонул и вообще… Вот если бы выследить.
Я невнятно мямлил:
– Мда… конечно… но…
Я не верил в реальность этого дела.
Но на другой день после отъезда Явиных родителей в Киев он прибежал ко мне бледный, как сметана, едва дыша.
– Быстрее, быстрее… быстрее.
Я уже думал – или пожар, или землетрясение, или футбол по телевизору показывают. Я ведро вытягивал из колодца. И с перепугу упустил ведро, когда он прибежал.
– Тьфу! Что такое?
– Пойдем быстрее! Они идут в плавни. Прямо сейчас. Сам слышал разговор. Кныш говорит: «Что-то давненько дела нет. Присохло. Чепуха получается». А Бурмило: «Да-да, пора кончать, пойдем сегодня, я не виноват, что простудился. Заболел…» А Кныш: «Тогда я к тебе зайду через полчаса и пойдем…». Быстрее, Павлуша! Я чувствую, сегодня что-то будет! Пошли, ну!
Он говорил так горячо и убедительно, что мое ведро, кажется, само выскочило, наполовину расплёсканное, из колодца, вмиг очутилось на крыльце, а мы с Явой, словно выпущенные из пушки, мчались по улице.
Глава 11
Трагедия в кукурузе. И кто бы, вы думаете, нас спас?
Нам не пришлось долго сидеть в кустах у хаты Бурмилы. Не прошло и несколько минут, как из калитки вышел Кныш, а за ним Бурмило с мешком за плечами.
Бурмилова хата стояла за школой, на краю села. Сразу за ней начинался огромный массив кукурузы. Вдоль массива извивалась полевая дорога.
Кныш и Бурмило пошли по дороге, а мы с Явою вдоль дороги, скрываясь в кукурузе. Но не прошли мы и ста метров, как Кныш вдруг остановился и, слышим, говорит:
– Слушай, кажется, за нами какие-то пацаны увязались.
– Где? Чтоб им пусто было! – удивленно пробасил Бурмило.
– Да вот там, в кукурузе.
– А ну идем напрямик через массив. Заодно и проверим.
Мы с Явою шлепнулись на землю и, словно зайцы, на четвереньках драпанули в глубь кукурузы.
Жесткие кукурузные листья предательски шуршали вокруг. И не поймешь, или от ветра листья шуршат, или это кто-то идет. Казалось Кныш и Бурмило уже прямо над головой. Вот-вот наступят и раздавят тебя, как козявку.
Чувствуя в животе противное «Ой-ой-йой», я бежал на четвереньках всё дальше и дальше. И когда уже совсем ободрал колени, остановился и припал, тяжело дыша, к земле. Больше не могу! Пусть наступают!
Но никто на меня не наступал.
Я полежал немного, прислушиваясь.
Ш-шу-шу… шрх-хр… шшшшу-у… шу.
Всё время, не переставая, шуршит кукуруза.
И не слышно в этом шуршании ни Кныша, ни Бурмилы, ни… моего друга Явы.
А чтобы увидеть – и думать нечего. Дальше своего носа ничего не вижу – сплошное сплетение кукурузных листьев. Ох и густая же кукуруза, гуще всяких джунглей.
Полежал я еще немного, уши навострив. Ничего. Ничегошеньки. Где же Ява? Мы же вроде рядом бежали.
– Ява! – зову я едва слышно.
Ни шепотка в ответ.
– Ява! – зову я немного громче.
Нет ответа.
Бросился я в одну сторону, в другую.
– Ява! – кричу я во весь голос. Черт его побери! Кныша и Бурмилу мы всё равно уже упустили – это факт. Он уже, наверно, в плавнях.
– Ява! – ору. – Ява! Ау! Где ты?
– Цыц! – слышу наконец где-то далеко исполненный таинственностью голос Явы. – Тише!
– Да что «тише»! – кричу я. – Их давно уже нет! А я ничего не вижу – такая густота! Не знаю в какую сторону идти. ползи сюда!
Ява немного помолчал, потом зовет:
– Ползи ты сюда!
Двинулся на четвереньках я на Явин голос. Полз – полз – нет Явы.
– Ява! – кричу наконец.
– Ау! – слышится где-то далеко справа (а раньше было слева).
– Ява! – рассерженно кричу я. – Куда ты пополз, чтоб тебе! Не туда ползешь!
– Это ты, – кричит он, – не туда ползешь! Я ползу правильно.
– Да ну тебя! Ползи сюда!
– Это ты сюда ползи.
Вот так, перекликаясь, мы начали зигзагами подползать друг к другу. наконец я с разгону прямо в носом в Явины штаны уткнулся.
– Тьфу!
– Еще немного и мы бы разминулись.
– Раскричался! – цедит сквозь зубы Ява. – С тобой только тараканов на печи ловить, а не шпионов!
– Какой храбрый! Что же ты драпанул? Скажи спасибо, что они нас не раздавили, как клопов…
Ява сразу вскочил:
– Пошли! пошли быстрее на дорогу. Может, еще и успеем. Во всяком случае, я знаю, где в плавнях искать.
И Ява бодро рванул вперед. Я – за ним. Не обращая внимания на боль в ногах, мы шли очень быстро, почти бежали. Кукурузные листья хлестали нас по щекам, лезли в глаза, царапали руки. Идти становилось всё труднее.
– Ява, – сказал я, тяжело дыша, – что-то мы очень долго идем.
Ява молчал.
– Ява, – спросил я, еле дыша, – где дорога?
Ява молчал.
– Ява, – сказал я, почти задыхаясь, – мы не туда идем.
Ява остановился.
– Давай отдохнем.
Мы сели на землю.
– Ты знаешь, какие эти кукурузные массивы, на сколько они километров тянутся? – сказал Ява. – Если не туда пойти, можно два дня идти и не выйдешь. Совсем заблудиться можно.
– Что?! Что ты мелешь? – сказал я, чувствуя, что у меня вместо сердца как будто студенистый свиной холодец. – Кукуруза – не лес и не плавни, в кукурузе нельзя заблудиться. Вставай, пошли.
Мы уже не думали о Кныше и Бурмиле, мы думали только о том, чтобы выбраться из этого кошмарного плена.
Через полчаса мы снова сели отдохнуть.
И вдруг у меня возникла идея.
– Ява, – говорю, – а что, если влезть и посмотреть, куда идти.
– Влезть? Это что тебе – дерево? Это же кукуруза. Злак. Не слышал я, чтобы люди на злаки лазили.
– Ну и что, говорю я. – Видишь какая толстая! Как бамбук! Может выдержит.
– Ну так лезь.
– Нет, ты лезь – у тебя штаны короче и пуговиц меньше. А я подсажу.
Ява махнул рукой:
– Ну, давай попробуем.
Мы выбрали самую высокую и самую толстую кукурузину, я прижался к ней спиной, сплёл пальцы рук, чтобы удержать Яву, когда он на них ногой встанет, и сказал:
– Ты больше на меня опирайся, а за кукурузину только держись.
– Хорошо, хорошо, – сказал Ява и, кряхтя, начал взбираться на меня. Вот уже коленом на плечо встал, уперся руками в голову. Ой! – ботинком за нос зацепил. Но я еще пока молчу, терплю! Ботинок вдавливается мне в плечо, каблуком ключицу проламывает. Я начинаю шататься, колени дрожат, подгибаются, подгибаются…
– Ява! – кричу. – Быстрее смотри, я падаю.
И… что-то затрещало, зашумело, засвистело – словно бомба в кукурузу упала.
Я лежу, увязнув носом в землю. Во рту – песок, в ушах – песок, глаза запорошены.
Откашливаясь, отплёвываясь, протираю глаза и зову:
– Ява, где ты: Ты живой?
– Жи… – апчхи! – …вой. – И из кучи поломанных кукурузных стеблей высовывается Явина голова.
– Ну, что, – спрашиваю, – видел?
– Фигу, – говорит, – я видел. Одни метелки перед носом.
Ява вздохнул. Я посмотрел в небо.
«Чудеса, – подумал я. – Космонавты летают в безграничном небе, среди звезд, за сотни километров от земли – и ничего. А мы в кукурузе заблудились. Да еще в такой решающий момент! Кино!..»
– Ява! – вскочил я. – Это глупость какая-то. Этого не может быть, потому что это невозможно. Еще никто в мире не заблуживался в кукурузе. Мы просто пошли не в ту сторону. Я хорошо помню, что, когда мы шли, солнце было у нас за спиной. Идем назад.
Сначала Ява недоверчиво поглядывал на меня. Но я говорил, наверно, так убедительно, что он поднялся.
– Кто знает, может и правда. Идем.
И мы поплелись назад.
Ох, как тяжело было идти! Мы не чуяли под собой ног. Мы просто механически переставляли их, как ходули. И зачем мы ползали на коленях?
А тут я еще споткнулся и ногу подвернул, даже вскрикнул, так было больно.
Сел на землю и скривился, как среда на пятницу. Если бы Явы не было, заплакал бы.
– Что? Что? – наклонился надо мной Ява.
– Брось меня! Иди, пробивайся сам, – сказал я хрипло и уныло.
– Тьфу, дурак! – Ява обнял меня за плечи. – Сейчас пройдет.
Он помог мне подняться. Я оперся на его руку, и мы потихоньку пошли.
Через несколько минут боль унялась, и я захромал довольно бодро. А вскоре и совсем забыл о ноге.
Трудно сказать, сколько мы шли: полчаса, час или два, и сколько мы прошли: километр, два или десять. Но наконец я не выдержал:
– Ява, – говорю, – я больше не могу. Я сейчас упаду. Давай отдохнем.
Мы легли на землю.
Было тихо. Лишь кукурузные листья шуршали над нами. Где-то далеко провавакал перепел, снова наступила тишина. Даже кузнечиков не было слышно.
– А что, если мы совсем не выберемся отсюда? – тихо сказал я. – И никто не знает, куда мы пошли. И нас не найдут. И мы погибнем. И через две недели комбайн вместе с кукурузой соберет наши косточки.
– Надо было бы пообедать. Всё же дольше бы продержались.
При напоминании об обеде так захотелось есть, что я чуть не заплакал.
– У нас на обед борщ и вареники с мясом, – мрачно произнес Ява.
– А у нас суп с галушками и жаренная курица, – сказал я, едва сдерживая слёзы.
Нет, дальше терпеть я не мог.
– Ява, – говорю, – давай звать людей. Давай людей звать, Ява.
Но Ява был более стойким чем я.
– Ты что, – говорит, чтобы смеялись? Здоровые лбы среди белого дня в колхозной кукурузе «Спасите!» кричат.
– Пускай, – говорю, – лишь было кому смеяться.
– Нет, – говорит Ява, – если так, уж лучше давай петь.
– Ладно, – говорю, – давай петь.
И мы затянули первое, что в голову пришло. А первой почему-то пришла в голову песня космонавтов:
На пыльных тропинках далёких планет, —
жалобно-жалобно выводил Ява.
Оста-нутся наши следы, —
еще жалобнее подтягивал я.
Долго мы пели. Почти все песни, какие знали, мы пропели. Особенно почему-то хорошо пелись те, что начинались с «Ой». «Ой в поле могила», «Ой я несчастный», «Ой не свети, месяченько», «Ой не шуми, луг», «Ой что ты, дуб», «Ой в поле жито». Эти «ой» мы рявкали так, словно нас кто в бок колол.
Хорошо пошла у нас также песня «Раскинулось море широкое». По-особенному выходил куплет «Напрасно старушка ждет сына домой». Трижды мы спели эту песню, и трижды, когда доходило до этого «напрасно», у меня начинало першить в горле. Наконец мы совсем охрипли и кончили петь.
Мы лежали, обессиленные от голода, от песен, от печальных мыслей.
– Как чувствовал, что сегодня что-то будет! – вздохнул Ява.
Я от нечего делать засунул руку в карман и неожиданно нащупал там что-то твёрдое. Вытащил и аж подскочил. Это же конфета, которую я забыл съесть вчера! Да еще и мятная. Это же пить меньше будет хотеться.
– Ява, – хриплю, – смотри!
Ява взглянул и вздохнул:
– Одна?
– Одна.
Конфетка слежалась в кармане, подтаяла, фантик прилип так, что и зубами не отдерешь. Раньше я бы её, наверно, просто выкинул. Но теперь это была такая ценность, что ого-го!
Я осторожно перекусил конфетку пополам. Но неудачно – одна половинка вышла больше другой. А еще кусать – только раскрошить.
Я вздохнул и протянул Яве большую.
– Чего это? Давай мне ту.
– Нет, – говорю, – бери. Ты больше есть хочешь.
– Почему?
– Потому что я, – говорю, – хорошо позавтракал. Яичницу ел, и колбасу, и молоко пил.
– А я! Я картошки целую тарелку, и мяса, и салат из огурцов и помидоров, Так что, ты самый голодный, а не я. Бери.
– Нет. Я еще пирог с яблоками вот такой и варенья блюдце. Бери ты.
– А я два пирога, и целую крынку молока, и стакан сметаны, и еще творог, и…
– А я еще блинов, и груш, и…
Наши завтраки увеличивались и увеличивались. Если бы их сложить, то вышел бы уже, наверно, дневной рацион слона. Закончилось тем, что Ява от большой половины очень ловко откусил маленький кусочек, и таким образом «порции» сравнялись.
Мы собирались сосать конфетку как можно дольше, но через несколько минут во рту уже и вкуса не осталось, есть захотелось еще больше. И есть, и пить. Особенно пить. Вскоре мы даже забыли о голоде. Пить, только пить хотелось нам. Вот только теперь почувствовали себя по-настоящему несчастными. Мы едва шевелили пересохшими губами. Солнце начало садиться, приближался вечер. Мы с ужасом думали о своём будущем.
И неожиданно мы услыхали… песню.
Три деда, три деда полюбили бабку
А четвертый малюсенький прицепился сзади…
– выводил кто-то хрипло и гнусаво в два голоса.
Нас даже вверх подбросило, как на пружинах. Люди!
– Эй! Эй! – закричали мы и замолкли, прислушиваясь.
Нам казалось, что песня, которая как будто приближалась, начала немного отдаляться.
Трем дедам, трем дедам бабка фиги тычет
Четвертого, малюсенького, за чуб тянет…
И тогда мы, забыв обо всём на свете, бросились, ломая кукурузу, на песню и отчаянно закричали:
– Люди! Подождите! Люди добрые! Сюда!..
И кажется, я даже прокричал это позорное «Спасите!» – я точно не помню. Песня прервалась.
– Люди добрые-е-е-е! Подожди-и-те! – проверещали мы и замолкли, ожидая ответа.
И где-то совсем уже недалеко послышались голоса:
– Зо-ов-ет кто-то…
– А, пошли!
– Не! Кр-ик-чит кто-то… Чтобы я света белого не видел!
Мы так и присели.
– Мамочки, да это же Бурмило! И Кныш.
– Да пошли! – говорит Кныш. – Это кто-то балуется.
– Нет, не балуется. «Спасите!» кричит… Ау! Кто тут есть? Где вы? – заорал Бурмило.
Ява глянул на меня и приложил палец к губам: «Тс-с!». Но было уже поздно.
– Тут! – пискнул я. Оно как-то само вырвалось, ненароком.
Кукуруза над нами раздвинулась, и мы увидели красные рожи Кныша и Бурмилы.
– Эй! Так это вы? Голубчики! – расплылся в ехидно-радостной улыбке Кныш и подмигнул Бурмиле. – Что я тебе говорил? И заблудились? В кукурузе? Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе!








