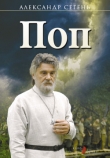Текст книги "У"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Вы пытаетесь освободиться от прямого ответа, Егор Егорыч. Мы уничтожили Жаворонкова. Я прошу вас помочь мне уничтожить Трошина – и завтра мы уезжаем, оставив ее с огромным запасом размышлений. Я приготовил гигантский материал о вине и водке. Вино умрет. Мои возражения – это камера для уничтожения паразитов.
– Вот бы вы и уничтожили, в первую очередь, клопов в нашей комнате. Ночью у меня такое впечатление, как будто меня вынимают из оболочки.
Но тут я подумал, что, пожалуй, для успеха черпановского предприятия, а, значит, и для моего, полезнее убрать из дома суматошливого и просто умного доктора. Я предупредительно пошел к нему навстречу. Я предложил ему в целях и самообороны и более крепкого воздействия, чем диалектика захватить из ванной по доске. Вообще списывать кому-либо со счета сумму доской по голове доставляет вам известное облегчение. Доктор обещал воздерживаться от драки, добавив, что он в состоянии найти лучшее средство для удаления волос, – и он показал мне свою гребенку, похожую теперь более на платяную щетку.
Отдохнув, сыграв в шашки, – доктор весьма искусно возобновил на полу остатки чьего-то шашечного чертежа, – и вырезал из спичечной коробки фигурки. Мы, вдоль колонн, скромненько пробрались к Тереше Трошину. Доктор робко постучался, вздохнул. Не буду снимать покровы с вони и грязи фанерных перегородок, покамест хватит вам того, что я описал раньше. Появление наше исторгло у присутствующих радостные вопли, а у хозяина какие-то намеки на слезы. Три-четыре бутылки были початы, остальные, вытянувшись в красивый ряд, ждали освобождения. Поминутно улетал и вбегал Ларвин: с каждым появлением его полянки между бутылками покрывались расслабленным сыром, изнемогающей ветчиной, кусочками колбасы, словно сравнивающими сложение друг друга, удаленно розовела редиска, облегчал вашу совесть хрен, арбуз близился к концу конечным пределом своей багровой мягкости и липкостью черных зернышек, дыня, какие даются только напрокат, ливерная скользила с тарелки, требуя, чтоб с нее сняли кожу!… Великий искусник по продовольствию Ларвин! Но подождите, воспламенится вино, вот тогда узнаете, что за похититель чужих душ Тереша Трошин, субъект с отвисшим животом и передергивающимися щеками, подождите, когда он начнет откупоривать. Вот Тереша Трошин поднял платок с важностью, с которой никогда не открывали памятника хотя бы самому развеличайшему из земноводных – тише! – под платком, словно символ вознаграждения, лежал – ласковый, как селезень, готовый к абордажу – штопор! «Граждане, – безмолвно говорили слезящиеся глаза Тереши Трошина, – есть ли возражения против штопора? Уходит ли от вас хоть на минуту вся прелесть его погружающегося в кору тропического дерева сталь, избежать ли вам гула вспрыгнувшей пробки, миновать ли вам стакана, куда наклоняется горлышко, ускользнуть ли вам от катающегося пола и, наконец, упустить ли вам похмелье?»
– Она под столом, – сказал мне тихо доктор.
– Кто? – спросил я так же тихо, стараясь заглянуть под стол. Я не люблю собак, особенно когда ешь, а она кладет тебе на колени слюнявую свою морду. Теснота мешала мне. Я начал шарить ногой.
– Она толкает меня ногой, – сказал доктор. – Она от стыда передо мной залезла туда.
– Почему собаке стыдиться вас? Что вы, ветеринар?
– Не собака, а Сусанна. Вы ее не видите за столом, следовательно, она под столом.
– Она придет позже.
– Почему ей приходить позже, если я сейчас начну говорить…
– Но – тсс! – вбежал с блюдом Ларвин. Соседи делаются чужими, отдаляются – я слышу хрюканье. Ба! Блюдо заключает в себе поросенка. И какая гордая харя! Ему придется поплатиться за это. Пускай доктор отцепляет нас от вина, но поросенка надобно разгрузить. Я протянул тарелку. Доктор, презрительно лавируя среди бутылок, тоже. А почему доктору нельзя попробовать поросенка, нигде не доказано, чтоб поросенок вредил диалектике? Тереша Трошин преградил штопором поход докторской тарелки.
– Мы вас ждали, доктор, – начал Трошин, слезясь над штопором, – и встретили более достойно, чем поросенка. Ваш предварительный разговор со мной распустил в моей душе множество побегов. Я поделился ими со своими друзьями, сидящими здесь, вокруг этого соснового стола. Мы пожевали их, побеги весенние, молодые, жевать их любопытно. И вы правы! Ужасную жизнь ведем мы, доктор, ужасную и отвратительную. Да вот возьмите меня. Зачем я достаю отличное вино и устраиваю вечеринку? Чтобы напоить своих друзей и обыграть их! Позор!
– Еще бы! – сказал кто-то икая.
– Еще бы не позор! И вы правы, доктор!
Доктор отодвинул тарелкой штопор – и, не дотянувшись до поросенка, ловко славировал в сторону, левой рукой кинув по дороге на тарелку кусок ветчины. Я последовал за ним. Но штопор преградил нам обоим возвратный путь.
– Вы правы, доктор, – ветчина стоит впереди поросенка, так же как и имеретинское превышает цинандали. Но до того, как вам обесцвечивать ветчину, я закончу свою мысль, а именно: некоторые предлагали здесь ограничиться плакатом: «Карты – враг человечества», но разве не подобные же лживые плакаты разоблачили вы, Матвей Иванович, у Жаворонкова? От подобного утиного понимания надо поспешно уходить, а чертить нечто другое. Карты? Карты не причина, а следствие.
Доктор встал, открыл было рот, потянул тарелку, но штопор не так-то легко было распутать, улепетнуть от его спиралей.
– Следствие – вино. Да, сознаюсь я. Вино и еда создают шулеров и прохвостов. Верно я говорю?
У доктора имелась странная особенность: с глазу на глаз он способен был наговорить вам величайшие дерзости, присвоить вам побуждения вроде таких, что когда вы у него попросите папироску, то он заподозрит вас в сексуальной слабости или, на худой конец, в жадности, но стоило перед доктором выступить обществу – хотя бы из пяти отъявленнейших мерзавцев – с любыми уверениями, как он обезоруживался совершенно и никак не способен был отличить лжи от правды. Так и тут: едва раздалось общее: «Правда», как доктор словно пыль стер со своего лица желание покушать – и, отложив тарелку, внимательнейше уставился в слезящиеся глазенки Трошина.
– Еще бы неверно, Матвей Иванович! Мы много рассуждали перед вашим приходом, а приход ваш вытек в полную сообразность с нашими мыслями. И мы вот сейчас, смотрите, я еще никого не спрашивал, но все уже согласны…Здесь все кивнули головой, я думаю, они были основательно подвыпивши…навсегда покинуть вино, карты и еду! Мало, действительно, вывесить плакат, хотя он и возмущает совесть, но за ней не уследишь, она прячется иногда в такие закоулки, где на нее и черт седла не накинет. Надо осушить желудок кардинальнейшими категорическими мерами. И вот мы все даем торжественное обещание прекратить пить вино и есть пищу без вашего совета, Матвей Иванович. Ваша борьба за ясность жизненной программы дает свои плоды. Верно? Верно. И он тысячу раз прав, Матвей Иванович. Пишу надо принимать как лекарство, а мы что же делаем: жрем сколько влезет и когда влезет. Разрешите!
И он, теперь уже рукой, схватил мою тарелку. Я задержал ее, с негодованием наблюдая умиленное лицо доктора.
– Нельзя же выкидывать пищу, – сказал я.
– Отдайте! Он прав, – приказал мне доктор.
– Зачем выбрасывать? – сказал Трошин, скидывая обратно ломти моей ветчины. – Мы просветились, мы отвернулись от искаженного лика жизни, мы уберем ее в погреб.
Мне убийственно хотелось есть:
– Там ее просто сопрут.
– Зачем сопрут? У нас отличный железный сундук и ключ от него мы передадим доктору. Виноват, вы налили вина в стакан, Егор Егорыч?
Я уклонился от него. Но если Трошин пожелает лишить вас вина, то никому не избегнуть его руки! Он перелил мое вино из стакана в бутылку. Я в надежде обернулся к доктору:
– Убрать провизию! Засидят мухи иначе! – скомандовал он, спуская руки и мгновенно облепив себя дюжиной бутылок, водрузив поросенка на голову, хлеб на живот. Кто-то волок колбасы, кто-то сыры, кто-то свертывал скатерть, а кто-то запел: «Со святыми упокой!» Мы неслись по коридору. Впереди поросенок, разочарованно свесив голову; смещенная ветчина, откуда-то присоединились замороженные судаки с решительными глазами, коробки сардин и шпротов; в огромной эмалированной кастрюле картофель с маслом, горячий, негодованием наполнивший мое сердце. Он удалялся от меня! Затем покатились имеретинское, напареули, цинандали, развернулись вдали этикетки коньяков и отодвинулись от меня две четверти водки. Я не пьяница, но тут я понял людей, которые становятся пьяницами едва в стране введен сухой закон…
Опять – кухня. Торжественно поднялась дверь в полу, обнаружив скользкие ступеньки вниз, обрамленные сизой погребной растительностью, и ветчина, все еще продолжая испускать трогательные запахи, поросенок, сыры, за ними нырнул судак, колбасы показали последний раз сухие свои бока и нежные внутренности… Доктор напряженно смотрел внутрь могилы. Опять как не вспомнишь классиков! Сколь метко, на тысячелетия, определяли они: «Он не находил слов», – здесь и мимика, и униженная, спутанная работа сознания, здесь и бесцельные движения языка и соответствующих клапанов в горле! Однако если вдумаешься, то классики – классиками, меткость – меткостью, а современный человек плохо подходит под классические определения. Это на первый взгляд хорошо сказать о докторе, что он «не находил слов», но разве кто поверит вам: доктор чего-чего, а слова всегда найдет, в его способности расцветать словесно по любому поводу видится что-то наследственное, безжалостное, эпическое. Кстати – об эпическом. Один профессор имел дурную привычку путать эпическое с эпилептическим. И так как любое свое мнение он считал непогрешимым, то, оговорившись несколько раз, он ожесточился и вызвался подвести теорию под свою путаницу. Он письменно доказал, что от эпики шаг к эпилептике. Его теория имела успех, вероятно, потому, что читателю приятно испытывать жалость к поэту, стать в отношении к нему милостивцем. Назидательный случай! Упрямство, достойное сожаления, благодаря чистой случайности перешло в эпику. Теория его считается теперь более точной, чем диаметр земли.
Трошин, тем временем, склонился над погребом, где уже лязгали зубы сундука, на дно которого укладывался экипаж яств.
– Разрешите сказать последнее слово!
Но лучше б ему не испрашивать «последнего», ибо доктор считал всегда кровной обидой всякое «последнее», которое произносил не он. Я полагаю, что умирая, он словчится все-таки сам произнести «последнее» над своей могилой. Бесспорно, «последнее» имеет свои достоинства, оно некоторым образом соединяет в целое две части, до этого воспаленно мотающиеся где-то отдаленно, покрывает эпидермой взрыхленный грунт – так, – но зачем ему отталкивать Трошина, поднимать ладонь к уху, словно он желал указать, что неподалеку его лоб оседлан нравоучительными синяками, зачем… впрочем, Трошин, оказалось, быстрее доктора умел двигать языком:
– Мне думается, что в последнем слове я скажу о последнем виде, ожесточенном виде, который вызывает скрывшаяся пища. Подумаем, граждане, о том поступке, совершенном только что нами. Помимо его нравственного смысла, он имеет еще и бытовой, а именно: куда ж нам девать теперь эти продукты? Я их не могу продать, они приобретены нами в складчину. Я и не могу их есть. Плесневеть им? Пропадать? Тем самым наше решение перейдет в антигосударственный поступок, вместо чистой пользы. Я бы предложил вам вас тринадцать, а еды, пожалуй, хватит и пятидесяти – выкатить эту еду для тех пятидесяти персон, которые редко, не чаще одного раза в год, принимают мясную пищу. Таких мало в Москве, но если поискать, а человеколюбивый доктор примет к тому меры, то и найдутся. Мы бы тринадцать стояли у дверей и умилялись. И хорошо бы подать, которое требует, конечно, горячим. Но разве разогреешь на нашей плите, разве можно благодаря этой дурацкой плиты быть до конца человеколюбивым? Вы возразите – рядом русская печь. Русская печь!…
– Русская печь! – озлобленно бледнея, подхватил доктор. – Мы еще возвратимся к вопросу о русской печи, а пока, разрешите вас спросить, Трошин, откуда при социализме, если они не вегетарианцы, появятся люди, употребляющие однажды в год мясо? Они бездельники, алкоголики, и общество не должно беспокоиться о них, и я не филантроп. А исключая этих бездельников, я утверждаю, что в Москве не найдется пятидесяти человек для обеда. Срок вам сутки. Печь? – Он подбежал к целу, достал заслонку и, поднимая ее к уху, продолжал: – Вернемся к вопросу о знаменитой русской печи. Вот она перед вами! Печь. Из нее же вылилась и русская баня, не менее знаменитая. Почему баня из печи? И позже печи? А хотя бы потому, что мужики, не имеющие бани, парятся в печи, в то время как владеющие баней не вздумают в банной печке изжарить даже яичницу. Сколько пролито слащавых слов об этой печи? Сколько художников зашибло монету, изображая, как с нее глядит на мир, свесив ноги, лапотный, непременно, почтенный старец? Однако статистика знает, сколько она развела паразитов, породила трахомных и сифилитиков. А вспомните гигантские глиняные корчаги, которые подавали бабы ухватами; колченогих младенцев, родившихся, как результат подобного гнусного труда! А вонь! А сырость? А пожары? Нет. Русская печь, так же как и баня, – отвратительна! Это создание ужасного народа, на котором лежит вершковая грязь, которую только и можно отмыть, согнав с себя неистребимую вошь, в жутком паре бани. Только при дико раскаленных кирпичах удастся вам прогреть свое тело, измученное морозами, с костями, исковерканными ревматизмом, и просушить те нищенские лохмотья, те овчины, которые день-деньской мочит буран или дождь, выбирайте, неустанно висящий над деревней, так что жизнь представляется вам как бы сквозь неизменную сетку влаги. Блистательный конец вы придумали, Трошин, этому кирпичному зверю. Пусть он разгорится последний раз, чтобы при пламени его увидеть, как не найдется в Москве пятидесяти человек, которые однажды в год едят мясо. Сутки вам даю, Трошин! Пятьдесят человек! Но чтоб они исчерпывающе доказали, что они не бездельники и не пьяницы. Тащите дров!
Поступок его, наступивший сразу же после слова о печи, был настолько же стремителен, насколько неожидан. Доктор откинул заслонку и прыгнул в цело. Меня оттеснили, поэтому я успел лишь схватить доктора за каблук, который он свирепо выдернул. Не говоря о необходимости осмотра печи, трудно требовать успешности этого осмотра. Цело печи указывало на полную ее ветхость, а если доктор заденет верх, то это лучший способ не произнести над собой «последнего», так как трещины и вогнутая спина ясно указывали те причины, по которым, помимо технической ее отсталости, печью прекратили пользоваться. Поднялся шум. Кто-то предлагал пари: два червонца, что доктор не вернется. Косорожая личность осведомилась – есть ли у доктора дети и нельзя ли успеть позвать их для прощания с отцом. Доктор, чихая и сморкаясь, крикнул из нутра, что передвигаться ему трудно и обследование затянется. Нашли две лопаты и круглые березовые поленья. Доктор лег на лопаты, ничком, и его покатили. Деяния доктора указывали на явную его малограмотность в печном деле: если уж обследовать, то лучше в первую очередь дымоход. Само собой ясно, что как только выяснилась относительная безопасность печи, «трошинцы» предались веселью и шуткам, помогла тому и тяжесть шестидесяти докторских кило – лопаты треснули, с поленьев слезла кора. Кто-то перочинным ножом щепал лопаты – пора, мол, растапливать печь, а за пятидесятью дело не станет – только выйди в переулок и воззови! Глухо доносился из печи голос доктора!
– Слушайте, а если он не повернется в печи? То есть, как так не повернется? Да она больше выгона! А что же преграждает ему дорогу? Из чего ты это вывел? Голос глухой. Глухой, может, и с похмелья. Не повернется, так мы его ухватом. Где ухват? Вот ухват. Трошин, бери ухват! Э, да ему и чугунок не поставить, не то что доктора. Мне не поставить? Ставлю одновременно чугунок и сковороду. На одном ухвате. Тащи! Чего тащи! Тащи сюда чугун и сковороду!…
Намеренно ли, случайно ли, но Трошин плохо орудовал ухватом. Чугунок, до половины наполненный водой, опрокинулся. Доктор, по-видимому, тогда же прекратил свои исследования: ухват выскочил из рук Трошина, исчез в печи с тем, чтобы тотчас же возвратиться и проникнуть в живот Трошина. Тот ответил поленом. Доктор не сдавался: осколок кирпича угодил в бороду почтенного моего соседа, почтенность которого, признаться, я только что разглядел. Плодороднейший по брани человек! С наслаждением любовался я, как он кулаками, полными опытностью, ринулся в печь и как оттуда сверкнул сапог, значительно освеживший асфальтовый цвет лица почтенного моего соседа. Я думаю, что доктор давно решил – пора приступить и к словесному истолкованию итогов печной разведки, но встречные кирпичи, палки и поленья мешали ему. Течение битвы не излилось, а еще более поднималось выше, я смог уловить это по тому успешному удару, который неожиданно получил я и который едва не свернул мне шеи, не улови я возможности улечься на пол. Неудача эта помешала мне изобразить вам подробно нужную последовательность событий, добавлю, что почтеннейший мой сосед с рыжей бородой догадался зажечь бересту и щепки с тем, чтобы выкуриванием уловить доктора, а уловив – подавляющим большинством избить. Береста вспыхнула, щепки подхватили пламя – дым порхнул в печь. Но – задушить доктора, дерзать на него… Эти трошинские слизни плохо знали зону своих возможностей! Самая мясистая часть доктора, мокрая чугунок, как выяснилось впоследствии, целиком опрокинулся на нее – величаво показалась среди дыма и – уселась в пламя. Ногами же, – объявляю еще раз об удивительной ловкости докторских ног, – он веером швырнул во все стороны остатки пламени и углей, поленом огрел по плечам Трошина – он получил, что можно получить при данном состоянии – и сдался. – «Покорнейше благодарю за помощь, – крикнул доктор, свешивая ноги. – Печь пригодна!» Он готов был рассыпаться в похвалах – себе и прочим, – но, во-первых, кухня обезлюдела, а, во-вторых, кишечник его начал опоражниваться тем способом, который преимущественно свойственен крепкому похмелью. Параллельно центральному синяку – у него появились еще два, выпуклость носа расширилась, извергая сажу и золу. Я поднес к носу его платок, и последний воспользовался с успехом редким случаем превратиться в кусок черного драпа.
Я взвалил доктора на плечи.
Коридор пустовал.
Изливая из себя излишки, доктор с удивительной покорностью растянулся на матраце.
* * *
Читатель вправе, – если он судит поверхностно, – сетовать на повышенную медлительность моих воспоминаний… Действительно, пролетело сколько страниц, а толкование событий о короне американского императора не подвинулось ни на шаг! Точно. Я и сам негодую: и зачем я приплел сюда детективную историю американской короны? Как будто нельзя ее вышелушить без всякого изъяна: как будто спокойное, последовательное течение мемуаров потеряло у нас ценность; как будто жалкая погоня за призрачным золотом выкинь я его! – заметно уменьшит мужество моих читающих друзей; как будто современный роман основан на лжи, выдумке, на приобретении читателя хитростью, на умении заставить изнемогать его над загадками. Нет! Полномочный современный роман должен усовещивать, убеждать, – не хватая через край, – о всей сложности наших внутренних переживаний, направленных к просвещению и к выручке друг друга; о том, что нас подкарауливают упраздненные должности, достигают простуды прошлого, а карусель жизни не бессодержательна! Но что поделаешь, если ясность и правда мышления, воспринятые несомненно мною от доктора, не позволяют мне вычеркивать события, как бы архидетективно они ни звучали и как бы они ни мотали меня то туда, то сюда, а читателя путали. И я полагаю, что общее наше стремление к истине позволит мне выторговать у читателя необходимую мне медлительность для полного объяснения и разузнавания фактов, которые мне пришлось наблюдать. Добавлю, что истину мне приходится доставать с бою – и буквально, как вы поняли из предыдущего рассказа, и фигурально, ибо дальше первых десяти глав терпеть корону американского императора можно только или притворяясь, или разрешая себе быть полным и признательным, вдобавок, к своей пошлости дураком. Какую истину? – спросит обнаглевший и распоясавшийся от лести читатель. Истина, дорогой мой, отвечу я, воспользовавшись случаем понравоучительствовать, истина – хрома, часто устает и отстает, поэтому нет ничего удивительного, что она добредет до тебя только к концу моих воспоминаний. Терпите истину, дорогой мой, ее плод сладок, хотя – качаясь на ее косых плечах, вы, иногда, испытаете нечто вроде того, что испытал доктор, когда он – в прошлой главе, – покинул русскую печь.
Чуть лишь доктор зашевелился утром в постели, я поспешил покинуть нашу каморку, предпочитая иметь выводы, чем наблюдать борьбу различных толкований. Достигнув Пречистенской площади, я свернул влево от светло-голубого забора вокруг храма Христа Спасителя, по Гоголевскому бульвару. Стоит ли напоминать кому-либо о киновари выпуклых московских бульваров поздним летом. Превосходно памятна густая пленка пыли, через которую, как во сне, вы пытаетесь узнать сорт дерева, и, если вы не ботаник и ваше воспитание не благоприятствует вам, – то долго, словно призраки, возбуждая сознание, идут за вами деревья. А явление дорожек, утоптанных любовниками и детьми до крепости гранита? А заерзанные скамейки, пахнущие баней, дающие возможность проявиться воочию тем позам, которые были б иначе воображаемыми, не услади эти скамейки влюбленные своим присутствием. А мамаши, а дети? Каждый бульвар добился своего сорта мамаш: тощий Гоголь видит перед собой полненьких, а цветной Достоевский – худеньких. Я настоятельно рекомендую вам осмотреть бульвары именно для того, чтобы проверить, не ошибка ли здесь написанное, ибо вы освежитесь исправлением ошибки, которая никак не отразится на лишнем выходе книги из печати!
* * *
От составителя: Предыдущая глава составлена с великим трудом. В записках своих Егор Егорыч явно многое замалчивает – да что в записках, мало ли кто замалчивает темные дела свои! – но и в разговоре с нами Егор Егорыч был скрытен и суров касательно переживаний, которые он испытал в предыдущей главе, отделываясь преимущественно лирико-эпическими возгласами и прибаутками, в частности он рассказал:
«Индийскому полководцу понадобились деньги. Он призвал факиров и дервишей, которых расплодилось в стране невероятное количество, и заявил им: «Я прошу вашей помощи, святые отцы!» Святые отцы отвечали: «Невозможно, и без того босы и ходим в рваном». – «Правильно, – воскликнул полководец, – одеть их, снять с них рвань!» – Отцы возмутились: они, видите ли, привыкли ходить в рваном. Солдаты тоже негодовали: тратить одежду на монахов, когда они, солдаты, нуждаются. Назревал раскол. Полководец все-таки раздел святых – и приказал бросить их одежды в огонь. Одежды сгорели; поскольку святые отцы имели привычку зашивать в свою рвань золото, постольку и нашли в потухшем костре многие тонны такового».
Рассказ любопытный и даже, с какой-то стороны, поучительный, но, по моему мнению, Егор Егорыч путал нас сознательно. Просто-напросто ему было стыдно признаться, что в результате беседы на Гоголевском бульваре между Черпановым и Мазурским, – беседы, куда неумело влез со своими предложениями относительно братьев Лебедевых и сам Егор Егорыч, беседы, где, возможно, Черпанов желал узнать причину возрастающей холодности Сусанны, причину, которой страшился дико Мазурский, сей прыщавый и отвратительный юноша с пропитыми и гнилыми глазами, причину, которую он не знал и боялся узнать, но подозревал здесь работу Савелия Львовича, шмыгающего старичка, вежливенького и скучненького, но мерзости необъятной, причину, по которой Людмила Львовна завидовала своей белокурой сестре, для которой (по мнению Мазурского) Савелий Львович открыл какие-то гигантские возможности, – словом, в результате беседы Мазурский покинул свои чистильные принадлежности, сказав Черпанову, что пройдется «до ветра», и скрылся, – опять-таки это только догадки, – на Урал, предупредить братьев Лебедевых. А о чем предупредить и почему надобно предупреждать – нам неизвестно пока. Неизвестно также, узнавал ли Егор Егорыч о заграничном «американском» костюме: у кого он находился и имеется ли он вообще, и с этой целью, по-видимому, Черпанов оставил его наедине с Мазурским. Подозреваем, что Мазурский сказал ему истину, а именно, что никакого заграничного костюма нет и не было, что по рукам ходит зеленая суконная поддевка, которую по приезде своем Черпанов «загнал» Жаворонкову. Нам кажется подозрение это очень основательным, уж как-то слишком финтит Егор Егорыч, как-то слишком увертывается, когда разговор начинается о костюме «американском». Вы скажете, почему же он сразу не сказал об этом Черпанову? Унизить идеал свой боялся! Предполагал, как многие предполагают, – утрясется, мол, или – забудет, отвлечется на иные мысли, что, наконец, Черпанову костюм? Кроме того, напомним вам, что все время Егор Егорыч мечтает быть секретарем «большого человека», а таковым он мнит Леона Черпанова, вспомните его отношение к конверту за 9-ю печатями, к возможности заработать 34.500 рублей…
Короче говоря, эта глава у нас не вышла, в чем и приносим мы вам крайние наши извинения. А впрочем, какую ценность имеет одна неудачная глава, лишь удачно напиши предисловие.
Продолжаем беседу
Доктор лежал изнуренный, исхудавший, вяло вздыхал, с расползшимся по голове компрессом. У матраца играл прутиком крошечный котенок. Доктор взял котенка за лапку.
– Слабительного приняли б вы, что ли, вместо дрессировки.
– Я не дрессировщик, Егор Егорыч. Я сопоставляю две лапки. Проснувшись, я подумал, что случается, иногда, и не съеденный ужин обладает похмельем. Чьи-то шаги послышались возле дверей. Я подполз к щели. И ножки! А, что вы понимаете в ножках, Егор Егорыч?
– Если в телячьих…
– И не стыдно?
– Еще и стыдите! Зачем вам прививали культуру, чтоб подсматривать в дверную шель?
– Как раз-то мне и привили ту область культуры, которая граничит с дверной щелью. Я говорю о любознательности, Егор Егорыч. А ножки! Понятен ли вам, Егор Егорыч, угол вылета хорошенькой ножки в современности? Укромным взором вы накрываете этот вылет. Но к нему нужно относиться закаленно, иначе тривиальнейшие мысли завладеют вашей головой. Вы спуститесь до таких гнусностей, что длину юбки, обнажение ножки подведете под нисходящие и восходящие токи революции. Пошлость, внушающая отвращение! И вы вправе негодовать на меня, если в такую щель я буду подсматривать, Егор Егорыч. Но выбрать одну приличную, совершеннейшей формы, ножку – достойно и большого вкуса, отшлифованного, взращенного на дрожжах искусства, и достойно свободного ума. Лицо, скажете вы? Ай, Егор Егорыч! В лице любой дурак разберется, а отделить, не говоря о том недоброжелательстве филистеров к ножке, безвкусица которого уже скоро превратится в поговорку (в свободное время мы ее придумаем, Егор Егорыч), отмежевать, но не уступая совсем, влияние ножки на ваше сознание от идолопоклонничества – работа по плечу опытному умственному анатому; я бы даже утверждал, что подобная работа как некоторый сорт плодов, полностью дозревающих в лежке…
– То-то я не слышал раньше от вас, Матвей Иванович, подобных ценных отвлеченностей.
– Меня всегда удивляют еще больше, Егор Егорыч, мужья, которые зачастую ревниво стерегут добро, уже давно не принадлежащее им. Однако не будем сворачивать, я и без того замучен телесными невзгодами. Итак, я ее встретил впервые на Петровке. Она довольно редко показывается. Надо думать, что я доберусь когда-нибудь до глубин причин этого редкого показывания. Не отпираюсь: я буду говорить банальности, Егор Егорыч, но говорю я их только для того, чтоб вы не думали обо мне, как об исключительном индивидууме. Докладывал ли я вам, что Петровка – улица, где вы встретите самых красивых женщин Москвы? Не тех раскрашенных дур, которые в центре величайшего революционного города подражают подлейшей, скучнейшей провинциальной лавочке, именуемой Парижем, лавочке, давно лишенной творчества, лихо обворовывающей искусства мира от китайского до византийского, – причем дуры эти подражают так же, как готтентотские царьки носят фраки, то есть, на голое тело, – нет, я указываю вам, Егор Егорыч, простых скромных женщин, для которых не показать свою красоту хотя бы один раз в декаду на Петровке столь же трудно, как если, изменив гласный звук в коренном слоге, не сломать смысла этого слова, а через это, иногда, и целого понятия. Чем вызвано появление их? Женщин, Егор Егорыч, а не слогов. Попробуйте вспомнить эту уютную и какую-то теплую улицу, которая чрезвычайно легко вливается в Театральную площадь с ее колоннами, с ее конденсированной четырехактовой фантазией; она кончается Мосторгом, начинаясь ортопедическим институтом. Мосторгом, этим младенцем торговли, яростно натягивающим громаднейшие штаны. Облизываешься, когда думаешь о Петровке! Соскоблит уныние свежее личико с приятным носиком, мелькнут губки, которые через любую краску все-таки напомнят вам свои очертания. А ножки! О, как трудно, Егор Егорыч, выбрать на Петровке ножки, с которых вы уже не сможете никогда сделать скидки. Прах вас дери, Егор Егорыч, улыбнитесь! И секретарь большого человека, – с глазу на глаз – имеет право побеседовать о хорошеньких ножках. Нет? У вас превратные понятия о секретарях. Впрочем, что нам секретари! Завалите вы сучьями, суньте затем в стог сена, залейте глиной, залепите асфальтом и посадите сверху еще секретаря, все равно, очертания хорошенькой ножки будут видны довольно явственно и оцарапают ваше сердце. В институте радия есть экранированная комната, в которой хранится весь запас радия всего Союза. Запас этот, несколько грамм, лежит за свинцовыми стенами в здании, которое не имеет окон, за толстыми свинцовыми дверьми, и все-таки, когда темной ночью вы войдете в сад института, вы разглядите сквозь свинцовые стены и двери мерцающую легким светом туманность. Это радий. Так и женская ножка… А, не обобщайте образа, Егор Егорыч.
– О темной ночи, в которую виден радий? Пока вы говорите о женщинах нашего класса, Матвей Иванович, ваш образ я понимаю, но вблизи женщин, чуждых нам, он, волей-неволей, приобретает сомнительную окраску.
– И когда я взглянул в щель!…
Доктор приподнялся, сдернул компресс. Синяки занимали все его лицо, нос распух, звук его голоса носил явно измененный, охрипший характер. И все-таки его нельзя отвлечь в сторону: все-таки он улыбался и сквозь отложения ударов размеренно клокотала его радость.