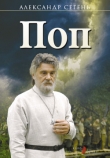Текст книги "У"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Доктор поднял руку к уху: левую к левому. Я понял это, как крайнюю растерянность.
– Мои интересы близки вашим, Черпанов. Будем соседями. Соседи характеризуются обычно ссорами. На какой-то короткий промежуток мы обойдемся без ссор. Наконец мы обсудим, ехать ли с вами на Урал, если вы для упрашивания считаете необходимым принять столь унизительную позу.
Черпанов поднял голову, вгляделся, отнял руку от булыжника. Присел на корточки. Потянулся было к портфелю. Доктор тщетно водил левой рукой возле левого уха.
– Позвольте, – воскликнул, приглядываясь, Черпанов. – Позвольте! Мы поверстаемся! Вы же не Лебедевы, честное слово, не Лебедевы!
– Не Лебедевы, – скромно ответил доктор.
Черпанов вскочил. И тут кулак его в пагубном бешенстве понесся по всему пространству ворот и опустился на голову доктора! Матвей Иванович присел. Я устремился к Черпанову. Вторично кулак нарисовал параболу ворот, приближаясь к моему уху. Я поднял навстречу узелок с провизией, который мы запасли в дорогу. Кулак пробил узелок. По тротуару покатились булочки, пирожки, куски колбасы, яйца.
– Нужно ловить яйца! – воскликнул лежа доктор. – На них сделал карьеру Христофор Колумб. Мы будем питаться яйцами в далекой дороге к вам на Урал.
– На Урал? – переспросил Черпанов, сдерживая кулак. – Удивляюсь!
– Да, я пришел с тем, чтобы поехать с вами на Урал.
Черпанов опустил кулаки.
– Да ты что, безработный?
– Безработный. И мой товарищ тоже.
– И товарищ безработный? Три дня хожу по Москве – и нашел впервые безработных. Инженеры?
– Нет.
– Техник?
– Доктор. Уха, горла и носа.
– Матвей Иваныч!… – воскликнул я. – Куда махнули?
– Уха, горла и носа, Егор Егорыч. Что же касается моего товарища, Леон Ионыч, он рожден секретарем.
– Беру и его! – и Черпанов, разжав кулаки, уже не приседая, а склонившись корпусом, кинулся собирать яйца. Доктор сел на скрещенные ноги, поднял правую руку к правому уху. Оно у него явно отличалось цветом от противоположного, но доктор вообще был скорее широк, чем низок. Отпала какая-то частица, «сковырушка», – и доктор мог говорить.
– Удивительно наблюдать, – начал он, – когда уже открыты все новые земли, человечество еще бредит Колумбом. Путешествия вдоль земли кончились, пора вглубь, и недаром хитрый Колумб разбил яйцо. Он боялся, что его забудут. И теперь он постоянно напоминает нам о себе. Мы разбиваем скорлупу планеты и скорлупу наших чувств. А он, древний, стоит подле нас и хочет нас увлечь вдоль пространства… Как вы относитесь к Колумбу, Черпанов?
– Уважаю, – сказал Черпанов, помогая мне завязать узелок.
Вернусь назад, обозревая ненаписанные главы. Приятны такие возвращения; мелькают перед тобой годы; люди стареют, растут, или вообще их не замечаешь; не нужна мебель, одежда, да и насчет описания физиономий тоже туго: или спутаешь или явно наврешь, так что и самому противно перечитывать; от разговоров остается только главное (по твоим понятиям, конечно); от любви наиболее легкое и приятное; от злобы – бегство и ничтожество твоих врагов!
Последние два года я провел в должности счетовода психиатрической больницы имени Э. Крепелина, что в полутора часах езды от Москвы. Больница наша почти отлично оборудована, с прекрасным медицинским персоналом, великолепно снабжается благодаря своему хозяйству: имеем свою молочную ферму, огороды, птичий двор, где гуляет удивительно рослый племенной петух, серый с синим – до того налит густой и мощной кровью – гребнем, прозванный «Наполеоном», есть лесопилка, кузница. Директор, выдающийся специалист клинико-нозологической психиатрии проф. Ч., пользуется отменным авторитетом среди общественности. Работы у меня было много, но работы легкой, я хорошо питался, занимался спортом и – в силу свойственного мне честолюбия, которого мне до сего времени никак не удавалось не только насытить, но даже вот этакенькую – с горошинку – капельку, проглотить, – я мечтал, бродил берегом Москвы-реки, рыбачил, читал: то по химии, то по ботанике, то по стиховедению, а в общем-то считал себя посредственностью, в силу чего и мечтишки мои были посредственные. Однажды, на теннисной площадке, я познакомился с доктором Андрейшиным, ординатором палаты «полуспокойных».
Матвей Андрейшин, сын сельского учителя, еще в юности обнаружил редкий дар красноречия. Летом 1918 года под Казанью его старший брат председательствовал в каком-то Уисполкоме. Семья Андрейшиных славилась храбростью, – председатель Уисполкома превосходил всех. Случилось, что чехословаки напали на городок. Часть уездных красногвардейцев защищалась, а часть струсила и бросилась к пристани, где, груженный продовольствием и снарядами, стоял пароход «X. Колумб». Председателя направили остановить дрогнувших. Он вскочил на коня столь взволнованный, что не заметил, как младший брат уселся позади седла, вцепившись в хвост. Поскакав к пароходу, который дымился, шипел, клокотал и собирался показать великолепное «дралала», председатель остановил круто коня, выхватил маузер (утверждают, что он держал его в правой руке, подняв до уровня правого уха, я этому не верю: рука дрогнет) и потряс всю пристань удивительной и ловко склеенной, как соты, бранью. Красногвардейцы тоже бранились и тем временем втаскивали дрожащие трапы и торопили кочегаров. Тогда Матвей – это было его первое изречение (говорят, оно заимствовано, – какая беда! – первые работы А. Пушкина были тоже зело робки и подражательны) – сказал, держась за хвост: «В ругани побеждает тот, который молчит!» Брат обернулся к нему: «Выпалю я!» сказал он. Матвей ответил ему, что вряд ли выпалит больше одного патрона, а пусть-ка он говорит, что ему будет подсказывать Матвей, так как сам Матвей не обладает сотрясающим голосом.
Через полчаса трап, дрогнув, потащился обратно, а через час красногвардейцы вскинули винтовки – и «чехи сотряслись и полки их разверзлись» – так сообщала передовица походной газеты. Матвей вернулся с конем, подаренным ему красногвардейцами (коня они по дороге отняли у богатого колониста); он променял, через день, коня на казанском базаре на связку философских книг – и уплыл с красногвардейцами. Пароход, по его предложению, переименовали вначале «И. Кант», затем «Гегель», «Юм», «Спенсер», «Ницше», закончив «Ф. Лассалем». Он поехал в Университет. Окончив Университет, он пришел к выводу, что в своей медицинской работе он должен применять методы душевного уговаривания и доказательств на основании хороших логических доводов, словом, он был поклонником Дюбуа и его системы «переубеждения». Если б, думается мне, не обаяние его молодости, его мягкого овала лица, его почти прямого носа, что в нашей стране телесной расплывчивости уже одно является заслугой, его глубокосидящих, почти постоянно полузакрытых малахитовых глаз, его летящей походки, которая часто оканчивалась сидением на скрещенных ногах и манерой во время разговора поднимать ладонь в уровень с лицом, чуть потрагивая мочку уха большим пальцем, – вряд ли б ему прощали его диалектику, его щедрость на слова, его красноречие, которое, казалось ему, опираясь на объективные данные, одно может исчерпать вопрос. Но, мало того, он впивался часов на шесть в вашу субъективную душевную установку, освещал ее с такой бесцеремонностью, что у вас дня два болели зубы, и под конец он самым тончайшим образом расчленял ваши психофизические связи и механизмы. Я не поклонник – ни системы психоанализа, ни систем, противоположных ей, я считаю, что, кто умеет лечить, тот пусть и лечит, даже смешивая в кучу все системы мира. Поэтому однажды мне пришло в голову попросить д-ра Андрейшина «переубедить» меня курить отвратительный табак. Я курю много, и мне кажется, что если я буду курить плохой табак, так это мне занятие скорее надоест. Я покупаю табак на самых грязных рынках и у самых грязных продавцов, так что, когда он сыплет мне эту бурую чепуху в карман, я закрываю глаза от отвращения. Доктор с величайшей готовностью и необычайно веселым лицом согласился исполнить мою просьбу.
Он провел со мной семнадцать обстоятельных собеседований, не считая случайных бесед на теннисе, на купании или при игре в городки. Он натаскал и ко мне, и к себе гигантское количество литературы, я никак не предполагал, что о табаке могло быть столько написано. Он доказал мне совершенно непреложно, что табак знали и до открытия Америки, причем, по дороге, два дня провел сражение с Хр. Колумбом, к которому он питал крупную антипатию, считая его симулянтом, лгуном и человекам самых низких моральных качеств. Он подошел вначале к табаку биологически, указал на его наглую жизнеспособность, затем направился к нему социально. Что здесь было! Мне и сейчас страшно вспомнить те минуты, которые мне пришлось пережить под канонадой его диалектики. Какие армии искалеченных и несчастных катились мимо нас! Какие сцепления недоразум02-UYNOGJIGений мучили людей! Но все это оказалось пустяками перед тем, что он обнаружил во мне, особенно с патолого-сексуальной стороны. Оказалось, что не зря я хожу на рынки, вращаюсь среди отвратительных продавцов и, особенно, зажмуриваю глаза. Он заставил меня вспомнить, что еще в двухлетнем возрасте я был склонен если не к убийствам, то к насилию над своей няней во всяком случае. Моя жизнь представилась мне сплошным изуверством, вокруг меня создалась такая атмосфера, что я дико напугался и у меня вдруг обнаружились явные признаки отравления. Я не видел путей преодолеть мои немощи, мои душевные конфликты, мои социальные комплексы. А доктор уверял, что, в сущности, терапия его еще не начиналась. Я попросил его прекратить «переубеждение» и вернуть мне хотя бы часть моего душевного мира. Он сказал, что согласен, что воздействие убеждением более пригодно для зрелых и разумных людей или при более сложных неврозах, чем мой. На это я ему ответил, что последним замечанием он мне доставил живейшее удовлетворение. Доктор улыбнулся с лучезарной восторженностью, и мы прекратили учение.
В конце нынешнего лета получил я отпуск и путевку в дом отдыха где-то под Минском. В эти же дни доктор Андрейшин уезжал вторым секретарем советской делегации на съезд криминологов в Берлин. Честолюбие мое и тщеславие заставили меня подумать: «Что б поехать тебе, Егор Егорыч, вместе с доктором до Минска. Побеседуешь в дороге, сдружишься, и, кто знает, может быть, какие-нибудь удивительные пути он укажет тебе. Возьмем, хотя бы, должность секретаря. Разве ее сравнишь с должностью счетовода? Секретарь всегда на виду, секретарь может многое услышать, выбрать какую-нибудь ударную профессию, подучиться, наконец!» И я направился к доктору Андрейшину. Мог ли я ожидать, что этот ничтожный повод заставит меня столкнуться с удивительными событиями, узнать удивительных людей, увидеть удивительные и даже неправдоподобные страданья и самому испытать совершенно уже неправдоподобные муки и сомнения; встретить Леона Черпанова с его сконсовыми усами – и без оных; Савелия Львовича; замечательное семейство Мурфиных и все остальное, что побудило меня написать эти искренние строки.
В светлой высокой комнате, в белоснежном халате, бритый, причесанный, точный, хотя и многословный, сидел за письменным столом доктор Андрейшин. Против него, в плетеном кресле, в хаки, багровый от негодования, возвышался М. Н. Синицын, рабочий, недавно назначенный к нам, – говорят, в связи с делом ювелиров А. и Н. Юрьевых, – заведующим хозяйственной частью больницы.
Доктор оканчивал речь. Из этого я понял, что, во-первых (доктор покраснел при этом признании), он влюблен и влюблен в объект, который имеет, по его мнению, прямое отношение к болезни ювелиров, а во-вторых, он настаивает, что и предложения проф. Ч. о диагнозе болезни и пожелания М. Н. Синицына о той же болезни – ошибочны. Необходимо исследовать всю совокупность обстоятельств, – со стороны психической! Например, если б, по его предложению, вызвали девушку, в которую восемнадцать лет назад влюблены были ювелиры, и если б эта девушка оказалась блондинкой, это обстоятельство пролило бы свет в историю их болезни. Ибо та девушка, с которой он должен непременно проститься перед тем, как уехать за границу, – блондинка, и она знала ювелиров, хотя никаких юридических доказательств, кроме пуговицы, у него нет.
И я и М. Н Синицын, правда, по различным совершенно причинам, смотрели на доктора в крайнем изумлении. Я – потому, что те еще плохо уловимые, но уже странные формы, в которые выливалась любовь доктора, никогда не встречались мне и казались для моего честолюбия и тщеславия как раз-то необходимыми для меня; М. Н. Синицыну с его конкретным, хотя несколько и суховатым, разумом сводить всю сумму жизненных явлений только к явлениям биологическим, как это проделывал доктор, было не только бесполезной, но вредной растратой тех знаний, которые приобрел доктор Андрейшин.
– Любопытненько, – сказал он со злостью, держа в руках пуговицу, которую ему передал Матвей Иванович.
Оно точно: болезнь ювелиров была любопытна. А. и Н. Юрьевы, направленные в нашу больницу и попавшие в палату «полуспокойных», знаменитые мастера так называемой ост-индийской гранки (когда бриллиант гранится сообразно форме натурального камня) особенно славились по работе над бриллиантами черной воды. Само собой, они отлично исполняли и чекань. Говорили, что вся история началась с того, что государственная мастерская, где они работали, вдруг оказалась ограбленной. Не утверждаю, но передавали, что исчез ящик с золотыми часами, штук этак двести. Поискали, пошарили, но так ничего и не нашли. Братьев никто, конечно, не заподозрил, слыли они за честнейших людей, страстно влюбленных в свое дело, полнейших бессребреников, и тем более удивило всех, что – когда братья выявили явные признаки сумасшествия и квартира их была опечатана (они жили одиноко, даже не имея работницы) – у них обнаружили несколько часов из того ящика, который пропал. Отсюда и начинается для меня удивительное и непонятное.
Еще за месяц до того, как я услышал о болезни ювелиров и о краже ящика, покупая табак на Сухаревке, я уже уловил болтовню о короне американского императора. Вам знаком, наверное, гомон этой многотысячной Сухаревской толпы, эти странные напряженные лица, этот пот алчности, этот страшный и жалкий сброд, – они не воспеты еще достойным пером, эти базары революции! Я услышал, – тогда я не обратил на говоривших должного внимания – разговор, что большевикам, мол, у которых нашлись самые лучшие ювелиры в мире, влиятельнейшей политической партией Америки заказана корона для будущего американского императора, причем за работу будет уплачено дефицитными товарами, то есть как раз теми, которыми торгует рынок. Высказывалось мнение, что слух этот пущен для того, чтобы понизить цены на товары, произвести панику, но находились и сомневающиеся, которые говорили, что это обычная болтовня вроде знаменитых грабителей на пружинах или черного автомобиля, хватавшего в прошлом году на улицах Москвы и Ленинграда женщин, коих привозили в неизвестный дом и заставляли мыть окровавленные полы, а затем с благодарностью отвозили обратно…
Но тут вдруг слух и подтвердись! На двух высоких табуретах перед многотысячной толпой встали братья А. и Н. Юрьевы и вперемежку, потому что орать надо было сильно, чтобы быть услышанным всем рынком, произнесли речь. Сущность этой речи, как мне передавали, заключалась в том, что, по общему мнению, Америка медленно, но непоколебимо побеждает и победит весь мир, начиная с Англии и кончая Советским Союзом. Для этой великой войны там производятся огромные приготовления, но так как для победы и для удержания власти необходимо сосредоточить полноту властвования в одних руках, то в Америке неизбежно появление императора. Однако какой же император без короны? А заказывать корону американским ювелирам нельзя в силу их бездарности и в силу того, что противная партия может разоблачить, поэтому-то глава партии, под видом интуриста, приехал в СССР, нашел их лучших ювелиров XX столетия, и заказал им, тайком от советской общественности, корону. Им нужны деньги? Нет. Против славы не могли устоять они, – в чем теперь и раскаиваются! На вопрос же, где корона и почему она не передана соответствующим врагам, они заявляют, что корона – на которой осталось только поставить имя ювелиров, их марку – то, ради чего они только и производили работу, – обманно похищена заказчиками! Спрашивается, зачем же обращаться им к Сухареву рынку? «За помощью, – отвечают они, – бегите вместе с нами, догоним и отнимем корону, помогите поставить на ней нашу марку! Корона в два кило червонного золота удивительной чеканки, по низу украшена «увороватом» зеленым гранатом Урала, а по верху – сплошь розетами из горных бриллиантов, сообразно количеству штатов Америки. Для правильной организации погони они предлагают избрать комитет!…» Казалось бы, что такое вздорное заявление должно было рассеять все слухи о короне, возникшие на Сухаревом, а оттуда распространившиеся по Москве, да и к тому же многие узнали в ораторах тех людей, которые и раньше много бродили здесь, болтали о короне. Но оказалось наоборот, выступление ювелиров Сухаревка рассмотрела как маневр к тому, чтобы замять слухи!
Обследование, которому подверглись ювелиры в нашей больнице, выдвинуло диагноз проф. Ч., по которому заболевание ювелиров являлось органическим следствием механического инсульта за счет основной инфекции, каковую определили как процесс бокового аммотрофического склероза, так что травме, если она и имела место, принадлежало второстепенное влияние. На этом диагнозе, собственно, и разгорелся спор. Часть врачей, к которым примыкал и наш директор, принадлежала к последователям Э. Кремелина, отстаивая теорию «нозологических единиц» против новейшей системы симптомокомплексов, то есть, грубо говоря; за возможность подведения болезней человека, его психики под твердые и неколебимые разновидности с точно установленными патолого-анатомическими признаками, как сказал Гохе: «искание раз навсегда установленных процессов, однородных по этиологии, течению и исходу» Другая часть, а к ним принадлежал и д-р Андрейшин, отстаивала борьбу за детальное углубление в психику и, в частности, случай с ювелирами находила явлением психогенным, следствием неизвестной нам эмоции – шока, считала, что ставить диагноз, особенно такой, какой поставил проф. Ч., едва ли предприятие не легкомысленное, что надо разобраться, что прежние неудачные исследования врачей внушили больным мысли о их неприспособленности к жизни, о необходимости «бегства в болезнь».
Пока шли эти споры, – естественно, что до меня доносились только слабые отзвуки их, да и нельзя же, на самом деле, устраивать в больнице диспут, – положение больных ухудшалось, постельный режим не помогал, зрение ослабевало, тоска увеличивалась, а разговорчики насчет американской короны все росли и росли. Я получил несколько писем от знакомых, предлагающих зайти к ним на чаек, причем я уже давно и забыл об этих знакомых. Я, догадываясь о предлоге их приглашения, промолчал, – тогда они явились сами. Родственники какие-то обо мне вспомнили. Если ко мне, счетоводу, было такое внимание, причем, всех нас, когда мы на станции садились в дачный поезд, расспрашивали о больнице и об ювелирах, то представляете, каково же было медперсоналу? Все мы ожидали крупного медицинского скандала, особенно при страстном характере д-ра Андрейшина, возглавлявшего течение «увеличенной психотерапии», но тут неожиданно проф. Ч., приглашенный в числе других психиатров на съезд по криминальной психологии в Берлин, предложил д-ру Андрейшину поехать с ним в качестве второго секретаря советской делегации.
* * *
– Любопытненько, – повторил М. Н. Синицын, разглядывая пуговицу. – Вот здесь и указанье имеется: «Пуговичное заведение С. Мурфиной». Это для нее, что ли, они корону-то делали? По ее заказу? Вы, значит, Матвей Иваныч, в нее и влюбились? И теперь, перед отъездом за границу желаете зайти проститься? Любопытненько. На часок, говорите? Поезд отходит в три, а вы придете в час? Любопытненько. Только вот зачем вам Егор Егорыч понадобился, он ведь совсем пустой человек?
Я так и знал, что он придерется к случаю, чтобы обидеть меня. Я смолчал.
– Али жениться, для свидетельства? Тоже любопытненько.
– Она выходит за другого.
– Красива, что ли?
– Очень! – И доктор покраснел.
– Умна?
– Очень. – Доктор покраснел еще сильнее.
– Зовут-то как?
– Сусанна.
– Любопытненько. Плохой, должно быть, у них фининспектор в районе, я б на его месте всю красоту согнал.
– Предприятие пуговичное давно закрылось, принадлежало оно не ей, а ее матери, и все они теперь служат.
– Выгнать со службы! Все равно вредят: зачем нужного нам доктора влюбляют? Небось, сама на улице подошла. То, сё, пожалобилась на жизненку, а вы и хвост распустили?
– Я встретил ее один раз, на Петровке, и даже оробел поклониться.
– Ишь ты, а в дом зайдешь?
– Она улыбнулась мне, Синицын. Не в комнате, – мало ли кому улыбается женщина в комнате, – а на улице. После этого, я начал подчитывать кое-какую литературу о любви, и вышло так, что мне совершенно необходимо проститься лично.
Я счел необходимым вставить и свое слово:
– Мало ли кому улыбаются женщины? Вот мне однажды тоже улыбнулась, а оказалось, что мой широкий нос походил на нос ее приятельницы, и она злорадствовала. Тем не менее я женился и страдал три года.
М. Н. Синицын попытку мою вступить в разговор принял чуть не за подхалимаж. Он багровым взглядом уставился на меня. И опять я смолчал.
– Робкая у тебя на баб выдумка, Матвей Иванович, – продолжал Синицын с прежним негодованием. – Тебе бабу под лад трудно выбрать. Ты, вон, с сиделками разговариваешь, опустив глаза, а они грязь развели. Четырех клопов давеча на подоконнике поймали. Для бабы более постная пища требуется, а ты бабу больше по чертежам мыслишь. Вот насчет улыбки: совсем вздорная вещь. Езжайте вы без прощаньев за границу, а мы тут клопов пока выморим. Ученые спорят, а клоп, он себе, стерва, плодится да плодится.
Доктор схватил опять пуговицу:
– Один взгляд только, Синицын, один взгляд на то, как она шагает по своей комнате – и для меня будут ясны истоки болезни ювелиров. Согласитесь, если в отделении больницы, руководимом вами, под различными предлогами появляются любопытствующие, если весь город наполнен слухами, если эти слухи, появившись вначале в белой прессе, захватили затем европейскую и американскую, если вам предстоит удовольствие дать десяток интервью за границей – и все это организовала девушка, которую вы имели несчастье полюбить…
М. Н. Синицын вскочил, оттолкнул ногой стул и, схватив доктора за плечи, крикнул ему в лицо:
– По-моему, лечить надо, а не по-вашему. – Он обернулся ко мне: – Ты вот, Егор Егорыч, чистый болван, так хоть ты ему объясни, если он считает меня таким хозяйственником, который, кроме как в клопах, ни в чем не смыслит, что если мы отняли у буржуев все, то право ворчать и болтать чепуху сколько им влезет мы оставили им. Услышит он в рабочих кварталах Берлина о короне американского императора? Никогда!
– Вспомните, – наставительно сказал доктор, – что ювелиры были тихие, робкие люди, совершенно не имевшие знакомств, их квартирка из двух комнатенок выходила прямо на двор, где постоянно – зимой и летом – играли ребятишки, знавшие всех жильцов и всех их знакомых, причем, задачей ребятишек было стеречь двери от воров – и это они исполняли успешно. Окна квартирки были заставлены железными решетками, как во многих первых этажах, следовательно, через окно попасть к ним было трудно, если б даже и пришла кому-либо шальная мысль подкинуть им часы. По-моему, истоки их болезни находятся в часах. Вспомните, что они жили замкну-то, стыдились своего жалкого вида, бедной комнатенки, в провинции на их попечении находились мать и три больных сестры, большинство заработка ювелиров уходило на лечение сестер. Однажды в жизни они любили, – она, несомненно, была блондинкой, теперь она состарилась, мать нескольких детей. Я попросил послать мне ее карточку, девичью. Она прислала их несколько. У меня возникла мысль: не перенесли ли они свою любовь на другой объект и не могло ли так случиться, что этот объект поступил с ними подло? Но до сегодня они его любят, боятся причинить ему боль – и больная память выкинула имя его, воспоминание о нем. Кроме того, они питали к этому объекту нежность, он должен быть слабым, не физически, а морально, волево. Было б чрезвычайно просто передать им снимок невесты в юности и сказать, что какая-то похожая на снимок девушка просила вручить. Можно было бы таким путем вызвать известные намеки, но можно и увеличить болезнь, заставить пациентов замкнуться, увеличить свое сумеречное состояние – нам грозила бы опасность приблизить час их душевной смерти. Препротивнейшие часы провел я, Синицын, размышляя о них, к тому же споры с профессором!… Но однажды совершенно ничтожное обстоятельство толкнуло мою мысль на правильную дорогу. В палате появился больной, страстно любивший открывать форточки. Сырым ветреным днем я совершал обход. Вам известно, насколько больные обожают жаловаться. Палата заявила протест против открывания форточек и, в частности, потребовала, чтобы к халатам немедленно пришили пуговицы. Я обещал удовлетворить их желание, но внезапно против пуговиц восстали братья Юрьевы. Порыв их быстро угас, но самое проявление его показалось мне странным. Я потребовал из кладовых костюмы, в которых их привезли. Все пуговицы на костюмах были выдернуты с корнем. Комнату их передали давно другим жильцам, жалкое их имущество увезла мать, – все же я искал пуговицы, на которые они перенесли свое негодование. Я написал матери. Она нашла одну, поломанную. Вы ее видели, Синицын? Итак, на Петровке я встретил Сусанну. В этом холодном, почти мраморном взгляде, в этом алебастровом лице, я прочел дикую волю и великолепный ум. Она – дочь той женщины, которой принадлежала пуговичная мастерская. Ее не удовлетворяет жизнь! Она хочет прорваться в иное, и вот она накануне преступления. Разве обязанности доктора лечить, а не предупреждать болезни, ибо преступление против общества – социальная болезнь, Синицын. Я должен предупредить развал человека, и для этого достаточно будет одной фразы.
– Какой такой фразы? Не воруй, что ли?
– Я еще не сформулировал ее, но к завтраму она будет готова. Этой фразой можно исцелить и ювелиров, и Сусанну, и вообще весь дом, где она живет.
– Любопытненько. Здорово ты в слова веришь, Матвей Иванович. А что, если нам взять да этих ювелиров к станку поставить?
Теперь нам пришла очередь изумленно уставиться на Синицына:
– К станку? – переспросил доктор. – Вы предлагаете их выпустить, Синицын?
– Вот и обмозгуем вместе.
– Я категорически против, – вскричал доктор. – Необходимо произвести детальнейшее обследование и как раз на основе того, что нам скажет Сусанна.
– Кра-асивое имя-то. За одно имя которые влюбляются. И это все?
– Все, – ответил доктор. – Три недели, которые я проведу за границей, Сусанна будет размышлять над моей фразой, а на четвертой, – возможно, она даже придет сюда справляться, Синицын, относительно меня, так вы скажите ей точно, когда я возвращусь и, самое главное, не допускайте ее до ювелиров, на четвертой, мы произведем последнее обследование, и целый ряд людей будет возвращен к разумной жизни.
– А парни так и будут пока лежать в постели, вытянувшись, как селедки?
– Какие парни, Синицын?
– А ювелиры?
– Да, они будут пока лежать.
– Вам бы полежать! – вскричал Синицын, вскакивая и опрокидывая стул.
Хлопнула дверь. Доктор расстегнул халат.
– Как великолепно, что вы меня провожаете, Егор Егорыч, – сказал он протяжно, видимо, размышляя о своем.
Вот кратко те причины, из-за которых мы очутились возле дома № 42, увидели Черпанова, и доктор выдал себя за «ухогорлоноса».
Итак, Черпанов присел на корточки. Доктор возле него. Что же мне оставалось делать? Соорудив возможно умное лицо, я тоже присел. Доктор, высказав несколько резкостей в сторону Хр. Колумба, катая по тротуару яйцо, пустился рассуждать об усах:
– Несомненно, Леон Ионыч, вы думали о значении усов, но занимались ли вы этим вопросом вплотную, скажем, месяца два-три?…
– Да что я, парикмахер? – огрызнулся Черпанов.
Оказалось, что доктор имел таковую возможность, – о чем и радостно оповестил. Он пришел к выводу, что усы – это признак посредственной воинственности, образ двух флангов, которые может уничтожить полководец, ударив им в центр, – попросту говоря: забрать усы в рот. Все великие полководцы – Александр Македонский, Цезарь, Наполеон – не носили усов. Они обходили фланги! По пути он объяснил, что, схватив за усы Черпанова, он не думал наносить ему обиды, а просто усы показались ему ложными, несомненно, Черпанов одарен более крупными данными, чем ношение усов. Доктор приносил ему крайние извинения! Черпанов удовлетворенно хлопнул доктора по плечу, заявив, что рад иметь на своем строительстве хорошего врача, и добавил:
– Москва – торопливый город. Чуть что – за усы! Выводы, может быть, и меткие, но механические.
Я нашел необходимым по этому поводу сообщить.
– Один поп похоронил на кладбище любимую собаку. Епископ решил наказать его за такое безобразие. Привели попа к епископу на допрос: «– Ваше преподобие, – говорит поп, – если б были знакомы с ней, вы б по-иному оценили ее разум. Судите по такому факту. Зная, что вы обожаете чай, она, по духовной, оставила вам серебряный сервиз и серебряную полоскательницу, из которой сама изволила кушать. Разрешите его вам вручить». – «Предадим твой грех забвению, – ответил епископ, – только сними с ее могилы крест, а поставь плиту. Пускай думают, что она была католиком, перешедшим в православные». Передают также, что некий полководец, – я не могу сказать, к сожалению, с усами он или нет, – направляя своих бедно одетых солдат в бой против неприятеля, превосходящего его не только оружием, но и одеждой, сказал: «Солдаты, постарайтесь отлично одеться!»
Не знаю, то ли голос у меня слабый, или говорю я слишком торопливо, или выражение лица у меня унылое, но только рассказы мои никогда не вызывают смеха, в то время как эти же рассказы, но в устах других лиц, имеют крупный успех. Так и в данном случае. Черпанов посмотрел на меня недоуменно. Доктор счел необходимым объяснить:
– Вообще-то, Егор Егорыч отличный секретарь, но обладает слабостью, которая превратится несомненно в достоинство, как только он будет секретарем высокого человека, – рассказывать некстати смешные повести. Итак, вы экзаменатор, Леон Ионыч?