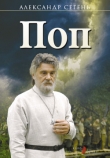Текст книги "У"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Благодарю, – сухо ответил я.
* * *
Полностью мы отдышались часа через три-четыре, «чему помогла, – заключил доктор, – полная ясность, достигнутая между нами», а я больше склонен был отнести это к отличному состоянию нашего здоровья, хотя кто бы мог понять целиком доктора: ему, при его постоянных душевных осмотрах, так сказать, при постоянном просвечивании себя, разыгрывать хитреца, конечно, невмочь. Велика ли хитрость назвать себя «ухогорлоносом» вместо психиатра и согласиться поехать на Урал, но и тут доктор жаждал ясности: он давно бы сознался Черпанову в обмане, отправился бы на Урал, подвергся бы всем сквознякам черпановских замыслов, кабы не просовывалась через все это белокудрая Сусанна и два тощих ювелира с их оскудевшим разумом. Вместе с тем, – я говорю совершенно искренно, – в данном случае кровопускание оказалось полезным, особенно в последние два часа, когда из носа внезапно выкатилось не менее двух стаканов крови и меня совершенно перестала интересовать история с ювелирами и дурацкая легенда о короне американского императора, ящик с золотыми часами и прочая криминальная дребедень, годная только для того, чтобы щекотать мещанину его тусклые мозги перед сном.
– Я имею крепкое желание, Матвей Иваныч, направиться в Дом отдыха, собраться там с мыслишками и драпнуть на Урал. Не пора ли мне перечеркнуть счетоводство?…
– Пора, Егор Егорыч, давно пора. Мне тоже хочется в поезд. Полагаю, что насчет больницы я перемахнул. Дыра в животе кажется исчезает. Завтра, если я доберусь до извозчика…
– Да я вас, Матвей Иваныч, донесу на руках!
– Незаурядное у вас сердце, Егор Егорыч! Если б только вы не рассказывали анекдоты. Зачем ученому анекдоты?
– С чего вы взяли, что я буду ученым?
– А Черпанов? При том курсе, который поручен ему, он вас выведет в ученые. Вы обязаны быть ученым, Егор Егорыч. Тогда с меня спадет обуза обмана, мне не хочется покидать нашей больницы, я сработался с ее коллективом, но не могу я и сознаться Черпанову: меня выгонят из дома, а следовательно, и от Сусанны. Будьте ученым, Егор Егорыч.
– Меня скорее прельщают обязанности секретаря!
– Ну, будьте вы ученым секретарем!
Тут мы и примирились: доктор уступил мне, а я ему. Он повеселел еще гуще, защелкал пальцами и зацедил сквозь зубы какую-то песенку.
Странна наша жизненка
Я медленно ковылял от колонны к колонне.
Черпанов, подтянутый, прямой, солидно колыхая пробоинами бесчисленных карманов, шел ко мне навстречу. Я хотел было проскользнуть мимо него: для будущего ученого секретаря сегодняшнее мое поведение было, пожалуй, несколько легкомысленным. Черпанов наскочил на меня и поволок за собой:
– Кое-кому уже намекнул, Егор Егорыч. На днях открываем запись желающих ехать на Урал за перерождением. Я беру на себя смелость использовать весь данный дом – без просеиванья.
– И без пролетарской прослойки?
– Вы чувствуете действительность, Егор Егорыч, сквозь призму эпохи. Одобряю. Без пролетарской прослойки невозможно строительство, а строительство, подобное нашему, тем более. Будет прослойка, непременно будет. Черпанов да чтобы не достал пролетарской прослойки! Галопный смех вы услышите в ответ, Егор Егорыч, если скажете нечто подобное кому-либо из его ответственных друзей.
Я выразил удовольствие наблюдать его бодрым и твердым.
– Начались переговоры, Егор Егорыч, начались! Вы правы – прослойка. Вопрос в том, группировать ли нам вокруг пролетарского ядра или ядро подобрать позже.
– А если попробовать одновременно.
– И то мысль. Попробуем одновременно. Желаете ли вы работать по ядру или вокруг ядра?
– Разрешите мне ответить завтра, Леон Ионыч.
– Завтра так завтра. Имеется еще работенка вне ядра.
– Секретарская?
– Пожалуй, если рассматривать широко обязанности секретаря, то и секретарская. Прокрались до меня слабые данные, что бродит по нашему дому какой-то заграничный костюм.
– На ком?
– Ну, если б на ком-то среди наблюдаемой рвани мы б его сразу разглядели. Не на ком, а у кого-то!
Мне вспомнился разговор Жаворонкова и дяди Савелия, зеленая поддевка Черпанова, брошенная вчера доктором фраза о костюме, но из-за сегодняшнего моего легкомыслия я постеснялся высказать свои соображения. Да и затем, велика ли штука костюм, чтоб стоило из-за него отнимать время у занятого человека?
– Дрянь какая-нибудь, Леон Ионыч.
– Дрянь на себя бы надели. А вдруг проплывет мимо мировая вещь? – Он пренебрежительно потряс синие свои штаны. – Решето, положительное решето, а не материя.
Он приволок меня уже к дверям дочерей Степаниды Константиновны. Говор многих голосов, шум передвигаемых стульев, топот ног – все это заставило меня пробираться дальше. Черпанов припер меня к двери:
– Вне ядра так вне ядра, Егор Егорыч. Кройте сюда и узнавайте, какие там слухи насчет костюма и откуда он. Вот вам работа на сегодняшнее число.
– Неудобно, Леон Ионыч.
– Чего неудобного? Они же на днях будут нашими подчиненными. Нашли перед кем стесняться?
И он толкнул меня в дверь.
Я перелетел через порог и упал на мощные руки Людмилы Львовны.
* * *
Она нежно помогла мне сесть.
Комната, занимаемая сестрами, удивляла какой-то бесстыдной бедностью: три доски на кирпичах – кровать Людмилы, ситцевый матрац, покрывающий громадный жестяной сундук – Сусанны, сорокаведерная бочка взамен стола – и все. Открытка, изображающая невесту под венцом, украшала сосновую перегородку. В перевернутой бочке сидел Мазурский, на кровати ничком, задрав к потолку толстенькие ножки, курил Ларвин. У окна притулился скромно дядя Савелий, играя незажженной сигарой. Сестры, взявшись за руки, словно готовясь к хороводу, стояли у бочки. Все указывало на забаву: длинный и ловкий Мазурский, крутящийся в бочке, сестры вкруг него и наблюдатели бледный и вялый Ларвин и скучнейший дядя Савелий, однако и встревоженные лица, и поспешность, с которой они завели разговор со мной, и ненужное обхаживание меня, скорей указывали на бывшее здесь крупное объяснение, пожалуй, ссору. Людмила ласково спросила – холост ли я, Ларвин – сыт ли, Мазурский – интересуют ли меня слесарные станки, дядя Савелий предложил сигару, но всем, кроме разве безразличной Сусанны, как можно скорей хотелось, чтобы я ушел. Я бы и ушел, если б не Черпанов за дверью: я чувствовал, что он сотни раз способен вталкивать меня сюда. А попробуй спроси о костюме! Раньше всего и вопрос-то, даже не вглядываясь в окружающую скудность, нелеп, а затем это верчение, топот и грохот Мазурского внутри бочки, что это, как не желание заглушить внутреннее беспокойство, постоянное его ныряние, приседание – ловкой забавой скрыть тревогу. Я только плохо соображал, зачем здесь дядя Савелий, но он, предложив мне сигару, уже не возвращался к подоконнику, а направился к дверям.
– Обождите, дядя Савелий! – застучал сапогами в бочку Мазурский похоже, что бочка отдаленно напоминала ему председательский звонок. Обождите. Наличность разговора!
– Разговор между вами, я тут при чем? Хотите сигару?
– Катитесь вы с вашей сигарой… Я требую рассмотреть вопрос со всех сторон!
– Я сам-то живу из милости, Мазурский. Кроме того, ваши фонды вы сами обесценили…
– Чистейшая случайность! Дядя Савелий, слушайте!…
– Договор расторгнут, обручальное кольцо возвращено. – Людмила выпустила руки сестры. – А, Сусанна?
– Расторгнут, – лениво протянула Сусанна, поправляя волосы, – куда я могла синюю гребенку засунуть?
Мазурский присел на дно бочки и оттуда крикнул:
– Не согласен!
– Можно и не расторгать, – сказала Сусанна протяжно, опускаясь рядом со мной на сундук. – Мне все равно.
И действительно: ей было все равно! Холодное алебастровое ее лицо, украшенное завитками волос цвета благородного металла, ее тонкая и крепкая шея, ее неподвижный медный торс, ее ножки, словно защемляющие пол… да, теперь я понимал робость доктора Андрейшина.
Мазурский, притянув за плечо дядю Савелия к бочке, изливался в жалобах. Полтора года он гулял с ней, а теперь за проступок, смысл которого он так и не понял, его «отшивают». Он ради нее старался, заводил знакомства, поступил даже чистильщиком сапог, он свой нравственный долг исполнял честно, и если он вышел из подчинения, то опять-таки смысл его неясен. Что он на саблях клялся подчиняться? Он хочет работать самостоятельно!
Ларвин, попыхивая папироской, вяло прервал его. По его мнению, нет такого случая, где нельзя столковаться, как в области продовольствия, так и в области нравственных норм. А дядю Савелия лучше отпустить: у него племянники злые! Мазурский побагровел, но плечо выпустил. Эффектно, финки! Ближайший друг, а угрожает финками. Мазурский волчком закрутился в бочке. Ларвин вяло наблюдал за ним: «Крутись, а кольцо-то на другой руке будет». Мазурский вспылил: «Для него супружеское право на такую ледышку честь небольшая. Он для гордости хотел жениться. Одел бы ее, прошелся бы. А теперь от гордости же и отказывается. Хватит с него попреков. Он будет действовать самостоятельно…» Дядя Савелий вышел. «Почему здесь этот старый скучный черт бродит, размахивая сигарой? Кто он такой? Я спрашиваю, кто он такой?» – Мазурский выпрыгнул из бочки и закрутился по комнате. Людмила, засучив полные белые руки, опрокинула бочку дном вверх и накрыла скатертью, а затем, подбоченясь, нагло бронзовыми своими глазами уставилась на Мазурского, пылая.
– Да, он спрашивает, кто такой дядя Савелий? Исполняет он обязанности дворника при доме? Пожалуйста. Передает решения квартироуполномоченной, пожалуйста. Но какое ему дело до моей самостоятельности и почему из-за нее угрожают финками? Против финок могут быть выдвинуты кулаки Лебедевых! Ага, не нравится. Да, да, Лебедевых! Шесть братьев Лебедей ездят по Уралу, но они всегда и вовремя возвращаются. Ах, я и прежде видел ваши глаза, Людмила Львовна, и всю действительность вашего затылка, Сусанночка. Мой нравственный долг высказать вам правду!…
Мазурский подскочил к великолепному затылку Сусанны.
– Ему угрожать финками! Мазурскому! А Лебедевых знаете?
Гнилое его дыхание струилось в мое лицо. Его черные мокрые волосы растрепались. Огорчение и тревога, крутившие его, лежали далеко от любви. Но что это могло быть? Чему волновался высоконравственный чистильщик сапог, так обожавший слесарные станки? Я отодвинулся. Он приблизился к Сусанне.
Людмила Львовна вдруг цепко схватила его за ворот расстегнутого френча, откинулась назад – грязный истертый шелк ее юбки показал нам всю мощь ее каменных бедер, – подмигнула, щелкнула пальцами свободной руки и длинный ловкий Мазурский, колыхая галифе, пронесся через комнату и вылетел за порог.
– Вот тебе и Лебедевы, – сказала она, затворяя дверь.
Ларвин вяло раскурил затухшую папиросу:
– Сколько непроизводительно продовольствия затрачено. Где вы обедаете, Егор Егорыч?
Людмила сочно поцеловала сестру в шею:
– Я тебе другого жениха найду, Сусанночка. Или тебе Ларвина отдать? Ларвин, возьмешь? Берет! Иди, Сусанночка.
– Мне все равно, – дремотно зевая, ответила Сусанна. – Куда я могла гребенку затырить? А доктор-то не провинциал! Не-ет!…
* * *
Я удалился. «Былинки» вдогонку обозвали меня рохлей. Ваше дело! Но, право, я чувствовал головокружение. Недюжинным человеком надо быть, чтоб объяснить – почему Мазурский крутился в бочке, а кручение его – слабейшая динамическая неясность из всех неясностей, окруживших меня. Почему он так яростно возмущался дядей Савелием, самым скучным и беспомощным человеком в доме? Что это за кулаки неизвестных Лебедевых? И еще заграничный костюм? А корона американского императора – тошнотворно вспомнить! Нет, достаточно с меня дешевых тайн, недомолвок – и тумаков. В дом отдыха на речной песочек, наблюдать, как играет плотва среди камышей, ветка гнется под тяжестью синицы со вздрагивающим хвостиком, комар ловчится овладеть твоим носом!…
Черпанов, строгий и сухой, поманил меня с крыльца. Возле него уже вился Мазурский. Подойдя, я услышал, что он вкрадчиво отоваривал Черпанова от контрактации семейства Мурфиных.
Вздорные они и лютые политиканы! Начнутся сплошные склоки. Он льстиво добавил: их отшлифовать невозможно, с них мгновение соскользнет любая глазурь цивилизации, не для них писана высоконравственная музыка будущего. Черпанов солидно успокоил его: любая подлость исправима трудом и правильно направленным искусством, надо уметь нашпиговать, найти в каждом заблуждающемся его специфичекие особенности. Мазурский продолжал юлить. Черпанов косо рассматривал отдельно каждую часть его тела. По всему было видно, что они еще не договорились до самого важного. Черпанову, мне думается, Мазурский казался несколько бестолковым. Мазурскому, – сквозь постоянно клятвенную почтительность, – думалось: самовластный нрав Черпанова трудно довести до полной ясности. Они ревниво цедили слова.
Я отошел от них, желая попроведать доктора. Задумчиво я брел к нашей клопиной каморке. Странно, что мне суждено быть свидетелем удивительнейших перерождений, руководимых Черпановым. Передо мной вставал почти благоговейный вопрос: а надо ли мне перерождаться или секретарствовать можно и без перерождения? С одной стороны, как будто бы и надо: иногда меня посещали мысли из тех, которые «клеймят». Правда, они исчезали быстро, особенно, если не задерживали выплату жалованья; правда, держал я их до мелочности подспудно усердно стыдясь их, что уже явно указывало на мое самовольное перерождение, правда и то, что появлялись они на сон грядущий, имея, так сказать, колыбельное значение, будучи до некоторой степени отзвуками детства, вне всякого своекорыстия. Но не есть ли это оскорбляющая честь черпановской конфедерации, подлая особенность моего эгоизма? Не есть ли это бесчестность? Ага!… Но, с другой стороны, как будто и не надо. Много во мне таких черт, которые я люблю и которые мне потерять жалко, а потерять их в суматохе при массовом перерождении чрезвычайно легко, хотя такие черты, и решительнейшие, никому не мешают. Например, я обожаю мятные пряники, ватмановскую бумагу, глубокие пепельницы и ножницы для ногтей. Я вижу уже негодование на многих лицах! Помилуйте, скажут мне, здесь идет разговор о перерождении основных чувств и склонностей, а вы лезете с пепельницами. Кому они нужны? Любите вы, черт вас дери, сколько вам хочется ваши пепельницы и ножницы. И как вам не стыдно! Да и каким способом уничтожить у вас любовь к мятным пряникам? Каким? Очень простым. Если, допустим, – как художественная деталь, не более, – отрицательные герои всех пьес будут любить мятные пряники, а я буду перерождаться благодаря этим пьесам, то что же, думаете, впечатлительное мое сердце с прежней легкостью будет лопать мятные пряники? Или подлый авантюрист зарежет светлую личность романа ножницами для ногтей, – то смогу видеть их впредь без отвращения? Плохо вы обо мне думаете! Вы возразите мне, что такие своеобразные мысли не больше, как отговорки. Здесь я не спорю. Сознаюсь, что, вращаясь доныне преимущественно в бухгалтерско-счетоводном мире, я мало наблюдал перерожденных личностей, а если и перерожденных – посредством водки, – то в обратную сторону от общего течения культуры.
У дверей я вспомнил, что в суматохе я забыл спросить сестер о костюме. Надо посоветоваться с Черпановым: возвращаться ли мне к ним или обождать. Черпанов с крыльца исчез. Мелькнул вдалеке, переулком, щегольской френч Мазурского. И ванна заперта снаружи. Куда он мог так быстро скрыться? Я постучался к сестрам. На досках по-прежнему валялся Ларвин, пуская пухлые кольца дыма. Черпанов, со строгим и сухим лицом, стоял возле сундука, обитого жестью, на котором сидела Сусанна, побалтывая ножками. Бесчисленность синих карманов упиралась в локти Сусанны, руки его скользили от плеч на более волнующие округлости. Лицо Сусанны изображало то же унылое любопытство, когда она в кухне смотрела на доктора, присевшего под тяжестью ведра. Позади Черпанова, положив ему на затылок белые полные руки, смеялась Людмила Львовна. «Не женится, – прихихикивала она, – не женится, Сусанночка». – «А мне все равно», – ответила Сусанна, и Ларвин, кроша слога, пробормотал: «Очень много, Леон Ионыч, надобно для двоих продовольствия. Впрочем, достанем. Хотите десять кило вологодского масла?» Черпанов обернулся ко мне:
– А? Я так и предполагал – у него!
– Кто?
– А костюмчик.
И он хватил Людмилу Львовну ладонью по бедрам. Она кинулась на шею к Ларвину, тот вяло вынырнул из-под ее рук и закурил новую папироску. Людмила заполнила своими телесами его колени и, стараясь раскачаться, говорила:
– Ты думаешь, Ларвин, самое главное – прокормить?
– Особенно тебя…
– Нет, самое главное взволноваться. Я Сусанну хочу взволновать… Почему она охладела?
– Урал, Урал взволнует, – сказал Черпанов, опять устремляя к Сусанне бесчисленность своих карманов.
– Зачем торопиться, поволнуемся еще, – промолвила лениво Сусанна.
– Вот как начала отвечать! Я из-за нее две партии прозевала.
– Выгодные женихи? – спросил Черпанов. – Партии, то есть?
– По пятьсот пудов. Овса, Леон Ионыч. Поскольку вы принимаете грешников, так я вам сознаюсь, да, небось, вы и сами поняли: службишкой сыт не будешь. Вот он жених считается, Ларвин. А за полтора года гулянья он мне едва-едва один торт подарил, да и тот гнилой, хоть и специальность его продовольствие. А так, извините, полный расчет. Я, Леон Ионыч, обожаю извозчиков! Я с ними так умею разговаривать, что они вежливее дяди Савелия делаются. Извозчик, известно, постоянно овсом удручен. Прокатишься – и предложим ему. Следующим разом он при катаньи – скидочку.
– Спекуляция, иначе говоря, Людмила Львовна.
– Спекуляции, Леон Ионыч. А кто нонче не спекулирует? Одна Сусанна избрала самую невыгодную спекуляцию. Жрет, спит да зевает. Ее б давно со службы изгнали, кабы не красота, а повышения ей нет, потому неряшлива…
– Неряшливости мужчины боятся, – наставительно проговорил Черпанов, руками доказывая совершенно противоположное.
Ларвин выпустил большой клуб дыма:
– Неряшливые жрут больше.
– А ты пробовал? – протяжно и холодно спросила Сусанна. – Попробуй.
Ларвин вяло ухмыльнулся, Людмила продолжала:
– Ее надо, Леон Ионыч, обрушить. Если переплести в нужное содержание, она будет иметь большую ценность. Я овес обожаю, извозчиков и свадьбы, Леон Ионыч. Вы возьмите когда-нибудь в горсть овес и выпускайте по зернышку. Честное слово, каждое зернышко будто мина, а упаковано с какой хитростью. Вот и свадьбы. Соединишь двух людей, они закупорены, а, глядишь, денька через два их и есть можно – они распарились и уже сокровеннейшие сплетни друг о друге распространяют.
– С этой целью вам желательно, Людмила Львовна, и меня женить?
– А почему нет, Леон Ионыч?
Черпанов отнял руки от Людмилы:
– Я укажу вам более высокие цели, чем свадьба и овес. Испарится также и задумчивость Сусанночки.
– С чего вы взяли, что я задумчива?
– Но ведь молодость-то уйдет, Сусанночка!
– А, Людмилка!… Молодость, молодость! Молодость – грубая плата за науку, вот что стоит твоя молодость. Я и спекулировать не умею из-за молодости! Вот я и жду. Мазурский учил – не вышло. И правильно, что выгнали его. И оставить тоже вреда мало…
– Мазурский – сволочь! – вскричала Людмила Львовна, спрыгивая с колен Ларвина. – Гоните его от себя, Черпанов!
– Низкая личность, – подтвердил Ларвин. – Разве в станках понимает…
Людмила прервала его:
– И в станках ни лешего! Прохвост и наушник. Туда же – в единицы.
– Куда?
– В единицы, Леон Ионыч. Не общей линии, а единичной.
– А…
– И получились сплошные убытки.
– Но ведь ваше дело – овес. Или из-за свадьбы?
– И не из-за свадьбы, и не из-за овса. Этакую стерву к овсу допустить! Он его сгноит в первые же три дня. Шесть станков устроил покупателям и возгордился. Сусанну переоборудую! Сусанна всех перекроет, она в училище выдающейся числилась – я понимаю, как ее переоборудовать.
Черпанов положил руки на плечи Сусанны:
– Урал, Урал, Сусанна! Это и здравница, и призыв к новому человеку. Ваша красота уже данные для нового человека. Новый человек на новой земле будет красивым и опрятным. Вот, возьмем, зубы.
– Зубы я чищу.
– Или баню.
– И в баню я хожу.
– Какой же опрятности требует от вас сестра?
– Ее спросите.
– А, Людмила Львовна? Жених? Жениха-то вы ей выбирали? Мазурского? Не оспариваете. Так в чем же дело? Ежели вы требуете тряпичной опрятности, так кто у вас тряпки поставляет?
– Нет такого, Леон Ионыч, – ответил вместо Людмилы Ларвин.
– Удивительно! Почему же меня тогда надули на материале? Выходит, что я обязан был его надуть. Просто подлость какая-то. Это меня московское воображение ослепило. У него, непременно у него. Какая, Людмила Львовна, у Жаворонкова специальность?
– Стройматериалы.
– А он переквалифицируется, известно ли вам?
– Подозреваю. У нас часто переквалифицируются. Это же не прежние времена. Да и вы сами намерены нас переквалифицировать, Леон Ионыч.
– Я – другое дело. Я представитель власти.
Я понимаю современных художников, которые борются за свежие формы искусства. Вторжение прошлого слишком ужасно и тягостно, с ним нельзя не бороться. Многотомные классики нет-нет да и просунут в наши книги свои волосатые рты. Но есть такие слова, есть такие выражения, вспомнив которые, начинаешь сомневаться в истребимости старых форм, начинаешь думать: а стоит ли игра свеч? Например, подыщите строчку короче и выразительнее следующей: «Наступило гробовое молчание». Три слова, три банальнейших слова, а какая каша ими заварена! Тут и папироска вывалилась из губ Ларвина, тут и вздыбилась Людмила Львовна, крепко сжав в кулаки белые свои руки, тут и Сусанна второпях одергивает коротенькое платьице, тут и я восхищенно думающий: «Что за проникновенный человек! Эк, закрутил, эк, запрудил!»
* * *
И, наконец, Людмила Львовна – раз и навсегда – решила узнать:
– Какой власти?
Черпанов вонзил:
– Снисходительной.
Ларвин вставил папироску обратно. Задымил, вяло вздохнув:
– Не читали о такой.
– Опыт! Опыт! Намек. Разъяснение позже. Взгляд на пакет за девятью печатями, в Манильских островах, – и все поймете. Мазурский показался мне кривым, хотя и упирает все время на нравственность. Я с вами согласен, Людмила Львовна, он втируша. Я с вами, Сусанночка.
– Это мне безразлично.
– Не помните ли вы рассказ одного американского писателя, Сусанночка, я прочел его в поезде.
– Это сестра любит книги, а мне плевать, Леон Ионыч.
– Там, видите ли, удивительным образом субъект попадает в громадный водоворот, километров трех или пяти глубиной, вроде керосинной воронки, но не заполненной жидкостью. По краям этой воронки, непрерывно вращающейся со страшной быстротой, по наклонной плоскости, вроде как бы по дороге, несутся вниз и вниз предметы и корабли…
Людмила сказала:
– Уподобление ваше, Леон Ионыч, было б ценным и даже жутким, кабы вышеупомянутый свидетель не был единственным живым свидетелем воронки и вокруг него не стремились в пучину мертвые корабли, а кроме того, кабы рассказанное не было болезненной фантазией Эдгара… Мы поклонники реализма, Леон Ионыч. Крупная партия овса дороже умения вдергивать нитку словесности в золотую иглу фантазии.
– Кишки, они способствуют закоренелости, – Ларвин стряхнул пепел. – В области искусства, но не продовольствия. Варенье еще один мужчина предлагает, клубничное. А, Леон Ионыч?
Я удалился.
Теперь для меня стала более понятной ночная суетня в коридоре, сверточки, корзинки, чемоданчики из фибры; перешептывания на кухне, постоянное хлопанье дверьми; игра ребятишек на дворе – «в спекуляцию»; они меняли щепки на лопухи, обрезки листового железа на пустые папиросные коробки, карандаши ходили за бревна, спички за карандаши, песок за муку. Какой мощной и загадочной фигурой вставал среди этого человеческого хлама Черпанов, какое нужно умение, чтобы отсортировать для себя необходимое и выкинуть на свалку дрянь. Любопытно, как он понимал Сусанну? Присвоит ли он ее себе или ограничится болтовней? А бедный простодушный доктор! Я не нашел в себе достаточно сил рассказать ему о Сусанне и о всем, слышанном мною, я питал нежность к этому избитому, покрытому синяками болтуну, – да и кроме того, после публичного признания Черпанова, разговор наш приобретал почти государственное значение. То, к чему я раньше относился почти как к шутке, вставало теперь передо мной сложнейшей секретарской обязанностью. Я выразил свою нежность доктору тем, что принес из столовой стадиона суп в чайнике и две заржавелые котлеты. Вливая в себя суп, доктор расспросил меня о стадионе, попутно высказав кое-какие соображения:
– Когда вы вспоминаете, Егор Егорыч, великую французскую революцию, то неизбежно перед вами навешивается улица, вас захватывают крики толпы: улица диктует свои условия, сама, непосредственно, всем бельэтажам и особнякам. Вдыхаете вы проклятья, запах пота толпы, бледные головы с вершин пик, аристократы кивают вам! А сегодня, во дни великой советской энциклопедии? Улица безмолвна. Улица, одетая в черное, молчалива, ломая храмы, переулки, тупики, проведет вас к заводам. Кубы клубов, клубясь знаниями, встретят вас. И все-таки…
– И все-таки, Матвей Иваныч?
Он потер живот, указывая пальцем в окно, на стадион:
– И все-таки, Егор Егорыч, мысли пятидесяти тысяч рабочих зрителей, собравшихся на стадионе, невидимыми нитями протягиваются к нам, в наш дом, наполняют трепетом и страхом сердца, предъявляют свои требования. При любой ограниченности, вы поймете, чего они хотят и что приказывают. Если вдуматься, то подобная форма немой диктатуры убирает с поля куда быстрее и лучше, чем вся пылкость старинных плакатов и гравюр. Пятьдесят тысяч на стадионе и этот гнилой домишко против него. О чем говорит стадион, еженощно и ежедневно думаем мы. Ясно он думает о нас. Но что он думает о нас, в чем нас подозревает? Мы нищи и убоги…
– Но ловки!
– Но ловки. Единоборство не исключено. Не прекращается, не закрывается, никогда не пропадает из наших глаз стадион, навсегда предубежденный против нас.
– Навсегда ли?
– Навсегда, Егор Егорыч.
– А черпановский опыт?
– Какой?
Я увильнул:
– Помнится, вы сами, при встрече с ним, упоминали и восхищались его замыслом, даже подтолкнули его…
– Черпанов, дорогой Егор Егорыч, ничтожество и мусор. Я восхищался тем, что и для него нашли дело: ибо, поистине, нет другого на земле, кто бы смог лучше вербовать рабсилу. Призрачная миссия, полученная им, восхищает его до изнеможения. Он сумел вообразить, что комбинат принадлежит ему, что он сам будет распределять рабочих, служащих, инженеров по их местам, в то время, как их ждут специалисты, знатоки, хозяйственники, которые безошибочно укажут каждому его место. Фиктивная, смешная фигура врожденного, но бездарного хозяина, вдохновенного собственника. Нет, такой, Егор Егорыч, никогда не будет моим соперником по Сусанне. Материя, из которой сделан этот человек, садится при обработке, а обработка, которой может подвергнуть его Сусанна, рискована для подобных существ. Бьюсь об заклад, Егор Егорыч, истина.
Я отказался от заклада. Знай я доктора похуже, я б подумал, что он подслушал наш разговор в комнате сестер и даже подглядел обращение Черпанова с белокурой Сусанной, но покамест, надо полагать, доктору пришел на ум иной соперник. Кто? Приходилось ждать, пока он не выведет свои заключения сам. Я не торопил его с поездом, да и он сам не спешил. Так, по очереди, лежали мы на матраце, кипятили чайник, я попросил у Населя колоду карт, передавая ее мне, тот не преминул пожаловаться на родственников, которые мешают ему завести приличные карты, – я пригласил его разыграть партию в шестьдесят шесть – он испуганно отказался. Мы играли вдвоем: доктор оказался плохим игроком.
Под вечер следующего дня, когда я возле плиты заваривал чай, Черпанов пригласил меня к себе. Я отнес чай, – должен заметить, не обладаю привычкой спрашивать своих друзей: куда и зачем они уходят или откуда приходят, – и вернулся к Черпанову. Он взял меня под руку – и мы отправились обедать на стадион. Позади себя мы оставляли черный купол храма Христа Спасителя, похожий на дырявое решето. Против нас, перед площадью, лежали кирпичные груды взорванной церквушки, от которой еще уцелели своды с фресками конца XIX столетия, где святые, несмотря на мантии и ризы, все же походили стрижеными бородками и упитанными лицами на чиновников времени Николая II-го, а унылая однообразность неба и облаков напоминала царские канцелярии.
Черпанов затребовал борщ. Я подумал – и тоже заказал борщ. Этим поступком я как бы внутренне извинялся перед ним в том, что не возразил вчера доктору при его резких и неправильных определениях Черпанова. Держа ложку в борще и крутя перед лицом ломоть черного хлеба, Черпанов сказал:
– Ядро затевается. Спускаемся в шахты московские понемножку, Егор Егорыч.
Я порадовался, что затея его оказалась жизненной.
– Худеть вам от нее не придется, Егор Егорыч. Разрешите изложить вам басню происшедшего при посещении кустарного заводишка возле Савеловского вокзала.
Я обрадовался – и Черпанов начал:
* * *
– Обожаю я, Егор Егорыч, поэзию. То есть не то что обожаю, а всегда при добавочных затруднениях приходят ко мне различные стишки на память, даже не стишки и не на память, а так, возле, не мешая возвращаться к главной теме, подклеивается кое-что единогласное – в смысле стройности.
Ясно, что перейдя, так сказать, на «нелегальное» положение при самых легальнейших обстоятельствах, положение, смешнее которого и не придумаешь, собирать ядро пролетариата зачем мне по крупным заводам? Увариваться мне вначале на малом. Тут я вспомнил, что мельком обратил внимание, возле Савеловского вокзала, в переулочке, существует некий гвоздильный заводик, кооперативных начал, артельный. Иду. Естественно – ворота, естественно калитка, тесовый проход и возле табельной доски с тусклыми бляшками естественный и правдоподобный милиционер. Курит. Дым розовый. Вспомнил я поэзию – по причинам, выше объясненным. На ура спрашиваю технорука кузнечного цеха. А прах их знает, есть тут кузнечный цех? – «Васильева?» «На производстве». – «Так я и пойду на производство». – «Нельзя». – «Скажите, пожалуйста!» – «На производстве обеденный перерыв».
– И отлично. Мне и необходимо разговаривать с ним именно в обеденный перерыв. Я поэт. Леон Черпанов. Описывать ваш завод приехал. Начнем с обеденного перерыва, и в обеденном перерыве мотивов достаточно…
Мысль о поэзии оказалась правильной и полезной, потому что милиционер отложил последний остаток интереса ко мне, как человеку своему, примелькавшемуся и надоевшему, сказав: «Третий корпус направо». Корпуса до единодушия старенькие, закоптелые, простодушные, и технорук Васильев тоже простодушен и разговорчив: