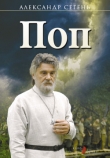Текст книги "У"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– И от нас она ждет изменений сметы?
– Зачем же доктору с голыми руками ездить?
– Ну, рубля по три в день мы заплатим. Неужели вся эта рвань и голь способна платить? Боюсь, что ей никто не платит. Черпанов еще туда-сюда, а остальные?…
– Шутите, – и Насель отошел от меня недовольный. Я обидел его обязательность. Возможно, что он имел и на меня какие-нибудь «сметные» соображения, не из праздности же он со мной болтал? Как приятно было сознавать, что сегодня вагон прекратит эту запутанную кутерьму, это бесплодное чтение по складам и жизненное разнообразие будет коротким и ясным. Однако бремя моих размышлений должно было увеличиться. Степанида Константиновна, скрывшаяся было, опять появилась, волоча за собой одутловатого старика с короткой багровой шеей, похожего на пестрого дятла, если можно вообразить, что дятел лет тридцать не умывался и не менял костюма, причем вся тридцатилетняя грязь не замазала, а только растерла по его фигуре свойственную ему блудливую хитрость. Она направилась прямо к Жаворонкову.
– Кто его отравил? – закричала она.
Дятел воззрился и долбанул клювом. Приходилось вам наблюдать ручное пахтанье масла? Нечто похожее на этот процесс по медлительности и звуку был разговор Льва Львовича, мужа квартироуполномоченной. Да и весь разговор-то заключался в двух словах:
– Во-он! Ко-онтры!…
Вон, контры, – и больше ничего. Могущественное слово! Брякнут вот такое слово, и перед вами словно опускается окно из матового стекла, вам и низкопоклонничать хочется, и душонку вы свою готовы продать за бесценок, за тартинку, за бутерброд и бюст ваш изображает готовность к покаянию, и на тело вы натянули власяницу, вы готовы искуплять, удовлетворять, – но уже взъерошенная гузка официальности скрылась за матовым стеклом! Позвольте, но ведь зачем же балдеть, зачем преждевременно платить пени, когда воскликнул это, может быть, каналья, дрянь, мерзавец и вы имеете все основания его третировать?
Эти соображения и не стал бы и скрывать, – очень мне противна развязность грязного дятла, – но я увидал в руке его тлеющий остаток сигары из тех, которые вчера купил доктор, и я поспешил покинуть кухню. Доктор в ванной делал гимнастику. Л. И. Черпанов сидел у колонки. Доски, настланные на ванну, заменяли ему постель. Изголовье – из книг по экономике и пятилетке, – украшенное «думкой», своей солидной сердцевиной могло ободрить любого из нас.
– Хорошо бы заварить чайку, – сказал доктор, приседая, – чай – величайшее изобретение человечества. После вашего, конечно, Леон Ионыч.
Черпанов скромно возразил:
– Инициатива чужая. Я, Матвей Иваныч, только исполняю ее.
– Смотря как исполнять. Можно приехать в Москву и заниматься отписками, а самому ходить по ресторанам, вместо того, чтоб посещать предприятия, толковать с рабочими. Да что рабочие? Вы правы, Леон Ионыч, когда утверждаете, что классовые прослойки плохо втянуты в пятилетку.
Мне показалось, что Черпанов несколько смутился:
– Матвей Иваныч, будто я иначе…
– А разве я неправильно вскрыл шифр вашего назначения? Разве вы доставите навербованных вами франко-порт? Нет, вы в людях так тонко разбираетесь, что их выгрузят непременно. Гранильным делом в Комбинате не занимаются?
Черпанов построжал:
– Гранильным? Нет. У нас металло-литейное.
– Я плохо знаю технику. Если Урал, так непременно камни, гранит, мрамор, гранильное дело. Значит, вы кое-какие предприятия, Леон Ионыч, посещали?
Черпанов уклончиво мотнул головой.
– Ну вот, видите. А Егор Егорыч утверждает, что видал вас в больнице.
* * *
Черпанов вздрогнул, быстро достал записные книжки:
– Я совершенно здоров. Понимая всю сложность и ответственность данного поручения, я запасся и на этот счет удостоверениями. Если вы думаете, что я психически болен, так вот вам бумажка…
Доктор отклонил протянутую бумажку:
– Зачем же, Леон Ионыч. Я и так вижу, что шасси вашего организма исправны. Экий вы вспыльчивый. Егор Егорыч видел вас в зубной больнице, а так как зубы и горло области смежные, то я, полагая, что вам зря не стоит терять времени на больницу, лучше показаться мне…
– Да не был я в зубной больнице.
– Скажите, пожалуйста. Значит, вы обознались, Егор Егорыч.
– Обознался, – ответил я хмуро.
Доктор подошел к Черпанову вплотную:
– А ну откройте рот.
Черпанов распахнул широкий свой круг рта.
Доктор постучал ногтем в передние зубы.
– Первоклассное произведение, и ни одной золотой коронки. Вы не любите желтого металла, Леон Ионыч.
Черпанов молчал, сухо глядя доктору в малахитовые его глаза.
– Не выпьете ли вместе с нами крепкого чаю, Леон Ионыч?
– Нет. Мне пора.
– На предприятие?
– На предприятие.
В коридоре я спросил доктора, для чего он угостил старика сигарой и зачем выдумал зубную больницу.
– Бесхарактерный старик, – ответил доктор пренебрежительно, бесхарактерный и подлый. А с чего ж вы взяли, что не были в зубной больнице? Были. Месяц назад.
– Но Черпанов-то приехал три дня.
– Забыл. Совершенно забыл. Неужели вы, Егор Егорыч, не говорили мне о нем? Ведь редкий, даже по внешнему виду, экземпляр.
Я смутился. Точно, месяц назад я был в зубной больнице! Возможно, я видел там кого-нибудь похожего на Черпанова. Так тому и быть. «Но ведь на кухне из-за вашей сигары разгорается ссора между Степанидой Константиновной и Жаворонковым!…»
– Прекрасный случай приняться за дело, – сказал доктор, направляясь в кухню.
Ссора не паросиловая установка: пустил, ушел, вернулся, а она работает по-прежнему; ссора – явление чрезвычайно капризное и малоизученное. Хотя из всех ссор квартирные уже поддаются классификации, и пора, пожалуй, изложить их законы. У меня на этот счет имеется много соображений. Я, собственно, из-за этого и пришел в кухню с доктором. Но, видимо, с тех пор, как я удалился, многое изменилось в настроениях вокруг основного капитала ссоры. Кое-где еще можно было уловить отзвуки того, чего я был свидетелем, все же могущей быть представленной, как нечто цельное, оставалась рыжая кошка, подле громадного помойного ведра, имеющего странный цвет дамасской стали, стремящаяся по-прежнему без ущерба для себя разузнать: в чем же тут дело, что столь гадко может вонять? Но каждый раз, ткнувшись носом, она, от негодования, вынуждена была перепрыгнуть через ведро. Боюсь, что кошка придавала запахам слишком большое значение.
Трудно было, например, установить родство между Мурфиными: они с такой усиленной благодарностью – за бездарно употребленные слова – нападали на отца, такую решили задать ему острастку, что, по всему видно, старик даже вышел из сигарного обалдения. Внутри себя они тоже лишились согласия: Валерьян тащил его за шиворот, а Степанида Константиновна употребляла все силы оставить все свои знания начертательной геометрии на его животе.
Вокруг Ларвина, Жаворонкова, Населя возникли свои клики. Трудно исполнить их лица, так быстро соглашались они на одно, тут же вмешиваясь в противоположное, жертвуя этим противоположным ради приношения третьему – и мгновенно соглашаясь на поднесение четвертому. Запаленность, удушливость мучили их, но никто из них не хотел быть ниже другого в ссоре, меньше, дешевле…
Доктор выступил вперед с веселой решительностью глушителя. Он поднял ладонь к лицу, потрогал мочку уха.
– Будем говорить начистоту, – начал он, глядя на Мурфиных, – поставим на ноги истину. Что такое отец? Империалистическая война, голод, безработица перед войной лишили меня возможности видеть отца, жить с ним, угнали его неизвестно куда, и в каждом старике, наблюдаемом мною сейчас, я стараюсь разглядеть отца. Попросту говоря, я его не знал совсем, но и в этом страдании, как и во всяком другом, есть свои хорошие стороны: не упираясь в достоинства или недостатки одного моего отца, я обеспечен теперь богатым выбором отцов и останавливаю, как я уже вам докладывал, свой взор на каждом из них. Тяжела участь отцов, граждане! И не потому, что дети к ним мало признательны, быстро теряют к ним уважение: с пятнадцати лет приблизительно авторитет отцов переходит на школу и школьных товарищей, еще лет через пять на любимую женщину или на честолюбие или бесчестолюбивое служение своему классу, то есть такое служение, когда честолюбие переключается на других, связанных с тобою не кровным родством, – а тяжело потому, что авторитеты настолько же близки нам, насколько они далеки нашим отцам, ибо эти авторитеты принимают иные формы, чем это было в подобном нашему возрасте отцов, и эти формы отталкивают их зачастую больше, чем содержание. Нам, которые очень сознательно пересматривают опыт поколений, можно и следует задуматься над участью отцов. Почему-то считается модным и страшно революционным отказаться от родителей, часто даже не посоветуясь об этом отказе с компетентными товарищами. И родители принимают подобные поступки за должное, часто для того, лишь бы не похвалить эпоху и ее формы. А не лучше ли задуматься в этом отношении, изложить, представить самому себе, посчитать себя немного обязанным отцам! Задуматься – не значит попасть под сапог отцов, я был бы величайшим глупцом, если бы призывал вас к этому. С моей точки зрения, нет ничего лучше, как делать попытки, от попытки многое зависит в жизни. В таком случае, представим себе такую попытку: один день в году, – причем лучше всего выбрать праздник, и чем этот праздник выше, торжественнее, тем лучше, – мы тратим в пользу отцов. На празднике я настаиваю и потому еще, что сами отцы чувствуют себя в праздник менее терпящими нужду, менее бедствующими, в праздник они обладают тем, чем удивляли нас до пятнадцатилетнего возраста, то есть – наивностью. В этот день за нами очередь испытать восторг и удивление перед отцами, забыть все ссоры и дрязги, подавить, укротить в себе все дурное, словом, – быть один день двенадцатилетними! Только один день в году будем уважать их мнения, их заблуждения, их печали. Как-никак со всеми этими заблуждениями и печалями они воспитали нас, дали нам знания, ловкость в жизни, смелость и оборотливость, они научили нас шататься с толком по рынку, они сопутствовали войнам, путешествиям, росту капитализма, – не беда, что за письменным столом или конторкой, – но их восхищение питало нашу ненависть или любовь к последнему; их наивные сказки про какого-нибудь там мальчика с пальчика даже и теперь имеют какую-то ценность в обиходе настоящего. Вспомните, как часто мы пытаемся побить великанов! Наше предложение? Да нет, граждане, я выступаю только от своего имени, наряду со мной нет официального общества, нет анкет и бланков, нет отчетности. Просто я, доктор Андрейшин, специалист уха, горла и носа, предлагаю каждому из вас найти в году тот день, который ему нравится, будет ли это начало весеннего равноденствия или какая-либо политическая дата, не исключен и день вашего рождения, но пусть перед вами с утра забрезжится…
* * *
– Так ты не официально? – спросил Жаворонков.
– Нет. Я ссудил вам свое личное мнение, граждане. Итак, с утра забрезжатся перед нами ваши двенадцать лет…
Хохот покрыл речь доктора. Хохот препятствовал ему, хохот из породы долговечных, прочных, добротных мелькнул вначале словно попона, словно скатерть, с тем, чтобы в дальнейшем опуститься, как одеяло, как потолок, кровля. От подобного обеспечения доктор опустил ладонь и прикрыл глаза!
– Ах, черт! Откуда он это взял? Ха-ха!… О-о… Вот дьявол! Отчего нам такое уважение?
Хохот растянул стены кухни; – ~ – знак долготы гласного звука вряд ли что определит кому! – звук этот несся по дому, оборонительно и наступательно бился среди ущелий, образуемых колоннами; вовлек в соучастие двор; вмешался в разговор прохожих на улице, заставив одних – вступить в спор: «Пьяны? Нет. Футбол. Да какой же с утра футбол! А какое пьянство? Пьянство – с вечера идет», – других – без спора – пойти домой и поделиться с домочадцами рассказом о счастливцах, с утра празднующих свадьбу на новой квартире; третьих – попытаться подхохотнуть. Хохот привлек на кухню мальчишек и старушонок. Старушонки похихикивали, мальчонки брали дискантом, а иные простуженные, альтом. И откуда только приперло мальчонок! Они заполнили весь коридор! Они вылезли из-под кроватей, из углов двора, где играли среди лопухов, ржавых листов железа и такой дряни, которая даже в утильсырье не годится. Они орали, визжали, царапали и снабжали друг друга тумаками. Хохот был то далекий, как грохотание трактора где-то за рекой и еле уловимые из-за множества заворотов, лесков и оврагов, то близкий, как гул от бондарной работы, когда рядом с вами бондарь наколачивает последний обруч. Даже кошка, фыркнув, унеслась прочь от ведра, которое по-прежнему выставлялось странным блеском дамасской стали! А какие длились гримасы! Этот дельфин; там какое-то лакомое кушанье, название которого вам за краткостью времени не удается уловить; эта колода для корма; тут ужасный профиль лягушки; там пролитый компот. И со всем этим хохотала плита кровавой пастью соснового пламени…
Доктор открыл малахитовые свои глаза, выхватив из кармана достопамятную коробку с дервишеподобными сигарами. Хохот умолк.
– Трудно быть хорошего мнения о том, что непонятно, – продолжал доктор. Я так и думал: формулировки мои неясны и провинциальны, но я теперь же закончу свою мысль. Прежде всего, не воображайте, что наслаждение, которое испытает в назначенный вами день ваш отец, – его принадлежность. Правда, он будет жить, утешаясь, что один день в году вы поняли его, вы были к нему внимательны, ласковы и вежливы, его депрессия постоянно будет разрушаться воспоминанием о том, как вы его снабдили червонцем, посетили вместе с ним пивную, зоосад или планетарий, кстати, все это стоит рядом, – но вам самим в следующем году будет легче провести этот «подаренный» день, да и из года в год отблеск этого наивного дня вам будет все слаще и приятнее. Ложась спать или когда вас будут давить в трамвае и вы заедете кулаком по шее какой-нибудь почтенной старушке, вы вспомните «подаренный» день и подумаете: а ведь, черт подери, отличная штука молодость, а тем более воображаемая! Медленно, но верно таким образом вы воспитаетесь до того, к чему столь упорно зовет вас современность: давать показания себе и другим во всех своих чувствах искренно. Часто отцы ваши живут плохо, в то время, как вы сами отлично питаетесь, вам тепло, хотя вы и жалуетесь на солнце, великолепно сияющее над вашей головой среди облаков, похожих на слоеные пирожки, которые только что выхватили из громадной кондитерской печи… Простите, вы курите, Людмила?
И он протянул сигарную коробку.
Я не столь крепко наблюдал за происходящим, меня больше занимала деликатная кошка, к тому же меня оттеснили вплоть до помойного ведра. Я плохо понимал, ради чего демонстрирует доктор свой образ мыслей. Я даже обратился к стоящей рядом Людмиле Львовне: как она представляет себе мысли доктора? Категорически утверждаю, что она не смотрела на доктора, а еще менее можно было вообразить ее любящей сигары. Людмила Львовна – мощные руки в боки – пылающая, грязная, в рваном атласном платье, оттолкнув тяжелым коленом меня, приблизилась к сестре. Колено ее требовало движений и действия. Доктор ее оскорбил! Не дав разглядеть себя – как жениха – он, чужой, ворвался в ссору и занимает свою, какую-то чрезвычайно выгодную и смелую позицию. Ага, ты не хочешь жениться на наших, так мы приготовили тебе другой венец! Так, я понял ее – мощные руки в боки, ее сдвинутые ключицы, иначе чем же объяснить ее поступок, когда она, оттолкнув коленом сестру, схватила помойное ведро и со всем содержимым надела его на широкую голову доктора.
Ясная улыбка доктора скрылась в ведре.
Он присел.
Опустела мгновенно кухня. Примуса шипели по-прежнему.
Сусанна легонько стукнула пальчиком по ведру:
– Да, он не провинциал, – сказала она лениво и протяжно, уходя вслед за Людмилой Львовной, которая все так же – руки в боки, все так же – пылающая грязью и доблестью.
С плеч доктора струилась чрезвычайно неприятная по пахучести жижа. Он мотал головой, бил по ведру кулаками. Я растерялся. Детский визг опять объявился в коридоре, но на этот раз его загнали в комнаты ловкие шлепки. Кастрюли покинуто шипели, одна плыла розовой пеной. Я догадался, наконец, поставить доктора на голову – и он, так сказать, выплюнул из себя ведро. Я повел его было под кран, но он, схватив кипящий мой чайник, устремился в нашу комнату. Понятные всем соображения заставили меня не очень густо торопиться к нему.
Я постоял на крыльце. Облака в небе больше походили на дезинфекционные пары, чем на слоеные пирожки.
Когда я вошел в комнату, доктор мыл руки над эмалированным тазиком. К счастью, широкие плечи доктора плотно закупорили ведро, и пострадала только его рубашка. Со счастливым лицом он похлопал ладонью эмалированный тазик.
– Все-таки она заботится обо мне, если оставила в коридоре свой тазик. Как жаль, что я растоптал сигары, Егор Егорыч.
– Через три часа на вокзале купите.
– Вы полагаете, что я успею за три часа отмыться, Егор Егорыч?
– Тогда я уеду, Матвей Иваныч, один.
– Невозможно! Главное, как ожидать, чтоб такое невзрачное ведро издавало удивительно густое зловоние, словно оно всю жизнь копило его для меня. Поступок Людмилы Львовны с ведром чрезвычайно поучительный по выводам, Егор Егорыч.
– Еще бы. Передают, что один офицер, из кулачков, дотянувшийся к чину, дорвался и до камина и так энергично начал сушить ноги, что обувь зашаело. Денщик, увидев это, говорит: «Ваше благородие, вы шпоры сожжете». – «Врешь, разве сапоги, да и то они сгорели. Благородные не придают значения сапогам».
– Егор Егорыч, стойте! Она хочет сказать: на тебя будет вылита вся гадость, которая окружает меня, все сплетни и мерзости, но ты терпи и умей разбираться. Если даже помойное ведро тщательно почистить, покрасить и дезинфицировать, то и в нем можно носить питьевую воду.
– Пусть сама носит!
– То есть, ты можешь надеяться на лучшее, умей бороться и уничтожать препятствия, а самое главное, несмотря ни на что, должен быть весел, приветлив и спокоен. А что вы, Егор Егорыч, централизировали в себе из моей речи?
– Теперешней?
– Нет, в кухне.
– Перед ведром?
– Если вам хочется четкости, то – да, перед ведром, Егор Егорыч.
– Вначале вы наврали насчет своего отца, когда вам и мне известно, кто ваш отец. Меня мало занимает вопрос о «подаренном» дне, касательно к вам, но удивительно превратно толкование своих поступков, когда, только что отравив отца сигарой, доведя его до редкого обалдения, вы указываете на желаемость любви к старикам.
– Ну, знаете, Егор Егорыч, ваши придирки относятся больше к методам, чем к выводам.
– Выводы дезавуированы моим носом.
– Понятно ли вам, Егор Егорыч, что мы с вами наблюдаем удивительно крепкую клику, прекрасный кастовый дух, великолепно спаянную семью. Тумаки отцу и мужу? Чепуха! Показное. Смеялись над моим предложением? Да они потому и смеялись, что ежедневно и ежечасно они проводят мое предложение с той разницей, что в семье нет разлада и им приходится придумывать разлад, плотность и целостность этой семьи удивительна! Они вас обманули, Егор Егорыч, так же как они обманывали десятки и сотни до вас. Помимо того, что я только что расшифровал перед вами, почему Людмила Львовна так задушевно пошутила со мной? Да потому, что я намекнул на отраву ее отца сигарами…
– Только на сигары?
– Вы понятливый ученик диалектики, Егор Егорыч. А по-вашему на что же я мог намекать?
– Сигары вы сублимировали, как образ вашей любви…
– Та-та! Бросьте. По-вашему, она отшвырнула мою любовь?
– А помойное ведро, Матвей Иваныч, если рассматривать, как символ…
– Вот и учи профанов!
Доктор захохотал и, схватив тазик с полотенцем, выскочил.
Психоанализ психоанализом, но я испытывал такое состояние, как будто и меня облили помоями. Нет, многие метафоры ценны именно как метафоры!
* * *
Черпанов брился возле трюмо. Доктор плескался в ванной. По-разному бреются люди. Один бреется от уха к подбородку, другой – от подбородка к уху, иной бреется туго, иной легко, иной любит посвистать во время бритья, а иной вывести такую песенку, чтоб было пожалобнее, а иные придерживаются такого молчания, словно во рту у них девизный вексель, соответственно обставленный проездными документами. Черпанов, видимо, любил бриться с разбросанными разговорами.
– Обождите-ка, – остановил он меня ногой.
– Быстро вы, Леон Ионыч, отделались.
– Не отделался, а вернулся. Осознал – у всех нас глубокое временное жилище. Все мы в быту кочевники, с трудом переходящие к осмысленной, то есть оседлой жизни. Вот поэтому-то и надо усы сбрить.
И он действительно намылил усы и взмахнул бритвой.
– Зачем?
– Не орите под руку, – со злостью отозвался Черпанов. – Ваш доктор прав в одном: если тебя направили – действуй решительно вплоть до полного признания. Кочевники? Сади их на оседлость, заставляй их приспособляться к жизни, дистиллируй их.
– Какие же кочевники в Москве?
Бритва отвалила пол-уса, обнажив синюю твердую губу. Он приблизил лицо к зеркалу. Отошел. Опять приблизил. Как бы с сожалением помял в пальцах пол-уса, а затем быстро намылил еще губу.
– Продал я вчера спекулянтику поддевочку синего заграничного сукна. И продешевил, кажись.
– Зачем же продавать?
– Поручили.
– Близкие поручили?
– Какие близкие?
– А чего ж грустите, если продешевили.
– Ну вот, характер такой. А сегодня продумал, в связи с решимостью, – и вышло зря продал. Лучше бы обменять. Ну разве на мне костюм? Мог бы, в конце концов, и в поддевку нарядиться.
– Кто же теперь носит поддевки, да особенно в Москве?
– Именно. Кто наденет зеленую поддевку? Ее, небось, на Урале какой-нибудь скотопромышленник носил.
– Почему скотопромышленник?
– Скотопромышленники обожали темно-зеленое. Из ихнего сословия происходили самые знаменитые биллиардные игроки. А не сыгрануть ли нам, Егор Егорыч, на биллиарде?
– Сыграли б, да вот сегодня уезжаю.
– Куда?
Я объяснил.
Он уже отмахнул второй ус, присмотрелся, еще раз намылил щеки и, указывая головой на портфель, сказал:
– Отдых? Вот и отдохнем вместе. Первое отделение откройте, Егор Егорыч, лежит там в синем конвертике бумажка. Очень вашего отдыха касается. Прочтите.
Я прочел телеграмму: «Продолжайте комплектовать, – торопили Черпанова из Шадринска, – если даже арестуют, сообщите, выручим. Директор строительства Забисин». Кроме телеграммы, в конвертике лежали черпановские полномочия за подписью того же Забисина на оптовое и розничное комплектование рабсилы.
– Да и доктор сегодня не едет, Егор Егорыч, отдыхать с вами.
– Как?
– Только что порадовал. Буду, говорит, ожидать вместе с вами полной укомплектовки вашего, то есть моего, задания. – Черпанов посмотрел на меня значительнейше и еще более значительнейше проговорил:– Откройте второе отделение! Загляните, но не вынимайте. Документ чрезвычайной важности!
Я заглянул во второе отделение портфеля. Там лежал толстый пакет, без адреса, с девятью печатями, гигантскими и сургучными:
– Пониме?
– Нет.
– Мореплавание знаете?
– Нет.
– А слышали: капитану дается пакет, который он распечатает, скажем, у Манильских островов и там находит поручение чрезвычайной важности?
– Кто же ваш капитан и где же находятся ваши Манильские острова?
– Изучайте навигацию. Изучайте революционную навигацию, дорогой Егор Егорыч!
Я чувствовал, что Черпанов побеждает меня. Нет, зря я думал о его провинциальности и уже совершенно зря поверил доктору, что он намеком своим направил Черпанова на усилие комплектовать рабсилу в таких местах и таких людей, где никого никто еще за все время революции не комплектовал. Смущало меня, правда, то, что намеки доктора о черпановском костюме оправдались, но мало какие намеки бывают, а затем, возможно, что Черпанов придает свое, особое и возвышенное значение заботе о костюме. Копошась в остатках этих размышлений, я нерешительно сказал:
– Пожалуй, лучше уж мне одному тогда уехать в дом отдыха-то?
Черпанов мял у зеркала жесткую свою губу.
– Позвольте, да вы, Егор Егорыч, ознакомились с задачами строительства? Чего вы бунтуете? Что вы знаете? Строительство наше, дорогой мой, и сверхмощное и сверхбыстрое, а главное – сверхнеобходимое, иначе б мне не отпустили такие полномочия и я бы усы не сбрил.
– Вот еще усы приплетете к строительству.
– А чего нет? Поскольку усы пускают меня в нелегальность, раз я поругался с инспектором труда, постольку они заставляют меня действовать более революционно. Все удавшиеся революции были бритые.
– Да вы, кажись, комсомолец, Леон Ионыч.
– Я?
Черпанов помял нижнюю губу.
– И то и се. Но разнюсь уполномочиями. Помните, что нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи – все равно. Но чтоб мгновенно! Вот я вам проектики покажу, пальчики оближете. Переделка в три дня…
Удивление, должно быть, непосредственно перешло на мое лицо, потому что Черпанов, взглянув на меня, многозначительно добавил:
– То-то.
Становилась понятной его гордость, с которой он встретил нас у ворот и даже его снисходительное отношение к «сковыриванию» доктора, когда он узнал, что доктор готов идти служить в комбинат.
– Вам, Леон Ионыч, для такой цели нужны, наверное, особые люди.
– Кое-кого собрал.
Он сбоку соединил обе губы, присмотрелся – и остался доволен. Быстро повернувшись, он хлопнул меня по плечу:
– Обдумывал я сегодня и с такой точки зрений, Егор Егорыч, – что ж, если решаться, так и надо решаться! Вот хотя бы касаясь особых людей. Где их найдешь, если простых чернорабочих нет на рынке. По правде сказать, так для меня, чем люди хуже, тем лучше. Если у человека хорошие задатки и я его перевоспитаю, то какая мне от него благодарность? Он и перевоспитания моего ценить не будет, он все своими хорошими задатками будет хвастать и, того гляди, в моих действиях дисгармонию может разглядеть, свою линию пожелает загнуть, сам дирижировать собой, диктовать свои реформы. Какая же мне благодарность? Так?
– Так-то так, однако…
– Выкатывайте, Егор Егорыч, ваше однако!
Черпанов меня озадачил.
– Однако почему же за дрянью в Москву ездить?
– Дрянь дряни рознь, Егор Егорыч. Есть дрянь неученая, неграмотная, неловкая, стихийная, так сказать, дрянь. Такой дряни, безусловно, везде много. Но есть дрянь не так, чтоб уж очень дрянь, а полудрянец, который если даже слегка обработать, то он в деле окажется очень и очень полезным. Вот такой ученой, грамотной дряни, зря пропадающей, много, думается мне, в центрах, где пропадает она без толку и без счастья. Мы ее хватаем – и в домну!…
Вспомнив наш наем, я обиделся.
– Не принимайте на свой счет, Егор Егорыч. Иначе я бы пустил вас в отпуск, сказав: погуляйте, подумайте и приезжайте. Нет. Я вас отнес в свои помощники, а не учащиеся. И как мне раньше в голову не пришло взять секретаря! Я же шестнадцать городов объехал, а и шестнадцати дельных людей не собрал. Что происходит, объясните мне? Сто пятьдесят миллионов в стране, а нету рабочей силы. Что – все лентяи? Или больные? Ну, добро бы квалифицирку искал, а то беремся мгновенно обучить, в кратчайший срок преобразуем из лодыря литейщика первой категории.
Он толкнул ногой портфель:
– Вот тут поглубже брошюрку моего сочинения на эту тему обнаружите. Так ведь нет даже людей, которых можно бы было заставить прочитать брошюру. Это подвиг, Егор Егорыч, собирать теперь рабсилу.
– У вас редкий подвиг, если я, Леон Ионыч, правильно вас понял.
– Повторите.
Я повторил ему, как я его понял. Он пожал мне руку.
– Иначе б и не взялся, если б не трудность подвига. Если уж совершать, так совершать по-настоящему. При тысячесильном моторе и дурак перелетит через океан, а вот ты его перелети верхом на гусе. Это уже, Егор Егорыч, получается не подвиг, а сказка, но сказка, закрепленная соответствующими полномочиями.
– Отлично, – ответил я, – нету у вас рабсилы, так наше строительство другой класс за бок хватит.
Я заметил осторожно, что так ли он понял свои полномочия, что нет ли здесь ошибки, хотя, с другой стороны, его партийность позволяет ему уточнить и разъяснить в Москве директивы и, если они ошибочны, – исправить.
– Будьте покойны. Проверил. Директивочки правильные. Но только заметьте в качестве опыта, и вы в них окунаетесь по должности секретаря. Вы тоже, Егор Егорыч, делаетесь до некоторой степени нелегальным.
– Леон Ионыч, а не кажется вам нелепым, что для вполне легального, государственного и даже поощряемого предприятия мы должны жить и действовать нелегально?
– Я и сам так думал, Егор Егорыч, до той поры, пока не сбрил усы, а сбрил и мне подумалось, что чем крупнее предприятие, тем в нем больше тайн, хотя бы это и предприятие заготовляло одно молоко. Вот хотя бы обратите внимание на сырки, которые выпускает «Союзмолоко». Сырок в мокрой бумажке, и цена-то этому сырку пятнадцать копеек, и едят-то его, преимущественно, дети, а какой лозунг напечатан крупнейшим шрифтом на обертке: «Оппортунизм худший враг пятилетки». Поройтесь-ка в «Союзмолоке», вы там и не такие тайны найдете!
Стрелка, между тем, далеко подвинулась за полдень. Доктор все еще мылся. «А, прах с ним, – подумал я, – пусть моется, ну, уедем завтра, кажись, последний день, на который можно отсрочить билеты».
Черпанов двинулся к выходу:
– Оставайтесь, Егор Егорыч. Нам ученые люди нужны, а если они честны, тверды и поворотливы к требованиям науки, высокие цели ждут их.
Почему я не ответил отказом? Сознаюсь, я всегда считал, что быть секретарем большого человека лучше, чем быть самому большим человеком. Ответственности – никакой, а если большой человек покатится, то падать секретарю, несомненно, легче, хотя бы потому, что высота, на которую вознесен большой человек, неизмерима с высотой его секретаря, как бы он ни был услужлив. Что же касается могущества, то оно всецело зависит от секретаря, по общему мнению, оно часто лучше изобилует благами, чем могущество большого человека. Когда большой человек приходит к славе? Очень поздно. Покуда он до нее доберется, до тех пор его крепко зацепят болезни, изведут бессонные ночи, непрерывная борьба с противниками, родственниками, женой, наконец. Постоянно он торчит над книгами, изучает языки, постоянно должен держать в памяти бесчисленное количество фактов, цифр. Там ему нужно просмотреть и сравнить одно, здесь поехать, проштудировать и процитировать другое, а тут ожидает третье, еще более мучительное. К тому же заботы, измены, предательства. Тот же самый человек, которого ты вчера еще считал своим другом и почти отцом, сегодня из-за угла плюнет тебе в глаза, да еще притом с такой ловкостью, что ты и не разглядишь его лица. Будущий твой ученик, несомненный талант, вдруг запустит такую подлость, с таким искусством оклевещет тебя, что ты только руками разведешь, если они у тебя еще не отнялись раньше от негодования и непосильной работы. И все-таки, несмотря на все препятствия и трудности, большой человек прет и допирает. Вот здесь-то и ждет его секретарь, молодой, полный сил, решительный – и часто не дурак выпить. Ну, что выпить? От выпивки редкий человек откажется, и это, собственно, никак человека определить не может, да и что, подумаешь, за благо – выпить, нельзя же, скажем, выпить сразу бочку, а раз нельзя, то стоит ли спорить об этом. Нет, секретарь получает другие блага, которыми не может уже пользоваться большой человек. Скажем, живот. Ну разве есть живот у большого человека? Нет живота, заявляю с полной ответственностью за свои слова. Какой это живот, если он не может переварить сразу три порции шашлыка по-карски, поросенка с хреном, рябчика или какой-нибудь десяток стерлядей. Плевать я хочу на такой живот. А костюм? Разве может на большом человеке висеть по-настоящему костюм? Нет, лучше уж вешалку тогда посадить в машину и пустить по улицам. Понимая это, большие люди и натягивают на себя всяческую дрянь, до брезентовых штанов включительно. А девушка? Фу, даже говорить не хочется. Что понимает большой человек в девушках? С какими ему силами к ним подходить? Ну, допустим, подошел, ну, сел, взял там за руку, что ли. А дальше что? Дальше он будет думать: э, забыл записать то-то, э, не дочитал того-то, э, запамятовал напомнить тому-то по телефону. И кажется ему, что и девушка-то глупа, и порет глупости, а глаза-то у ней не такие прозрачные и приятные, как чудилось раньше, да и вообще походка-то дурацкая, а если попытается молчать, то и молчит-то чрезвычайно пошло. Вообще, не угодишь. То ли дело секретарь! Он ее сейчас в кино, он ее сейчас в Большой театр на балет, он ее на бега, он ее на машину со скоростью в сто пятьдесят километров, так что девушка хочет – не хочет, а сама виснет на шее. Да, превосходная вещь – секретарь большого человека.