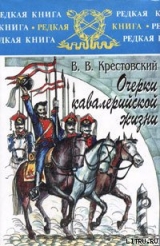
Текст книги "Очерки кавалерийской жизни"
Автор книги: Всеволод Крестовский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Представьте, однако, себе реб Ицку Мыша не в генеральских пока еще, а просто в офицерских чинах. Представьте себе его хотя бы в качестве эскадронного командира. Вообразите его на борзом коне (если только Ицко решится взять под свое седло борзого) пред лихим эскадроном (если только у такого командира эскадрон будет лихим), в то время когда майор Мыш по сигналу «рысью размашистою» скомандует своей части:
– Шкадро-он, равненю у право, из рисом ма-арс!..
Или например:
– Шкадрон, из права на одногхо, з рубком, з пупком, з фланкировком, в барьер на карьер марс-марс!
А каков реб Ицко Мыш будет в бою в момент атаки – этого даже и вообразить себе невозможно! Зато очень возможно представить себе, что он будет в мирное время и какой «гандель», какие такие «гешефты», какую «кимерцию» будет извлекать из своего эскадрона, из своих гарнцев овса и пудов сена, и что за лихой вахмистр будет у Ицки Мыта!.. Можно держать сто против одного, что этот вахмистр будет называться Иоськой Беренштамом и во всех «гандлах» и «гешефтах» окажется правой рукой своего достойного и храброго командира. А как хорошо будет жить русскому солдату под управлением Мыша и Беренштама!..
Впрочем, что ж!.. Либеральные газетчики в этом случае могут сослаться на пример Европы и либерально приветствовать Идеков в роли наших военачальников. Подождем и поглядим, – быть может, и это случится.
* * *
Но нет, серьезно говоря, насколько могут быть желательны, не говоря уже об Мышах, а просто «партикулярные», полугодовые офицеры в рядах нашей армии? И что эта армия станет с ними делать? Не лучше ли, прежде чем либерально приветствовать слух о «новых правах» наших семинаристов и «зрелых» евреев, подумать о том, чтобы русская армия была вполне и на всякое время обеспечена корпусом вполне знающих, способных и соответственных своему назначению офицеров? Не лучше ли подумать о том, каким образом удержать их в рядах армии, каким образом обеспечить положение офицера и нравственно, и материально так, чтобы мало-мальски способный человек не бежал при первой возможности из армии в службу по акцизу, по контролю или по железным дорогам? Общая воинская повинность, бесспорно, прекрасная государственная мера в рассуждении солдатского звания, как звания легче усвояемого и требующего несравненно меньшей подготовки, чем должность офицерская. Но «полугодовые» офицеры... Прежде чем либерально приветствовать такой слух, газетчикам, если они не Ицки Мыши, а русские люди, не мешало бы серьезно подумать о последствиях, какие могут произойти для русской армии от таких опытных руководителей.
III. На траве
1. Веселый поход
Весенний кампамент кончился. Июнь пришел на смену маю. Эскадроны из полкового сбора расходятся «на траву». «Трава» – это кавалерийские каникулы. С «травою» начинается «вальготное» летнее время и людям, и коням. И те, и другие в течение шести недель, а иногда и целых двух месяцев отдыхают от фронтовой службы весеннего сбора: не нужно надевать на себя никакой сбруи – ни мундиров, ни шапок, ни амуниции, – знай себе одно только дело: уборку коня да через день ступай в луга косить сено. День косьбы и день отдыха, а за косьбу – и лучший кусок мяса, и лишняя чарка водки. Кони в это время раскованы и овса уже не получают, а едят одну свежую траву, которая необходима для них в гигиеническом отношении как кровоочистительное средство, после чего, с переходом на овес, лошадь становится бодрее и лучше возьмет настоящее, прочное тело, которое у кавалеристов называется «овсяным» телом в отличие от дутого и непрочного «сенного».
С вечера принесли приказ по полку. Что там такое? Читаем: «С окончанием весеннего полкового сбора, предписываю с завтрашнего числа эскадронам выступить на травяное довольствие в места их расположения».
– Прекрасно. Степан! Взводный был?
– Заходил, ваше благородие. Сказывал, что майор приказали в семь часов утра выступать.
– У тебя вещи уложены?
– Все готово-с. По утречку подвода выедет... я уж распорядимшись.
* * *
Утро свежее, погожее. День будет жаркий, но до места дойти успеем еще до солнцепека: придем часу в одиннадцатом.
Я вышел за город, к мосту, чтобы встретить там эскадрон и идти с них походом. На мосту уже стояла небольшая кучка наших эскадронных юнкеров и офицеров. Все в походной форме, в лядунках и при пистолетах. Одни из офицеров только проводят свои эскадроны, доставят себе маленькое удовольствие прогулки верхом в прекрасную погоду и вернутся в город; другие, командированные полковым приказом, пойдут на траву со своими частями. Я был в числе этих последних. Тут же, около этой группы, стояли двое денщиков «с запасами».
Вот на подгородной дороге показались облака пыли, сквозь которую мелькают вороные кони, белые кители и острия пик сверкают искрами на солнце. «Наши подходят!» Эскадронный командир, красиво собрав горячего, видного коня, коротким галопом молодцевато подъезжает к ним навстречу, и грохот ответного отклика на его «Здорово, люди!» бодрым и свежим звуком несется в утреннем воздухе. Эскадрон проходит мимо нас и на минутку останавливается за мостом. Рейткнехты подводят лошадей офицерам и принимают от денщиков дорожные «запасы», которые спешно и ловко привычной рукой упаковывают в свои кобуры. Вызвали песенников вперед и тронулись далее.
Дорога идет длинной аллеей и теряется за пригорком. Старые вязы, тополи, березы и рябины кидают на нее прохладную тень и тихо шелестят росистой листвой. Офицеры вольно едут себе впереди и несколько в стороне от эскадрона, стараясь под широкими и кудрявыми ветвями доставить своим коням прохладу утренней прозрачной тени. Аромат сигары порой смешивается с запахом русской махорки, который, будучи доносим иногда легким ветерком, становится как-то особенно приятен на воздухе.
Прошли двенадцать верст незаметно. На дороге, под сенью высоких, старых деревьев, стоит одинокая белая корчма, известная под именем «Мурованка». Взглянув на нее, видно, что древняя, прочная постройка. В ее сыроватых и мрачных стенах в 1863 году пировали повстанцы, не помышляя о роковой близости генерала Ганецкого. Вот в стороне крест, на котором хотели распять казака, случайно перехваченного на дороге; только не удалось: ловкий казак как-то хитро успел увернуться и удрать на своем скакуне от крестной смерти. Здесь эскадрону сделали привал. Людям – обычная чарка водки, а офицеры с юнкерами, расположившись на земле под деревом, распаковывают свои «запасы». Походная фляга идет вкруговую, и неизменная жареная курица кромсается на части; неизменные пирожки с капустой, словно из рога изобилия, сыплются на траву из неловко развернутого бумажного тюрика. Умный эскадронный Шарик, почуяв съестное, подбежал дробной побежкой, вежливо виляя хвостиком, и уселся тут же, умильно поглядывая на закуску и засматривая в глаза всем и каждому: неужели, мол, вы, господа офицеры, Шарика позабудете? В офицерской кучке и в солдатских группах идет какой-то, по-видимому, беспричинный, но добродушно-веселый смех и говор: погода это, что ли, действует таким образом – не знаю, только очевидно, что всем очень весело.
Солнце начинает уже печь – и как приятно теперь на несколько минут растянуться себе, заложив руки под голову, на сыроватой земле, под деревом, которое бросает на тебя свою колеблющуюся, золотисто-зеленоватую тень, а сквозь эту тень так ласково пробиваются мелкими светлыми пятнами – как сквозь сетку – лучи горячего солнца! Легко, хорошо, привольно... Голубое, глубокое небо сквозит из-за листьев. Взор лениво и беспечно блуждает вокруг, переходя от ветвей и неба к тем полям, по которым волнуются легкими тенями еще зеленые, но уже колосистые нивы, и сквозь шепот листьев слышно, как дождем сыплются над этими нивами звуки бесчисленных жаворонков и какую тревогу бьют в траве кузнечики... Под эти звуки начинаешь будто забываться немного полудремотой, как вдруг: «Садись!» – и снова на коня, и снова пошел походом!
2. Ильяновский фольварк
Свернули с большой дороги влево и пошли проселком. Впереди засинела гора, покрытая сосновым бором. Это – Гродненская пуща зачинается. На склоне этой горы, среди леса, стоит Ильяновский фольварк, куда мы теперь направляемся. Дорога идет открытыми полями, по которым торчат высокие, покосившиеся кресты, разбросанные и там и сям, во все стороны: кое-где видны соломенные кровли убогих деревушек, кое-где возвышаются группы высоких тополей, являющиеся неизменной принадлежностью панских фольварков.
Солнце печет. За эскадроном стоит облако пыли, поднятое конскими копытами. Жара, очевидно, умаяла людей, и они примолкли. А в этой тишине сквозь мирный и однообразный конский топот еще слышнее и отчетливее рассыпаются с неба серебристые трели жаворонков, а под ногами кузнечики поднимают такой оживленный концерт, что кажется, будто это сама трава стрекочет.
Но зато после жаркой и пыльной духоты как освежительно обвеяла нас вдруг сероватая прохлада густого леса! Запотелые и запыленные кони подбодрились и зафыркали, чуть только вступили под широкую тень; между людьми тоже легкий говорок пошел – и примолкшие было песенники дружно подхватили вдруг веселую песню, которая среди частого леса раздается как-то громче, ярче, полнее.
Что за веселый этот лес Ильяновский! Характером своей растительности он несколько напоминает Беловежскую пущу, хотя, конечно, в миниатюре и гораздо беднее. Огромный, широкий и раскидистый орешник густо заслоняет нашу дорогу с обоих боков ее, а над ним вековые дубы простирают крепкие ветки и старые грабы раскидисто сплетают в виде навеса свою ярко-зеленую, изящную и веселую зелень. Прелесть как хороша эта короткая лесная дорога!
И вдруг повеяло на нас чудным ароматом розы и жасмина. Что это за запах? Откуда он несется? Мы с двумя товарищами свернули с дороги в сторону; продираясь между хлесткими зелеными ветвями, углубились в лесную чащу, которая то и дело прерывается небольшими полянками и лужайками, каждая в несколько саженей в окружности, – и вдруг открываем в этой чаще одичалые кусты белых роз, усеянные пышными цветами, и купы одичалого садового жасмина, на которых, как звездочки, сверкают белоснежные грозди цветов. Откуда вдруг такая роскошь среди этой глуши? Мы с коня нарвали несколько пышных пучков роз и жасминов, с которых скатывались еще редкие капли росы, и привезли их к эскадрону. Товарищи наши были приятно изумлены этим неожиданным сюрпризом.
– Где, что, как и откуда взялись такие пышные букеты? – посыпались на нас расспросы.
Эскадронный командир, который уже не первое лето стаивал в этих местах «на траве», разрешил наше недоумение: здесь некогда был обширный парк знаменитого польского графа Валицкого. Этот прекрасный парк давно уже заброшен, забыт, заглох и превратился в дикий лес, где местами сохранились еще и до наших дней одичалые кусты жасмина, роз и сирени. Если некогда возделанный парк был великолепен, судя по рассказам, то ныне этот лес с такой роскошью цветов, по моему мнению, стал еще лучше, еще прекрасней после того, как время наложило на него свою руку и щедро впустило в него столь поэтическую одичалость.
Но вот лес кончился. Поднимаемся на плавно-волнистую возвышенность, и вдруг – пред нами открывается зеркальная поверхность широкого, большого озера, которое сверкает своим серебром между кудрявыми купами деревьев. Далеко, вправо, видны над озером черепичные и соломенные кровли, башенки костела, купол и колокольня церкви; это – местечко Езёры, принадлежавшее некогда тому же графу Валицкому, а ближе, налево, возвышается гора, покрытая высоким синим бором. Это уже Гродненская пуща. Березы, клены, вязы, ольха и осина спускаются к самому берегу озера, где между зеленью видны кое-какие постройки, сараи, домик; близ домика вьется белый дымок из-под ветвистого навеса, под которым устроена эскадронная кухня, а выше, на пригорке, стоит с распростертыми крыльями ветряная мельница. Мы опять вступаем под тень деревьев и поднимаемся в гору. Здесь встречают нас квартирьеры, от которых отделяется унтер-офицер и официальным шагом подходит рапортовать эскадронному командиру. Шарик узнал своих, узнал знакомые места – и потому, задрав кверху свой крендель, бойко пускается вприпрыжку вперед, оглашая воздух веселым и звонким лаем.
Неподалеку от озера, в лесу, на полугорке, под сенью высоких сосен Гродненской пущи, притаился одинокий йльяновский фольварк. В этом лесном убежище наш эскадрон проводит время своей «травы». Взводы тотчас же разбились по фольварковым сараям, которые без всякого порядка разбросаны и там и сям, между лесом, но далеко один от другого. Люди устроили стойла и тут же по сараям приладили свои собственные постели.
– Теперича мы, значит, на даче! – осклабясь широкой улыбкой, с видимым удовольствием говорит Каковин, эскадронный запевала, распустив свою амуницию и расстегивая китель. – Прекрасная трава будет, братцы!
– А ты почем знаешь? – откликается ему взводный.
– Потому и знаю, что день нонича очень прекрасный: ишь, какая теплынь! И свету сколько! Уж это у меня первая примета такая – как выходить на траву, ежели день погожий, и вся трава веселая будет.
– Твоими бы устами да мед пить!
– Ну, мед не мед, а водочки, даст Бог, своими устами хватим!
Входит в сарай эскадронный вахмистр – осведомиться, хорошо ли в каждом взводе устроились люди и лошади.
– Андрею Васильевичу!.. С травой честь имеем поздравить! – летят ему навстречу приветливые голоса веселых солдат.
Офицеры вместе с майором, т. е. эскадронным командиром, располагаются по комнатам панского дома, являющегося лучшим образцом тех помещичьих обиталищ, которые в Литве и в Польше известны под характерным именем соломенных дворцов . Это был «правдзивы палац сломяны». Низенький, деревянный, одноэтажный, с небольшими окривелыми окнами, рамы которых качаются на плохих железных петлях, с бревенчатыми балками поперек потолка, с белеными стенами и расщелистым полом, крытый соломенной кровлей дом этот служил некогда убежищем одному из самых ярких и характерных представителей «старожитной Литвы» конца прошлого столетия.
Теперь он пуст и оживляется на несколько недель только летом, когда его займут под постой наши офицеры. В соломенной кровле, поросшей темно-зеленым бархатным мхом, гнездится множество воробьев; вдоль беленых стен, между переплетов, растут абрикосы; решетчатые крылечки густо увиты зеленью хмеля и дикого винограда; по этим стенам и по вьющейся зелени в солнечный полдень бегают шустрые ящерки, а под половицами гнездятся ужи, которые иногда сквозь широкие щели заползают и в комнаты.
Сначала такое соседство казалось не особенно приятным, но вскоре мы совсем привыкли к этим безвредным змеям.
Странное и какое-то смешанное впечатление производит этот «палац сломяны», брошенный среди леса и заглохшего парка, в южной части громадной Гродненской пущи, на берегу широкого и прекрасного озера. Поглядеть на него снаружи – низенький, одноэтажный, деревянный домишко под соломенной кровлей, построенный глаголем, и только. Кажись бы, ровно ничем не отличается от сотен тысяч подобных же шляхетских соломенных палацев, в изобилии раскинутых по всей Литве и вообще по Западному краю. Но чуть вступишь под эту убогую кровлю, тут и начинается это странное, смешанное впечатление. Внутри ряд низеньких, темноватых комнат, с маленькими окнами, с потолком, наставленным поверх поперечных балок, с белеными стенами и некрашеным полом. Мебель сбродная, стародавняя и дубовато-крепкая, всем характером и видом своим обличающая несомненное местное происхождение. Все серо и скудно, и ото всего веет каким-то сыровато-затхлым холодом запустения и некоторой мрачностью. Но тем сильнее, тем поразительнее действует на вас неожиданный вид драгоценных предметов самой изысканной артистической роскоши, собранных в этих бедных стенах, под этой соломенной кровлей. В углах стоят китайские боги и японские фарфоровые вазы, более чем в полтора аршина вышиной, испещренные затейливой живописью; на окнах и на простых, тесовых столах тоже красуются подобные же сосуды, несколько меньших объемов, носящие на себе клейма китайских и древних японских мастеров, рядом с произведениями королевско-саксонской и севрской фабрики. Стеклянный шкаф, на котором скалит зубы чей-то желтый череп, облеченный в древний рыцарский шлем, наполнен дорогим и редким хрусталем и коллекцией дорогих яшм, аметистов, лазоревого камня, малахитов и других наиболее ценных горных пород. На стенах в старинных золоченых рамах, почерневших от времени, висят прекрасные картины, принадлежащие кисти старых, хороших мастеров испанской и французской школы. Но, Боже мой, в каком запущении, в каком упадке все эти драгоценные коллекции! Иные картины прорваны и облуплены, хрусталь побит, некоторые вазы сломаны... Жалко и больно смотреть на эти дивные вещи, и вместе с тем становится досадно на невежественную небрежность людей, не сумевших соблюсти и сохранить их как должно. Но какой странный контраст представляют все эти предметы искусства и роскоши с этими потолочными балками, с этими бедными, низенькими стенами соломенного палаца! Странное присутствие их в этих нежилых, мрачных и скудных покоях кажется нам каким-то резким диссонансом – и невольно рождается вопрос: кому, когда, зачем и для чего пришла идея совокупить и погребсти от света все эти коллекции под неприветливой кровлей убогого домишки, одиноко брошенного среди пустыря Гродненской пущи?
Тот, кто сделал это, был в своем роде замечательным человеком, и память о нем сохранилась, по преданию, еще и доселе далеко за пределами Ильяновского фольварка.
3. Авантюрист-магнат прошлого века
Это был некто Валицкий, польский шляхтич, называвший себя – правильно или неправильно – графом. Жизнь его, исполненная разных приключений, носила на себе загадочный и отчасти романтический характер. Один из замечательных авантюристов, почти современник знаменитого Калиостро, шляхтич Валицкий являл в себе некоторые типические черты своего времени.
Бедный потомок захудалого рода, он из милости получил воспитание в доме «крайчаго литевскего», пана Бучинского, где выказал замечательные способности к наукам. Предание говорит, что, когда ему исполнилось восемнадцать лет, пан Бучинский, в силу «старожитного» обычая, подарил ему бричку, четверку лошадей, пару пистолетов, ружье и саблю, снабдил бельем и несколькими переменами платья, да двумя-тремя рекомендательными письмами в Вильну и в Варшаву, и закрепил за ним мальчика-казачка да кучера; затем будто бы призвал его в лучшую парадную комнату своего могилевского дома и приказал гайдукам растянуть его на ковре – ибо, в качестве родовитого шляхтича, Валицкому не подобало быть растянутым на голом полу, а непременно на ковре, и не иначе как на хорошем ковре; после этого пан Бучинский, «крайчий литевский», в своем «властнем» присутствии, тоже в силу «старожитного» обычая, велел гайдукам влепить ему, здорово живешь, «сто бизунов», т. е. плетей, собственно, не ради какого проступка, а просто на добрую память и по окончании столь назидательной операции вручил юноше сто червонцев, дозволил припасть к своей ноге, дабы почтительно облобызать ее, и пустил в подаренной бричке на все четыре стороны «в умизги до фортуны», т. е. на волокитство за счастьем. Это было в 1770 или 1771 году – и с тех пор о Валицком ни на Литве, ни в Польше не было слуху. Он исчез, как словно бы сквозь землю провалился. Но вот проходит двадцать лет, в Варшаве закипела революция – и в разгар ее в этом ветреном, но прелестном городе вдруг появляется воспитанник пана Бучинского – но как появляется! – с несомненным состоянием в несколько миллионов и с фантастическим титулом итальянского графа! Было много толков по поводу этого титула: одни утверждали, будто Валицкий самозванец; другие доказывали, что он точно купил себе графство в каком-то итальянском владении, – но как бы то ни было, а достоверно, что король Станислав-Август лично признал за ним этот титул и возвел в кавалеры ордена Станислава 1-й степени за щедрое пожертвование значительных сумм в пользу учебных заведений. Еще более толков и подозрений возбуждало загадочное происхождение его миллионов. Говорили, будто это громадное состояние нажито карточной игрой, будто он выиграл бриллианты у королевы Марии-Антуанетты, и примешивали к этому вдобавок какое-то темное участие в истории знаменитого «ожерелья королевы». В Ильяновском фольварке стоял прислоненный к стене подрамок с огромным холстом, на котором замечательно сочной кистью изображен во весь рост Валицкий, с задумчивыми голубыми глазами, среди роскошной обстановки богатого кабинета. Он сидит в кресле у стола, одетый в богатый французский кафтан; пред ним стоит раскрытый ларец, наполненный драгоценностями, а в руке изображены нити крупных бриллиантов, которыми фантастический граф как будто небрежно и задумчиво играет [11]11
В настоящее время, когда конфискованное Езерское имение, принадлежащее наследнику Валицкого, замешанному в последнем восстании, куплено гр. Левашевым, портрет этот перешел во владение семейства г-ж Костялковских в Гродне
[Закрыть] . Картина делает некоторое впечатление.
Но все эти невыгодные слухи относились исключительно к темному и безвестному периоду жизни Валицкого. С появлением же в Варшаве и уже до конца своей жизни он – как утверждают, – будучи страстным игроком, вел большую игру необыкновенно счастливо, причем, однако, случалось ему и проигрывать огромные суммы. То был золотой век азартной игры. По свидетельству Ф. Булгарина, во всех значительных городах Литвы и Польши, не говоря уже о Вильне и Варшаве, разные куртизанки открыто держали у себя игорные дома, куда стекалось польское панство и русское офицерство. Игра шла почти исключительно на одно только золото, которое целыми грудами бывало навалено на зеленом поле, и ставки шли не на отдельные монеты, а на стопки , т. е. понтёры ставили на карту стаканы, наполненные червонцами без всякого счета. Целые шайки варшавских шулеров разъезжали по всему краю, рыскали по ярмаркам, следовали за полками и отрядами и грели руки, где была лишь малейшая возможность. В этот азартный период героями подобного сорта было составлено много значительных состояний, известных на Литве даже до последнего времени; но с тех же самых пор за поляками укрепилась и в России, и в Европе репутация шулеров по преимуществу, и замечательно, что даже в наши дни наиболее значительный контингент нечистых игроков поставляет нам все-таки польская национальность.
Появясь в Варшаве, Валицкий сразу произвел ослепляющее впечатление на общество. Манеры, тон, образ жизни – все это было им усвоено так, что внушительно говорило всем и каждому о привычке графа к высшему обществу. Его связи со многими дворами и знаменитостями того времени были известны всем, а баснословная щедрость, веселый нрав и роскошь жизни доставили ему огромную популярность в Европе. Даже гордые польские магнаты наперебой стремились приобрести дружбу и расположение загадочного графа. Он весь век оставался холостым человеком, но задавал балы и принимал дам. Красавицы всей Европы добивались его благосклонности и постоянно толпились вокруг золотых груд игорного стола, который никогда не оставался закрытым в его доме. Он играл в высшей степени хладнокровно, с тем «приятным изяществом», которое считается наилучшим украшением хорошего игрока. Никто не умел с таким спокойствием и любезностью проигрывать и отдавать громадные куши, как пан грабя Валицкий, – но за то же никто не мог и наказывать более жестоким образом тех шулеров, которые шайками врывались в его дом с целью пообчистить любезного графа. Заметив против себя комплект, он до последней нитки обирал честную компанию, говоря ей в назидание: «Contre coquin – coquin et demi!» – и затем сейчас же отдавал весь выигрыш в пользу бедных.
Что касается до темного периода его жизни, то тут рассказывают следующие факты: получив от пана Бучинского сто бизунов и сто червонцев, молодой человек укатил из Могилева и предался игре. Фортуна иногда ему улыбалась, но чаще поворачивалась спиной к своему искателю и довела его в одну прескверную ночь до того, что и бричка, и кони, и белье, и казачок с кучером – все это осталось в руках шулеров, а Валицкий очутился маркером в одном из лембергских трактиров. Долго влачил он это незавидное состояние, посвящая все свободное время изучению карточных фокусов, расчетов и таинств игры, и успел довести ловкость рук своих и соображение до степени гениального совершенства. В таком-то положении столкнула его однажды судьба с известным польским магнатом, князем Фр. Сапегою, который, зайдя в трактир поиграть на бильярде, случайно обратил внимание на наружность и внешний лоск ничтожного маркера. Узнав, что в этой должности состоит родовитый польский шляхтич, Сапега не потерпел такого «унижения» своего сословия и взял с собой Валицкого в Вену, где он состоял некоторое время у князя «на ласкавем хлебе» в качестве приживальщика в числе подобных же шляхтичей, составляющих двор и свиту знаменитого магната. Отъезжая по делам в Польшу, Сапега оставил Валицкого в Вене и дал ему денег «на разживу». С этого-то и пошел уже в гору воспитанник Бучинского. Булгарин в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что однажды ночью Валицкий метал банк в доле с несколькими игроками мелкого разбора в одном из самых трущобных венских трактирчиков. Счастье, или, вернее, «искусство» на сей раз благоприятствовало Валицкому, карманы партнеров были уже пусты, и компания дольщиков намеревалась уже забастовать, как вдруг входит в комнату «некто», в венгерском костюме, с видом «таинственного незнакомца», высокий, худощавый, длинноусый, и, выдернув наудачу какую-то карту, произносит тихо:
– Ва-банк!
Дольщики смутились, но Валицкий метнул на незнакомца внимательно-зоркий взгляд и приготовился метать. Компания остановила его и потребовала наперед, чтобы, во-первых, были пересчитаны наличные деньги банка, а во-вторых, чтобы венгерец положил на стол соответственную сумму.
– Душевно бы рад, но, к сожалению, со мной нет ни копейки! – наотрез отказался незнакомец и, снова подвинув карту, повторил свое тихое: «ва-банк».
Компания, за исключением банкомета, продолжала сопротивляться столь оригинальному понтёру.
– Если вы, господа, честные люди, – заявил наконец венгерец, – вы должны поверить мне на честное слово.
Те не соглашались.
Тогда Валицкий, пересчитав банк, отдал его товарищам и сказал незнакомцу:
– Если вы, милостивый государь, обращаетесь к моей чести, я охотно готов держать вам банк на ваше слово. Извольте, я держу вас один, без участия этих господ. Ваша карта?
Незнакомец не открыл ее.
Валицкий молча начал метать направо и налево. Рискованная игра шла уже начистую, но банкомет отлично владел собой и казался совершенно спокойным.
– Бита! – столь же спокойно и тихо произнес незнакомец, оборачивая свою карту. И действительно, она была бита.
– Попрошу вас, – прибавил он, обращаясь к Валицкому, – отправиться со мной и получить деньги.
– Как вам угодно, – со сдержанным поклоном отвечал счастливый шляхтич.
– Но только я не желаю, чтобы ваши товарищи отправлялись вместе с вами; я приглашаю к себе вас одного, но никак не этих господ! – решительно заявил венгерец.
– Как вам угодно, – повторил Валицкий и, не слушая доводов своих товарищей, опасавшихся отпустить его одного, последовал за незнакомцем.
Они отправились.
Пройдя несколько глухих улиц и переулков, путники вышли в более людную и безопасную часть города, где венгерец остановился у подъезда одного роскошного дома. Прислуга с величайшим почтением раскрыла пред ним дверь – и Валицкий вместе со своим спутником прошел в кабинет через анфиладу богатых комнат.
Пригласив своего гостя садиться, хозяин обратился к нему с вопросом:
– Извините за нескромность, но... скажите, кто вы такой?
– Претендент короны польской, – любезно, но совершенно серьезно отвечал Валицкий.
– По какому же праву?! – широко раскрыв глаза, изумился венгерец.
– По праву родовитого польского шляхтича. Я – шляхтич Валицкий; а вам, конечно, известно, что каждый из нас имеет законное право на выбор в короли.
– О, если так, то позвольте иметь честь рекомендоваться! – улыбнулся хозяин. – Я князь Эстергази. Вам, как претенденту на польскую корону, а мне, как венгерскому магнату, положим, хотя и не следовало бы посещать такие вертепы, в каком мы столкнулись сегодня, но.... я иногда делаю это от скуки и из любопытства.
– А я для того, чтобы не умереть с голоду, – промолвил в ответ Валицкий и, кстати, рассказал ему свою биографию.
Этот случай сблизил его с венгерским магнатом, в доме которого по прошествии некоторого времени претендент короны польской стал до такой степени «своим человеком», что Эстергази решительно ни на шаг не мог обойтись без него. Уезжая в Париж с каким-то дипломатическим поручением, магнат захватил с собой и претендента, который успел не только втереться благодаря князю в высшее парижское общество, но через княгиню Полиньяк достиг до самой королевы. Он сделался постоянным членом самых интимных вечеров Марии-Антуанетты и был почти постоянным партнером ее за картами. Говорят, будто некоторое время она дарила его особой благосклонностью и особой доверенностью; говорят также, будто и Валицкии оказал для нее и для ее семейства много услуг в начальный период первой французской революции. Положение при дворе и в особенности вечера в Трианоне сблизили Валицкого со множеством знаменитостей того времени, а также с французской и иностранной знатью. Везде и повсюду умел он ловко пролезть, втереться с чувством сознания собственного достоинства, понравиться своей наружностью и нравом и наконец сделаться «своим», интимным человеком. В это время и был положен первый фундамент его громадному состоянию. Он играл постоянно и все с теми же изящными достоинствами beau joueur'a. Он много путешествовал, был в Англии, в Италии, в Германии – и везде появлялся не иначе как в качестве настоящего grand seignieur'a, со своим графским титулом, со своими связями и знакомствами и со своим дивным искусством, которое открывало ему не только двери, но и карманы сильных и богатых мира сего. Как польский шляхтич, он считал себя аристократом по преимуществу и постоянно выказывал тенденции наивысшего аристократического свойства. Дух революции, однако, выкурил его из Парижа, куда возвратился он после своих путешествий, и пан Валицкий появляется на родине, сначала в Варшаве, где производит необычайный фурор, а потом и «на Литве глембокей», где накупает себе несколько богатейших имений и, между прочим, Езёры (целое местечко, к которому принадлежало более десятка деревень и фольварков, раскинутых по окрестности), осушает в них многие болота и проводит сплавные каналы. Здесь-то, на берегу озера Белого, в трех верстах от Езёр, среди высокого соснового леса, соорудил себе Валицкий «палац сломяны», который и назвал Виля-нова, а местное крестьянство переделало его уже на свой лад в Ильяново. Одна часть обширного леса, и именно та, где растут дубы, вязы и грабы, была превращена в прекраснейший парк, а другая, так называемый «бор», или «чернолесье», неприкосновенно оставлена во всей дикой красоте и прелести стародавней пущи. Ильяновский фольварк, вдаваясь более в сосновый лес, стоит, однако, почти на рубеже этой пущи и парка, которые в настоящее время от лет их запущения уже слились между собой в одну одичалую, поэтическую заросль.








