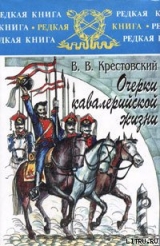
Текст книги "Очерки кавалерийской жизни"
Автор книги: Всеволод Крестовский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
12. Последняя встреча
Недели две спустя я проходил в базарный день по гродненской торговой площади, направляясь в клуб обедать. Вдруг чувствую из-за плеча, что кто-то опережает меня, почти касаясь моего локтя,. и слышу чей-то знакомый хриплый и ласковый голос:
– Зждрастуйте вам!.. Зждрастуйте вам, гасшпидин сперучник! Когхда зж ви не взжнали мине?
Оборачиваюсь, гляжу: ба! достопочтенный реб Гершко Гершуна, тебя ли это я вижу?!
– Я сшами, я сшами, в моем властней персону!.. Н-ну, и как зже-ж вас Бог милуе?
– Ничего, слава Богу, скверно.
– Ой, ф-фэ! Сшто ви гаворитю!
– Ну, а тебя как?
– Мине? Хвала Богху, мине отчин даволна гхарасшо! И Богх мине балшово радосштю пайсшлал... Когхда зж ви не зжнаитю? Я маво дцурке, маво Бельке, замуж видаю!
– Ой ли?.. За кого же? За Орел Бублика?
– Ну, то так есть! За Орел Бублик! За он сшами! А ви скудова зжнатию?!..
– Слухом земля полнится.
– Так, так, сшлюгхом по зжемлю... Ну, и гхаросший партый падайсшол. И я для тего на гхород периегхал, зжеби пакупиц подарункев и розмайтых перипасов на весшелью [22]22
подарков и разных припасов на свадьбу
[Закрыть] .
– И что же, жених-то богатый?
– Уй, який бегхаты! Уй-уй!.. Дай Богх, каб я бил таки зждарови, як он бегхаты! С гхаросшаго дому, бо его папыньке сшваво заездна корчма мае на Камионку, и гхаросши гандель крутить! Там не то сшто ув насш на Ильяново: там другий интерес!
– Ну, от души тебя поздравляю!.. Кланяйся Велле и пожелай ей от меня всякого счастья!
– Ой, благодару вам! Благодару вам, гасшпидин сперучник, на васшем сшлове ласкавем! – забормотал реб Гершко со своими обычными многочисленными поклонами, и мы расстались.
* * *
Прошло четыре года. Отряд наш был выведен на маневры по виленской дороге верст за пятьдесят от Гродны. На второй или на третий день маневров авангард нашей стороны, наступая на противника, занял местечко Каменку, где и велено было ему расположиться на дневку. Наш эскадрон входил в состав авангарда, и потому вполне понятно, что мы, в лице своего разъезда, первыми вступив в местечко, сейчас же отмежевали себе, так сказать, львиную долю, то есть заняли лучшее место на площади под бивуак эскадрона и лучшую корчму под постой своих офицеров. Корчма эта стояла на той же площади.
Освободясь от пыли, пота и грязи, которыми в изобилии вознаграждены мы были за горячие движения этого дня, умывшись холодною водою и освежив на себе белье, мы с наслаждением растянулись вповалку на ворохе душистого сена в ожидании чая и закуски. Один только Апроня все еще не угомонился, возясь и хлопоча о чем-то на дворе около нашей подводы, где он отдавал какие-то распоряжения своему взводному, пушил фурмана, приказывал что-то денщикам и вел о чем-то переговоры с хозяином корчмы, с кузнецом и с местным фактором.
Но наконец и он ввалился в комнату с довольным и размаянным видом человека, который хотя и чувствует себя очень усталым, но в то же время удовлетворен сознанием, что он исполнил все, к чему был призван, все, что от него требовалось и что ему положено, – одним словом, рассудил, разрядил, внушил, обругал кого след, распорядился, всем озаботился и может теперь с чистою совестью опочить на лаврах, то бишь... на сене.
– А знаете, господа, ведь здесь наша старая знакомая есть? – объявил он, скидывая с себя всю амуницию вместе с запыленным кителем.
– Кто такая? – лениво повернул я к нему мою голову.
– Мадам Бублик.
– Что за Бублик такой? – отозвался майор. – Никакого Бублика не знаю.
– Господи Боже мой, да Велля! Помните Веллю Гершуна – нашу Юдифь Ильяновскую?
– Ба!.. Велля?.. Как не помнить!.. Да какими эк она здесь судьбами?
– Замуж за гасшпидин Бублик, – передразнивая жидовский акцент, пояснил майору Анроня. – И посшмотрите спижалуйста, сшто за гхаросши мадам з него вийшла! Ой-вай!
Любопытство превозмогло усталость. Я не мог отказать себе в удовольствии повидаться с милою Веллей, в прошлый роман которой благодаря известной уже случайности я был посвящен более всех моих товарищей. Я хотел поскорее взглянуть на старую свою знакомку, на эту чудную библейскую красавицу, образ которой если и рисовался изредка моему воображению, то не иначе как в той поэтической обстановке, в какой я помню ее в лесу, в два ночные момента – на Ивана Купалу и под сухой грозою.
Но, Боже мой, что же это такое?
Я решительно не узнал ее с первого взгляда. Где же Велля? Где она – эта страстно-очерченная, своеобразно-грациозная, гибкая и сильная фигура баядерки с головой и взором Юдифи!..
Предо мной стояла раздобревшая и уже несколько обрюзглая, апатичная жидовка в парике, из-под которого болтались в ушах длинные серебряные сережки с фальшивыми камнями, а над париком возвышался скомканный чепец с бантами из замасленных лент. Поблеклое лицо ее, покрытое какими-то желтыми пятнами и веснушками, не сохранило даже и тени прежней красоты и не выражало ничего, кроме апатии; большие же глаза, если и загорались порою, то уже не огнем поэтической страсти, а только беспокойством за барыш, только суетно-мелочною жадностью хозяйки-скопидомки. В четыре года супружества она умудрилась наплодить пять человек детей, из которых последние были двойни. Бог Авраама, Исаака и Иакова, очевидно, благословил ее плодородием праматери Лии. Супруг ее – гасшпидин Орел Бублик, находившийся под деспотическим началом своего отца, предстал пред нами в образе рыженького, тщедушного еврейчика, который всем смыслом фигурки своей являл полнейшее ничтожество и был замечателен только тем, что слыл между местным еврейским населением за человека очень набожного.
Велля – чудная, поэтическая Велля – в грязном, пахучем образе обыкновенной «мадам», обыкновенной жидовки, каких вы тысячами встречаете по городам и местечкам Западного края, – кто из нас мог бы четыре года назад вообразить себе подобную метаморфозу!..
«Просто оскорбительно!» – вспомнилось мне при этом выражение юнкера Ножина.
IV. Облава на уток
Рано утром пан Буткевич разбудил меня. Самый сладкий сон смежал мои веки, когда под окном раздался энергический стук в раму и показалась курчавая голова пана с засматривающим, улыбающимся лицом и с плотно приплюснутым к стеклу мясистым носом, отчего на самом кончике этого носа образовалось преуморительное плоское белое пятнышко в гривенник величиною.
– А ну-те бо! Вставайте, коли хочете ехать! – раздался из-за окна голос пана Буткевича. – Божьи птахи вже давно спявают, и качки [23]23
утки
[Закрыть] ждут нас, а вы усе еще спочиваете! Вставайте-ко, вставайте!
Я живо вскочил с теплой постели и растворил окошко. Свежий утренний холодок сразу обвеял мне все лицо и отозвался бодрящей дрожью в теле.
Солнце только еще подымалось, и низкие, косые лучи его в легком золотисто-розоватом тумане пробивались между стволами и просветами деревьев, яркими косяками ложились по росистой лужайке вперемежку с длинною тенью древесных стволов и бесчисленными блестками дробились в жемчужных каплях росы, обильно покрывавшей траву, ветви калины, листья кукурузы и яркие махровые шапки мака, которыми сплошь были испещрены клумбы и грядки запущенного палисадника. Птицы весело, громко и оживленно щебетали, перепархивая и путаясь в густых ветвях высоких раскидистых деревьев. Пискливые утята, то и дело шлепаясь желтоватым брюшком, на нетвердых еще лапках вперевалку пробирались следом за утицей по густой траве к небольшой сажалке. Гуси гоготали и пронзительно звонко вскрикивали, красивыми взмахами расправляя крылья. Длинноногий аист только что отлетел на болото за добычей. Уланы вели коней на водопой, то мелькая с ними на солнце, то заслоняясь тенью между густою зеленью. Бодрые кони шли тротом, резво играли и фыркали. Утро вставало светлое, свежее, бодрое. Прелесть, что за утро!
– Э, дал Бог погоду! – заметил пан Буткевич. – Надо так думать, добре полеванье [24]24
охота
[Закрыть] задастся, але ж и жарко будет, ой как жарко!
– Влезайте в окно, – предложил я пану.
– Не, я и так постою... И так побалакаем! Вы только поскорейшь!
– У меня живо!.. Бочаров! Одеваться!
Проворный вестовой, по обыкновению поднявшийся с петухами, не заставил повторять себе приказания. Сапоги, умывальник, кипящий самовар с чайником – все это явилось у него почти разом. Пока я одевался, пан Буткевич вкусно прихлебывал чай из стакана, поданного ему на подоконник.
– Не хотите ли водки на дорожку? – предложил я ему.
– Э, нет, благодару вам! – отказался он. – Бо у мене вже такой порядок: как чай, то не водка, а как водка, то не чай. А мы з вами как приедем вже до места, то тогда поначалу хватим покилишку и закусим. Женка мне вже и закуску спрепаровала; только звыните – закуска так себе, простая, по-гультайску, по-охотницку. Ну, вы вже готовы?
– Как видите.
– Ну, то едемте. А то что даром время тратить!.. Едьмы!.. Помогай Боже!
Мы с ружьями уселись в легонькую повозку, пан Буткевич подобрал вожжи – и сытая рыжая лошадка повезла нас бойкою рысью по лесной дороге. Пара сеттеров рыскали и швырялись по сторонам, то и дело исчезая в кустах и звонким, веселым лаем оглашая лесную чащу.
* * *
Это было в середине июля, в то самое время, когда эскадроны отдыхают «на траве». Наш эскадрон обыкновенно уходит «на траву» в Ильяново, верст около двадцати трех от Гродны. Это – усадьба, брошенная в старорослом лесу, почти на самом берегу обширного Рыбницкого озера среди прекрасной местности.
Пан Буткевич – управляющий Ильяновской усадьбою – страстный охотник, милый человек и, конечно, «родовиты шляхциц», в котором, однако, замечательна черта, в высшей степени редкая черта в шляхтиче: отсутствие всякой кичливости своим шляхетским достоинством.
Мы направлялись теперь в местечко Езёры, чтобы там соединиться с партией охотников и ехать далее за Белое озеро к сборному пункту охоты.
В Гродненской губернии есть три лесные пущи, которые своими вековыми зарослями приближаются к дикому и глухому характеру первобытных лесов. В центре губернии лежит самая важная и самая обширная из них – пуща Беловежская, на юге – Рудская и на севере – пуща Гродненская. Эта последняя, в недрах которой мы находились в данную минуту, заключает в себе 97 000 десятин и покрывает более 1/4 территории Гродненского уезда. Сосна является первенствующей породой во всех трех пущах. Но по более влажным и наземистым местам вы встретите кудрявую и разнородную растительность, где граб и осина, береза и ясень, дуб и вяз, ильм и черноклен мешаются между собою мягкими оттенками своей разнообразной зелени.
Песчано-каменистая почва возвышенностей способствует произрастанию сосны и отчасти ели; низменные же долины, залегающие между волнистыми выступами этих возвышенностей, представляют собою болотистый чернозем, и на сих-то последних местах растет вся кудрявая краса Гродненской пущи, которая наполнена болотами в особенности в северо-восточном и южном концах своих. Эти болота, составляющие целую группу в северной части губернии, занимают до трехсот квадратных верст пространства и связаны между собою почти беспрерывною цепью. Из них, например, Рыбницкое и Соболево тянутся на 15 верст в длину и на 8 в ширину; Святое болото тоже 15 верст в длину при ширине в 6 верст; Берштанское – 12 верст длиною и 8 шириною. Все они покрыты местами лесом Гродненской пущи, которая только в западной своей части, по берегу Немана, почти сплошь представляет сухую песчаную почву; местами же заросли густым, непродорным кустарником; часто бывают совсем непроходимы, и только по некоторым из них пролегают узенькие тропинки, с трудом доступные пешеходу. Из этих болот берут свое начало множество речек и ручейков, вливающихся в славную реку Котру или в приток ее Пырру. Обилие торфа и железной руды (отчего, между прочим, многие деревни, лежащие в железисто-болотистых местностях губернии, называются Руднями ) составляет единственное, но совсем не разрабатываемое богатство этих болот.
Второю характерною особенностью Гродненской пущи является длинный ряд лесных озер, которые всею группой принадлежат системе Пырры и Котры. Они соединяются между собою посредством протоков и таким образом составляют непрерывную цепь, представляя продолговатые фигуры соответственно направлению реки, иногда расширяющиеся до трех верст, а иногда суживающиеся до двух-трех десятков саженей и даже менее. Грунт и берега этих озер местами болотисты, но большею частью тверды и даже возвышенны. Самое большое из них – Белое, в 12 верст длиною, посредством протока Хомуты соединяется с небольшим озером Млотневым, а то, в свою очередь, с Запурьем и Лотом; из этого нее последнего берет начало свое очень быстрая и студеная речка Ратничанка, вливающаяся в Неман около Друзкеник и известная целительными свойствами своих струй, купанье в которых действует укрепляющим образом на нервы. Неподалеку от озера Запурье несколько лесных, болотистых ручьев сливаются воедино и образуют длинный, около 15 верст, проток Кальницу, который в виде узкого озера, от двух до одной версты шириною, вливается в озеро Каган, являющееся, впрочем, скорее заливом озера Белого; это же последнее сливается с Рыбницким, или Рыбницей, дающим начало речке Пырре, которая, как уже сказано, впадает в Котру, а Котра в Неман, и таким образом все это пространство, оцепленное рядом озер, дающих с двух противоположных сторон начало речкам Ратничанке и Пырре, представляет собою обширный остров, в котором с одной стороны в крайнем пункте лежат Друзкеники, а с другой, близ устья Котры, – деревня Комотова. Кроме этой водной цепи в северо-восточной части Гродненской пущи лежит озеро Берштанское, соединяющееся с Котрой, а несколько более на севере, в виде широкого протока, – озеро Грудь. Но все это составляет только сеть главных водовместилищ Гродненской пущи. Пространства же обширных болот между Пыррой и Котрой также усеяны озерами, как, например: Чёртово, Лебединое, Долгое, Гнилец, Щучье и другие. Берега их топки, лесисты, а дно переполнено илом и тиной. Все эти лесные озера изобилуют рыбой, а в особенности Рыбница и Каган, где ловятся язи, судаки, окуни, налимы, карпы и угри, не говоря уже о карасях, пескарях, вьюнах, ершах и прочей мелкой рыбице. В прежние годы они давали добрый улов пиявок, но в зиму 1840 года пиявки почти все вымерзли, и с тех пор этот прибыльный промысел прекратился. Все это обширное пространство лесных озер называется Озер-ным, или Езерно, а потому и главный населенный пункт его – местечко, принадлежавшее до 1863 года помещику Валицкому, – носит то же самое характеристичное имя – Езеры. Но в равной степени с богатством рыбного царства эти места богаты и дичью. Не говоря уже о диких животных – о волках, на которых тут несколько раз в году устраиваются большие облавы, о лисицах, сернах и зайцах, здесь есть чем поживиться и охотнику на птицу; вальдшнепы, дупеля, бекасы, кулики, водяные курочки, камышники, различные виды коростелей, а главное – дикие утки, за которыми, собственно, и поднял меня в нынешнее утро пан Бут-кевич, – находят себе привольные притоны по всем этим болотам и озерам. Но опытные езерские охотники говорят, будто по многолетним своим наблюдениям они замечают, что, несмотря на приволье здешних мест для птицы, она в них не держится равномерно. Иной год озера кишмя кишат пернатыми обитателями, а на следующее лето оказывается их очень мало; потом через год, а то и через два налетают снова в прежнем изобилии – и так повторяется периодически. Замечание свое езерские охотники относят преимущественно к уткам, так как промысловая охота, существующая по берегам пущенских озер, направляется исключительно лишь на эту птицу. Кулики да дупеля представляют, по мнению их, одну лишь «забавку», а не дело, и ради «куличья» езерские охотники никогда не соберут «облаву».
* * *
– Вы никогда не полевали з облавой? – спросил меня пан Буткевич.
– На заре случалось не однажды.
– Ну, а на качек?
– На качек, признаюсь, не доводилось, и даже не могу себе представить, что это за облава.
– А вот забачите! Это только и есть на Езерах, – пояснил Буткевич, – бо у нас тут и самые места такие, что только з облавой можно. Коли вы никогда не видели, то это для вас будет любо пытно.
– А вот посмотрим! – промолвил я, стараясь вообразить себе заранее, что такое может быть на самом деле эта «облава на качек».
Между тем мы приехали в местечко Езеры, где присоединились к нам еще двое охотников из местных обывателей: отставной кавказский капитан пан Людорацкий, бодрый, красноносый старик лет шестидесяти, и пан органыста из езерского костела – молодой человек с закрученными усиками, очевидно, франт и сердцеед, что уже видно было из каждой его ухватки, из того, как кокетливо надета набекрень его легонькая и чуть ли не дамская соломенная шляпочка с развевающейся голубой ленточкой и как повязан его тоненький розовый галстучек. Пан Буткевич познакомил нас как будущих сотоварищей по охоте – впрочем, с паном капитаном я был знаком уже раньше – и предложил обоим место в повозке. Мы потеснились. Людорацкий грузно бухнулся между нами в середину, а пан органыста ловко вскочил на облучок, спиною к лошади, свесил за борт одну ногу, упер, избочеяясь, руку в ляжку и вообще рисовался, стараясь держаться в молодецки красивой и непринужденной позе и все время напевая себе под нос какой-то сентиментальный польский романсик. Мы узнали от новых наших сотоварищей, что несколько охотников еще гораздо раньше нас проехали уже к сборному пункту; поэтому и нам нечего было мешкать. Лошадка снова тронулась своею бойкою рысцою.
– Гей! Сштой! Сштой! – вдруг раздался за нами отчаянный и громкий крик. – Пане Буткевичу!.. Пане Буткевичу!.. Пане Буткевичу! Проше затршимац!.. Почакайте трошечку! Едну хвилечку, пане! Едну хвилечку!
Буткевич придержал лошадь. Мы обернулись. Что там такое? В чем дело? Смотрим – дует во все лопатки еврей Блох, которого зовут просто Блохою, и машет нам обеими руками.
– Пазжволте, слизжалуста, и мне з вами! – говорил он, снимая шапку и подбегая к повозке, весь запыхавшийся и красный. – Hex пане бендзе такий ласшкавий!.. Вазжмить и мине на полюваню! Спизжалуста!..
– А-ле-ж нет сесть где! – пожал плечами Буткевич.
– Увсше равно!.. Для мне то вшистко рувне, муй ласшкавы пане! – жестикулируя, убеждал еврей. – Ми як-небудь так!.. Притулимсе, примостимсе избоку, альбо на задку... Я от как! – пояснил он, вдруг вскакивая на задок повозки и утверждаясь ногами на задней оси, а руками ухватясь за верхний край спинки, отчего вся фигурка его выпятилась задом, распялилась и вообще приняла преуморительное положение.
– Але ж коняка потомитсе! – доказывал ему Буткевич. – Пьять чловеков – то вже за много будет! Коняка не вытягнет!
– Не, не! Я льехгки! Я отчин даволно льехгки, я вмею в сшоб толки двадцать пьяць хунты! Сшто таково для гхоросшаго киняку двадцать пьять хунты?! Н-ну?!. Дали бухг так... Повертю!
– Ну его до дзябла! Нехай едзе! – попросил за него капитан Людорацкий – и благодаря его ходатайству Блоха остался на задке в своем распяленном положении.
– И ты тоже, Блоха, на охоту? – спросил я его.
– А то ж ниет, гасшпидин спиручник? – с чувством собственного достоинства возразил он мне. – Хиба ж ви не бачитю? Я из ружо-ом! Цала хфузея за плечима! Ой, я балшой агхотник! Отчин балшой!
Все, кроме меня, засмеялись, слушая эту похвальбу. Я же разглядывал нового нашего спутника. Я знал о Блохе только одно, что он – плут величайшей руки, потому что ухитрился одному из моих однополчан-товарищей, стоявшему у него на квартире, за шесть недель «травы» представить счет забранным у него в лавке и в заездном доме продуктам, по которому приходилось уплатить за одни только миндальные печенья, иногда подаваемые к чаю, – как вы думаете, сколько? – ни более ни менее как семьдесят пять рублей серебром!!! Один уже этот счет служил лучшей рекомендацией индустриальным способностям «гасшпидина Блиоха». В настоящую минуту у него за плечами висел старинный мушкетон с дулом, которое к концу шло широким раструбом, а сам Блоха был перепоясан ремнем, и у этого ремня болталось множество прикрепленных к нему веревочек.
– Что это у тебя за путаница? – спросил я, указав глазами на сей последний снаряд.
– О! Это в мине мой ягхташ! – похвалился Блоха. – Ми на него насши качки подвесшим!
Повозка катилась по очень тряской дороге, так что нашим бокам приходилось-таки испытывать порядочное колотье, но Блоха Цепко держался за борт спинки обеими руками. Зато лицо его изображало при каждом толчке преуморительные гримасы, в которых сказывались и страдания, и страх, и тягота настоящим своим, крайне неудобным положением, а сам он то и дело тихо вскрикивал:
– Ой!.. Ойх!.. Ой-вай!.. Уй-уй-юй!.. Огх!.. Уй, гевалт!
– Что с тобой, Блоха? Чего ты кряхтишь так?
– Ой, зжвините! Увсше кишки повитрасло!.. Каб ви, пане Буткевичу, трошечку полегхче!
Но пан Буткевич, лукаво ухмыляясь про себя, еще пуще припустил свою бойкую лошадку.
* * *
Темный лес окутал нас своими зелеными объятиями. Изредка попадались по сторонам тропинки небольшие группы деревенских баб и девочек, собиравших грибы и травы в фартуки своих пестрядей и в берестяные котики. Одна из этих групп обратила на себя особенное наше внимание. Под деревом, бессильно прислонясь к широкому стволу спиною и вытянув ноги, сидела молодая женщина с очень испуганным бледным лицом. Ее с участием окружили три-четыре девушки, одна из которых, припав ртом к обнаженной ноге сидевшей товарки, казалось, высасывала ей что-то губами.
– Чъто-сь то случилось? – окликнул их Буткевич, приостановив лошадку.
– Гадюка пожалила, – ответили ему из группы.
– Э?! Кепськи интерес! Ну, але ж, хвала Богу, вчас и лекарство есть!
Пан Буткевич был человек крайне предусмотрительный и запасливый: он постоянно носил с собою всякие снадобья, ланцетик и пинцетик, и зажигательное стекло с трутом, и нитки с иголкою, и корпию, и карандашик с книжкою, и множество подобных вещей, Бог знает где и как у него укладывавшихся. На первый взгляд они невольно рождали вопрос: на что, мол, ему нужно таскать с собою всю эту никуда не нужную дрянь? Ан, смотришь, придет экстренный случай – что-нибудь из этой дряни вдруг и понадобится да еще окажется крайне необходимым и полезным. Так было и теперь: пан Буткевич порылся у себя в широких, вместительных карманах и достал пузыречек с прованским маслом, которое было сварено с каким-то специальным зельем, как раз служившим целительным средством против укушения змей. Тотчас же налив на тряпочку несколько капель этого состава, он приложил его к опухшей ранке, перевязал ее головною хусткой и, растолковав, что дома надо тотчас же пить бузину, «жебы пропреть хорошенько», да смазывать ранку олеей, тронул вожжами и покатил далее.
Вскоре между деревьями показалась белая хатка, в которой обитали лесные стражники. Узнав от жёнки одного из них, что «малойцы» все уже отправились к сборному месту, мы покинули на дворе на ее попечение нашу лошадку с повозкой и далее пошли уже пешком по узенькой тропинке.
Пройдя с полверсты, мы вдруг очутились на крутом, возвышенном берегу. Вода, как зеркало, сверкнула в глаза из-за зелени кустов и деревьев. Тропинка сбегала вниз к пологому узкому бережку, по которому были развешены для просушки мережки, невода, сети, сачки. Горьковато-едкий запах белого дымка доносился к нам снизу. Две корытообразные, долбленые душегубки наполовину были вытянуты из воды на берег. Перед шалашиком, сложенным из ветвей, дымился костерок. Тут же была вырыта в грунте возвышенного берега землянка, где хранились некоторые из принадлежностей рыболовства и ночевали очередные работники, а за нею далее в глубь земли шла «ледовня» – погреб, в котором на льду сберегалась наловленная рыба.
Внизу, около шалашика, мы уже застали целое общество охотников. Там было человек до пятнадцати и между прочими несколько лесных стражников из двух ближайших сторожек, которые все почти считались хорошими стрелками, так как более половины из них настоящее занятие свое переняли еще с детства от отцов, тоже бывших в свое время полесовщиками, а остальные определились на нынешние свои должности из отставных и бессрочных солдатиков. Иные из охотников налаживали себе ружья, другие возились со своею обувью, подкладывая бересту в лапти, чтобы менее забиралось в них илистой грязи, третьи закусывали хлебом с сыром и копченым салом или же так себе, просто болтали между собой, ничего особенного не делая.
Пан Буткевич, кряхтя от удовольствия, вытащил из ягдташа бутылку водки с чаркой, краюху хлеба и что-то съестное, по обыкновению, завернутое в синюю сахарную бумагу.
– От теперь и подкрепитьсе время! – назидательно заметил он, развертывая из бумаги жареную курицу и кусок свиного сала. – Пожалуйста! Прошу!
И, по обычаю выпив сам первую чарку, передал ее мне вместе с бутылкой. От меня она пошла к капитану и далее, пока не обошла весь наш маленький кружок. Обо всей остальной охочей братии мы с паном Буткевичем позаботились еще с вечера и заказали в Езерах полведра, которые теперь и были предоставлены сюда еще до нашего прибытия. Пока круговая чарка обходила всех охотников, пан Буткевич, опустясь на колени, кромсал складным охотничьим ножом жареную курицу, которая в настоящую минуту – Бог весть почему – показалась мне очень вкусною. Между тем, закусывая, мы не тратили даром времени, а держали между собою «раду». Самыми опытными и бывалыми в сих местах охотниками явились теперь между нами пан Буткевич с паном капитаном. Которому-нибудь из них надлежало принять на себя роль «маршалка». Оба великодушно уступали эту честь один другому, и Бог знает, до коих пор длились бы между ними эти деликатности, если бы пан органыста – тоже в некотором роде человек бывалый – не надоумил их решить дело жребием, что, впрочем, и всегда разрешает здесь недоумения в подобных казусных случаях охоты. Пан Людорацкий подкинул кверху первую попавшуюся палку и на лету схватил ее поперек рукою. Пан Буткевич охватил ее над рукою Людорацкого, плотно приблизив свой кулак к большому пальцу капитана, затем капитан перенес свой кулак выше Буткевича, а Буткевич выше капитана и так далее – пока верхний конец палки не покрылся рукою пана Буткевича, что и давало ему теперь неоспоримое право быть маршалком нашего полеванья.
Буткевич тотчас же сделал расчет людям: оказалось всех налицо девятнадцать человек. Он разделил нас на два отряда, в девять человек каждый, и приказал одному отряду занять противоположный берег озера, назначив за старших: в одном – пана органысту. а в другом – пана капитана. Еврей Блоха при этом в счет не принимался.
– А мине не до якого бржегу? – полушутя спросил он, видимо желая заявить и о своем «властном» присутствии.
– А хочь до дзябла! – махнул ему рукой распорядитель.
– Ну, то я лепш издес зостанусе! Издес вигодно!
– Покажи-ка, что это у тебя за допотопное ружье? –обратился я к Блохе.
– О! То есть шпаньска мушкета! – похвалился еврей. – Бардзо ценна штука! В сшвоем времю мозже й за сшто рубли сштоило!
Я взял в руки эту «шпаньску мушкету», взглянул на нее поближе – и не мог не расхохотаться: ни курка, ни замка не существовало и признаков, одна лишь собачка жалостно болталась.
– Как же ты будешь стрелять из этой штуки? – спрашиваю Блоху.
– А зачем мине сштрелить? – вопрошает он меня на это.
– Да ведь ты же явился на охоту.
– Ну, так! Я огхотник, алеж я не буду стшрелить, а я буду толки так примератьсе, бо у мине и без сштрелянье сшама мушкета такой сштрашний штука, и рот имеет увсшибе такой балшой, як у пушька!
– То есть, как же это, однако, примеряться? – спрашиваю его.
– А зжвините, я буду изжделать от так! – И Блоха взял да и прицелился очень грозно. – И как толки я буду так изжделать, – продолжал он мне свои пояснения, – то увсшеки птицу отчин будит мине сшпигатьсе, бо птицу будит мисшлять сшибе, как бидто я егхо хочу сштрелить, он того сшибе не зжнайте, сшто я толки так на сшутку лякаю та примераюсе [25]25
пугаю и прицеливаюсь
[Закрыть] .
– Так для чего ж тебе и примеряться, коли так-то?
– А для тогхо, каб увсшеки птицу мине даволно сшпигалсе!
– Но для чего ж нужно птиц-то пугать?
– А для тогхо, сшто я есть агхотник!
И Блоха действительно был охотник, но только совсем особого сорта – и это оказалось для меня самым наглядным образом в конце нашей охоты.
Между тем партия, отряженная на противоположный берег, спешно раздевалась и складывала одежду свою вместе с ружьями в одну из душегубок, в которой уже покачивался на воде молоденький рыбачек. Двое из тех, что не умели плавать, нашли способ утилизировать для переправы длинное бревно, некогда прибитое к берегу: раздевшись донага, они уселись на него верхом и с помощью длинных шестов, которыми – один справа, другой слева – упирались в озерное дно, стали переплавляться на противоположный берег. Остальные все пустились туда же вплавь вместе со своими собаками, а рыбачек перевозил им в душегубке порох, платье и их временного «довудцу», пана органысту.
Собачонки этих лесных стражников поистине весьма замечательны. Все они самой простой, плебейской породы, но умны и выдрессированы на свободе как нельзя лучше! Черные, с коричневыми подпалинами и с длинным туловищем на коротковатых ногах, они, несмотря на этот несколько неуклюжий склад, отличаются неутомимостью, проворством, достаточной быстротой бега и хорошим чутьем, так что полесовщики даже и не заводят у себя, кроме этой породы, никаких других псов более облагороженной расы. Эти же «чернушки» у них на все руки! Они и хату стерегут, и на обходе леса бегают с хозяином, и за зайцем погонятся, и по красному зверю поведут, и за утками в воду полезут. Словом сказать – это, за исключением наружности, во всех отношениях прекрасные и очень практические собаки.
– Але вара, панове! [26]26
Чур!
[Закрыть] Наперод умова! [27]27
Уговор
[Закрыть] – крикнул, обращаясь ко всем вообще, пан Буткевич. – Опруч качки не бить а ниякого птаха! Бо то вже непорадок, и выйдет не полеванье, черт зна что!
Все дали обещанье, хотя в душе-то, быть может, и не каждый охотник подчинился уговору ввиду тех соблазнов, которые будут представлять собою кулики и бекасы, но... пан Буткевич был в своем роде педант и строгий, систематический охотник, который ежели шел на волка, то уже ни за что не стал бы в тот раз стрелять по зайцу. Как «голова всему полеванью», он с гребцом-рыбаком выехал в душегубке на середину озера и держался как раз против крайних звеньев цепи, занимавшей оба противоположных берега. Капитан повел нашу сторону, органист противную, и оба, как на действительной облаве, расставляли стрелков, назначая каждому свой номер, шагах в пятидесяти сосед от соседа. Оба довудца поместились на флангах, ведущих в сторону предполагаемого движения, и когда цепи растянулись, каждая приблизительно шагов на четыреста, то довудцы голосом подали весть об этом на противоположный фланг главному нашему маршалку, и тогда по крику его «зачинай!» наша охота была открыта.








