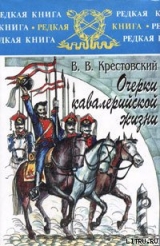
Текст книги "Очерки кавалерийской жизни"
Автор книги: Всеволод Крестовский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
– Как умереть?! – удивился я. – Что за вздор ты мне предлагаешь!
– Отнюдь не вздор, – говорит, – надо умереть, тогда мы ликвидируем твои дела; тогда все эти христопродавцы поневоле пойдут на сделку, мы скупим все твои векселя, и ты выйдешь чист и свеж, как бутон, паче снега убедишься и вздохнешь наконец свободно. Вся штука в том, что умереть надо. Умри-ка и в самом деле денька этак через четыре!
Я гляжу, как шальной, то на того, то на другого, то на третьего.
– Воля ваша, – говорю, – а только я ровно ничего не понимаю. Шутите вы надо мною, что ли?
– Нет, – уверяют они, – мы тебе предлагаем это самым серьезным образом, как единственно возможный и даже выгодный для тебя исход.
– Ну так вы, друзья, извините, стало быть, с ума сошли!
– Нет, – говорят, – пока еще, слава Богу, в здравом рассудке, а только сам ты видишь, что без твоей смерти кредиторы никак не согласятся покончить твои счеты за три тысячи.
– Это-то конечно, это верно, – соглашаюсь я, – но только, черт возьми, неужели же мне ради удовлетворения шмулек и карапеток пулю в лоб себе пустить?!
– Ну, вот уже и пулю!.. Зачем пулю?.. Тут пуля вовсе не требуется. Тебе, напротив, надо умереть, так сказать, законным порядком и на законном основании, как умирают все добропорядочные и благонамеренные люди, то есть сперва, значит, поболеть денька этак три, четыре, а там и скончаться.
Я и рукой махнул.
– Нет, – говорю, – друзья, вы окончательно с ума сошли, и если у вас нет для меня в запасе более умного совета, то прощайте!
– Да ты постой, – говорят, – ты не кипятись, а выслушай сначала. Это вовсе не так глупо и не невозможно, как тебе кажется. Слушай, мог бы ты, например, вчера или сегодня простудиться, схватить себе грипп, жабу, горячку там, что ли, воспаление или, наоборот, какую-нибудь подобную мерзость? Мог ли бы?.. Разве кто из нас застрахован от такой случайной напасти?
– Ну, положим, мог бы, – говорю, – только что ж из этого?
– А вот что: представь себе, что ты заболел, слег в постель и умер, лежишь на столе, а я, как власть полицейская, присутствую тут же для наблюдения за производством описи твоего имущества и между тем, под рукой, извещаю всех твоих кредиторов, вступаю с ними в соглашение, скупаю векселя, и вот, таким образом, пока ты будешь лежать кверху носом, мы обделаем твои дела, и тебе после того будет так легко, так легко... жить на свете!
– Ах, голова, голова! – корят они меня. – Неужели все еще не понимаешь? Не о смерти – о жизни дело идет!.. Кто ж тебе запретит в тот же день воскреснуть? Как только последний вексель будет возвращен, ты и воскресай! Прямо так-таки и воспрянь перед всею компанией твоих кредиторов, к наивящему их ужасу.
– Н-да, – говорю, – только ведь это обман выходит...
– Зачем обман?.. Как это можно – обман?!.. Разве у тебя не могла быть летаргия? Помилуй, да это ни полковой, ни уездный врачи не откажутся засвидетельствовать. Летаргия дело весьма возможное. Они даже рады будут: во-первых, такой интересный случай в науке, а потом, кто ж не рад проучить хорошенько всех этих, общих наших, кровопийц, с которыми по закону, сам знаешь, ничего ведь не поделаешь. К тому же весь свой долг ты выплачиваешь честно, даже с большими процентами, и только из само сохранения предпринимаешь стратегический маневр, чтобы выпутаться из злостной ловушки, в которую тебя систематически затягивают.
Словом сказать, все доводы приятелей были убедительны и лены, как дважды два четыре. Я так и хватил себя по лбу.
– Вот она, гениальная-то мысль! Умирать, – говорю, – умирать сию же минуту! Кладите меня на стол, надевайте саван, плачьте и рыдайте и зовите кредиторов. Кончено! Я умираю!
– Погоди, – говорят, – не торопись. Побудь жив и здрав еще дня два: ведь ничего ж они с тобой в такой короткий срок не сделают! Поезжай-ка лучше на охоту. На охоте тебе разрешается схватить горячку, а по возвращении – прямо в постель, и тогда умирай себе с Богом на законном основании.
И действительно, так мы все и устроили. Поболтался я день в штабе, на другой день уехал с товарищем на охоту, на третий возвратился утром домой – и прямо в постель. Доктор ко мне ходит, наш полковой врач, добрейший Готлиб Христофорович – if так усердно навещает больного по два раза в день, и утром и вечером; ставят перед ним каждый раз самовар и бутылку рому ямайского, которую он и усиживает в один визит «ганц аккуратиш». Ну, при этом, конечно, и приятели навещают, играют в карты, хотя и не без некоторого стеснения, так как всякий шум и громкие разговоры Готлиб Христофорович воспретил строжайшим образом. В Царских Колодцах меж тем слух пошел, что бедный Башибузук болен, лежит не вставая с постели, страдает... Кредиторы, разумеется, тоже прослышали, являются один за другим узнать о здоровье, справиться, что и как – денщики, конечно, не допускают их: плох, мол, не тревожьте. Шмульки и карапетки только в затылках почесывают от раздумья: ну, как помрет, не ровен час? С чем тогда останемся?.. Призадумались-таки сильно. На следующий день толкуют в местечке, что больному еще хуже стало – вон и шторы в окнах спущены, и соломки даже подсыпали перед домом на улице – шум-де чтобы не так беспокоил. Встречает Готлиба Христофоровича наш полковник, осведомляется обо мне; правда ли, что болезнь так серьезна? Хочу, мол, сам навестить больного. А Готлиб Христофорович ему на это: «Нет, полковник, не беспокойтесь; болезнь сама по себе вовсе не опасная – Morbus creditoris называется. Такою болезнью дай Бог и каждому захворать, с тем чтобы радикально вылечиться от затяжных и хронических debitionis centesimarum и прочего».
На третий день утром я наконец умираю. Подпудрили меня, чтобы побледнев казался, под глазами жженою пробкой темные круги вывели, положили на стол, покрыли всего простынею и на лицо набросили особую кисейку, а то неравно муха на нос сядет, усами пошевелишь – и весь эффект к черту! Притащили даже из лазаретной покойницкой три канделябра с восковыми свечами и поставили вокруг меня по порядку, как следует; зеркало белою салфеткой завесили, в комнате ладаном покурили; сожители по очереди псалтырь надо мною читают. Вот и друг – окружной приехал, а что до кредиторов, то их и извещать не требовалось: сами нагрянули, чуть лишь прослышали, что скончался... Стоят с кислыми рожами в прихожей да заглядывают в полураскрытую дверь: вишь, мол, аспид, околел и не расплатился... Пропали блестящие, лакомые надежды на десять тысяч!.. А я лежу, не шелохнусь и только думаю себе: «Господи, что же это будет, если мне теперь вдруг чихнуть захочется!..» Между тем слышу, окружной зовет кредиторов в комнату...
– Вы, говорит, братцы, зачем это сюда пожаловали? Покойнику поклониться? Что ж, поклонитесь, дело хорошее. Жаль бедного, так неожиданно умер, и ничего, говорят, не осталось, кроме платья носильного да седельного прибора... Немного же вам в разверстку-то придется!
У тех рожи еще больше вытянулись.
– Как, – возражают, – а три-то тысячи?
– Какие такие?
– А те, что с интенданта выиграл? Мы ведь слышали!
– Мало ли какие слухи бывают! Выиграл-то, может быть, не он, а я, или его сожители, и мы же хотели за него расплатиться, но... сами вы тогда не пожелали. Теперь на себя пеняйте!
Взмолились к нему все шмульки и карапетки: нельзя ли де как-нибудь на трех тысячах покончить? Мы-де согласны и никаких более претензий иметь не будем; вот и векселя – нельзя ли кончать поскорее, хоть сию минуту, не доводя дела до описи и полицейско-судейской процедуры?
– Я уж тут, братцы, сам ничего не могу! – возражает им окружной. – Разве что вот оба сожителя покойного пожелают как-нибудь кончить с вами... Вы уж теперь их просите, а я ни при чем!
Те чуть не в ноги моим сожителям, благодетелями называют, плачут, воздыхают. А я лежу себе неподвижно, бровью не поведу и только думаю: как бы не расхохотаться!..
Покончили наконец на трех тысячах; деньги – с рук на руки; векселя все до единого получили, торжественно разорвали, уничтожили, затем выпроводили из дому всех шмулек и каспарок с карапетками – и я воскрес!
На другой день был какой-то праздник; вечером на бульваре музыка играет, гулянье, народу пропасть, и я тоже присутствую, к несказанному общему изумлению! Поздравляют меня все с воскресением из мертвых – «вот, и раньше второго пришествия сподобились», – расспрашивают, хорошо ли на том свете, а кредиторы – Боже мой, если бы только можно было изобразить их отчаяние и злобу!..
– Ну, – говорят, – больше мы вам ни одной копейки не поверим!
– И отлично, голубчики, сделаете! – отвечаю им. – Лучше поблагодарим друг друга за науку. А что до меня, то я уж, конечно, ни за чем к вам не обращуся!
И таким-то образом с тех самых пор я твердо решил не делать больше никаких долгов, иначе как у приятелей на честное слово, ради маленькой перехватки; но векселей, расписок – никаких и никогда! Маленькая перехватка у приятеля – это ничего, это говеем другое дело: несколько рублей никогда не разорят. Будут у меня деньги – отдам, не будут – с меня не взыщут, простят, ізабудут по приятельству. Не так ли? И вот, потому-то, собственно, при выходе в отставку я и распродал все, что было у меня излишнего, дабы не обременять себя впредь ни долгами, ни имуществом! Одним словом, omnia mea mecum porto – и счастлив.
* * *
Имел Башибузук слабость не только говорить стишками, но и сочинять стишки, окончательно неудобные для печати. Из всех его собственных произведений цензура благопристойности может пропустить только одно четверостишие – надгробную эпитафию, сочиненную им самому себе:
Под камнем сим лежит Башибузук.
Не много знал он в жизни сей наук.
Зато умел в бою с врагом рубиться
И в каждый час с приятелем напиться.
Раз как-то заговорил он о смерти и упомянул о своем духовном завещании. При этом мы все невольным образом рассмеялись: «Какое же у тебя может быть духовное завещание?!»
– Как «какое»?! Самое настоящее! И я всегда имею его, на случай смерти, при себе; ношу вместе с указом об отставке в боковом кармане. Не верите? Показать могу сию минуту.
И, вынув из потертого конверта по форме сложенный лист бумаги, он прочел нам следующее:
«Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Находясь в здравом разуме и совершенно полной памяти, завещаю последнюю мою волю и прошу всех моих друзей не поминать меня лихом. Друзей же моих того полка, в котором постигнет меня смерть, усерднейше прошу оказать мне последнюю услугу – похоронить меня на общий их счет по христианскому, восточно-православному обряду. Драгоценное боевое оружие мое: базалаевский кинжал и шашку завещаю тому из хоронивших меня друзей, кому вещи сии достанутся по жребию, кинутому в общем друзей моих присутствии. Носильное же мое платье раздать на помин грешной души моей нищим, одним из коих и сам я весь век мой странствовал в мире». Завещание это было за надлежащими подписями одного из полковых священников и двух друзей-свидетелей. Приведено ли оно в исполнение или Башибузук и доднесь еще странствует по полкам – не знаю. Я давно уже потерял его из виду.
4. Гасшпидин Элькес
Этот был самый шельмоватый из всех наших приживалок. Но несмотря на шельмоватость, вообще присущую еврейской расе, он был достолюбезен нам многими своими личными качествами, да и самая шельмоватость его вовсе не носила в себе отталкивающего характера; иногда он даже «утешал» нас ею, ибо с этим его качеством нередко сочеталась некоторая доля своеобразного еврейского остроумия.
Пока полк стоял в Тверской губернии, в нем и понятия не имели о том, что такое еврей Западного края; зато со всею прелестью еврея, во всей ее неприкосновенности, пришлось познакомиться с первого же часа, даже с первого шага, при вступлении нашем на гродненскую почву. Здесь одним из первых явился и тотчас же прикомандировал себя к офицерам «гасшпидин Элькес», который сразу заявил, что он «первилегированный» портной и может шить «из увсшякаво корту увсшякаво кистюм», а также кроить, пороть и штопать и «знов по-новому зе сштараво перевер-тать из полным растарациум, надзвычайне же вуляньски колеты, штыблеты, зжакэты и зжалеты»; может притом доставлять всякие офицерские вещи: «алалеты, атышкеты, шапки в папке, пегхоны, претанеи и прочаго причандалу», равно как «вина, ликворы, розмаите напои и щигарке контрабандовы», – словом, оказался человеком вполне необходимым, в особенности на первое время.
Много являлось к нам подобных же предлагателей всевозможных услуг, но Элькес какими-то судьбами ухитрился всем им перебить дорогу и в ряду их занять при полку первое место. Он как бы наложил на наш полк своего рода эмбарго, или запрещение, как бы объявил его своею собственностью, исключительным предметом своей эксялуатации и обработки. Конкуренция ему явилась только со стороны мадам Хайки, и конкуренция настолько сильная, что с нею, как ни бился Элькес, а ничего не мог поделать и в конце концов вынужден был силою обстоятельств признать за Хайкой все права относительно поставок некоторых вещей, необходимых в офицерском обиходе. Таким образом, от Элькеса отошли все операции по части снабжения нас винами, чаем, сахаром, стеариновыми свечами, готовым бельем и папиросами; зато всецело удержалось за ним все, касавшееся портняжного искусства и снабжения офицерскими форменными вещами, И он не остался внакладе. После похода у каждого нашлось кое-что для починки и переделки из носильного платья, и всею этою работою завладел Элькес настолько, что даже обижался искренно и горько, если кто-нибудь из нас случайно отдавал какую-либо починку в посторонние руки. Сверх ожиданий он оказался порядочным мастером своего дела, так что многие стали заказывать ему и новые вещи. Это, конечно, еще более упрочило его положение в качестве полкового портного, и он стал добиваться – нельзя ли какими ни на есть судьбами объявить о его привилегированном положении в полковом приказе – «бо натогхда увсше взже будут зжнать, каково я есть персону», – но, не добившись такого официального признания своих преимуществ, ограничился тем, что устроил себе новую вывеску с надписью: «Первилегированный полковой портной» и с изображением уланского колета вместо прежней, где значилось просто «военный и пратыкулярный».
Мало-помалу он усвоил себе положение в некотором роде непременного члена полка и настойчиво стал появляться при всех официальных и общественных отправлениях его жизни: на смотрах и парадах, на молебствиях при торжественных случаях, на полковых и эскадронных праздниках, на офицерских пирушках я пикниках, на полковых ученьях и больших маневрах, при приезде и отъезде разного начальства и т.п., и присутствовал при всем этом, конечно, добровольно, в качестве «первилегированного портного» со всеми своими атрибутами в сумке: иглами, нитками, ножницами, воском и наперстками – «за таво сшто, ежели ув когхо з гасшпод афицерув одервиется пуговка альбо сштрамесшка, го жебы зараз мозжна било починка изделать».
Поэтому все уже и привыкли видеть Элькеса вечно торчащим и трущимся то на плацу, то в чьей-либо прихожей, в канцелярии, на конюшнях, около кухни, около денщиков и музыкантов – и никто не находил этого странным, ибо он уже раз и навсегда завоевал себе такое «первилегированное» положение. Выходя на плац в случае, если предвиделось продолжительное ученье или большой смотр, Элькес кроме необходимых «причандалов» портняжного искусства всегда приносил с собою узелок или плетеную корзину, наполненную бутылками зельтерской воды, водкой, бубликами, швейцарским сыром и апельсинами или яблоками. С этою ношею он таскался позади фронта и любезно предлагал офицерам «засвезжитьсе» и «закрепитьсе» из его плетеной корзины. И не думайте, чтобы он делал это ради «гешефта», за деньги – нет, гасшпидии Элькес не продавал, а угощал из одной лишь любезности, «за таво сшто я сшвой, полковой, первилегированный».
Главнейшею страстью Элькеса было все знать, все видеть, все слышать, везде самолично присутствовать. Он нередко заменял нам общественно-политическую газету. Каждое утро обтекал он поочередно всех наличных офицеров, сообщая им всевозможные новости дня. Чуть лишь успеешь проснуться, в особенности если это в праздничный день, когда не надо идти ни в манеж, ни на ученье, – глядь, гасшпидин Элькес уже тут как тут! Входит в комнату, поздравляет с добрым утром, «с празжникум», осведомляется, нет ли «каково починку», и затем, почтительно став у притолоки, начинает выкладывать «сшамово пасшледнюю новас-штю», вроде того как Лейба Пиковер понадул Сруля Маковер; как «мадам прекарорша» побранилась вчера на гулянье «за молодова маравая сшгодья из пачмайсштером»; как у майора Джаксона сегодня в ночь кобылица ожеребилась; как князь Черемисов в знак своего благоволения к Хаиму Абрамзону написал ему на себя, ни за что ни про что, вексель в сто рублей; как играли вчера на театре и сколь была хороша актриса Эльсинорская, к которой даже сам Элькес питал бурную, но платоническую страсть. И выкладывает он все эти новости, пока не прикажешь дать ему рюмку водки и не прогонишь милостиво к черту – надоел, мол, приходи завтра! Но иногда он действительно Бог весть какими путями умел заблаговременно пронюхивать и весьма серьезные новости. Так, например, – помню я – в лето 1870 года, дня два спустя после смотра, сделанного государем императором гродненскому отряду на пути из-за границы, гасшпидин Элькес серьезно объявляет, что на днях будет война.
– Какая война? Откуда тебе война почудилась? С кем война?
– Н-ну, от пасшмотритю! Фрынцоз из пруссом ваювать будут – сшкора, очин дазже давольна сшкора!
В то время мы все смеялись над прорицаниями Элькеса, но не прошло и двух недель, как телеграф действительно принес весть о разрыве между Пруссией и Францией.
– А сшто?! А сшто, не гхаворил я?.. Га?.. Когхда зж не правда вийшло? Когхда зж не по-моему?.. Га?..
Мы только руками разводили.
– Да откуда ж ты все это мог знать заранее?
– Ага!.. Ми взже знаим!.. Мы увсше знаим, бо ув нас есть сшваво почта пантуфлёва – еврейсшкая почта, так сшамо зж, як и талиграф. 3 Липську [39]39
из Лейпцига
[Закрыть] зжнаим, з барлинского бирзжу зжнаим – на то ми и евреи, жебы увсше зжнали зараньше!
Элькесу было уже лет под сорок, когда он пристал к нашему полку в качестве своеобразной полковой приживалки, и замечательно, что в таком солидном возрасте он довольно быстро выучился не только читать, но даже и несколько писать по-русски. При этом, любя следить за «палытика», он постоянно уносил у нас старые газеты; новейшие же политические известия, как уже сказано, знал иногда и раньше газет при посредстве почты пантуфлёвой. С течением времени этот человек так сжился с полком, что, подобно дону Сезару де Базану, составил собою нечто вроде необходимой полковой принадлежности и даже самую наружность свою перекроил несколько на военный лад: ухарски стал заламывать набекрень шапку, закручивать кверху усы и подстригать рыжую бороду – дескать, знай наших! «Ми тозже в вулянагх сшлюзжим».
Следует заметить, что он был хотя и шельмоватый, но, в сущности, хороший жид и по натуре своей довольно благодушный, готовый на услугу, часто вполне бескорыстную, не говоря уже о всегдашней готовности сшить в кредит сюртук или доставить офицерские вещи. Кроме того, Элькес был человек не лишенный некоторого своеобразного остроумия.
Еще в те времена, когда носил офицерам «щигарке и розмаите напитке», доставил он однажды такую мерзкую кислятину белосток-ской фабрикации, что был за нее обруган и назван мошенником. Олькес очень обиделся и в оправдание свое повел такую рацею:
– Ви гхаворитю, мишельник. Ну, гхарасшьо. А когхда двох каралев один другий надуваит, сшто это есть називаетсе? Палытика? Так. И когхда двох минисштрув один другий надувает, сшто это есть називаетсе? Дыплиоматия. Ну, и когхда двох энгирал один другий надуваит, то мы гхаворим, сшто то есть сштратегия. Гхарашьо. Так само зж и двох кипцов один другий надуваит, а ми увсше зжнаим, сшто то есть кимерция. Так. Н-ну, а когхда однаво бьедный еврей на двох сш палавином кипэикув будит вас надуваит, сшто это есть називаетсе? Га? Машенство, мазурство, обманство! Ой вай-вай! То таково правду на сшвету!
У этого человека была совсем особенная, своеобразная и притом типично еврейская складка ума и мышления, в чем, собственно, и выражалась наибольшим образом его шельмоватость. Так, например, подарил ему кто-то басни Крылова; они ему чрезвычайно понравились, и он нередко цитировал их в разговоре, а некоторые, наиболее им излюбленные, передавал даже наизусть, но совершенно по-своему, подкладывая под них собственный жидовско-философский смысл. В особенности любил он басню «Петух и жемчужное зерно», которую передавал таким образом:
Навозжну куцчу разжрывая,
Пьятугх зжнагходил раз зжамчузжнаво зжярно
И гхаворит: "Ф-фэ! каково виещь пусштая!
Сшкудова оно и надо мине оно?"
– Из таво сшледувает нравывшенью, сшто гасшпидин пьятугх бил балшой дурак.
Мог ли кто, кроме истого еврея, усвоить и переделать смысл этой басни подобным образом!
Но бывало, когда он особенно уж расходится, почувствовав себя насчет басен в истинном и большом ударе, да если еще при этом пристанут к нему офицеры – расскажи, дескать, самую заветную, – то гасшпидин Элькес начинал обыкновенно рассказывать про то, как «сшлаиы сшланяют», и изображал это так:
"По улицу сшланы сшланяли, как бидто напеказ, а мозже, и до предазжи. Зжвестно, сшто сшланы сшланять есть диковинка ув нас. И зжа тыми сшланами по улицу толпи зжевакув гхадили. Гхарасшьо. Хай будит так. И увдругх, сшкудова ни увзжялсе сшпадякогось-то сш падваротню Мошка (з насших). И як забачил Мошка, сшто издесь по улицу сшланы сшланяють, – он и ну лаятьсе, и ругаетьсе из увсшяким галлас, из увсшяким рейвах. Сшкандал!.. И увдругх вигходит наувстречу ему Гершко Шавкин, почтивый чловек, и тозже з насших. И як забачил Шавкин, сшто Мошка изделал такова сшкандал, он ему и гхаворит: «Ай, Мошка, Мошка! И когхда зж тибе не сштидно?» – «Ну, а сшто мине будет сштидно?!» – «Ш-ша!.. Сшто тибе будит сштидно? Сшто тибе будит сштидно?! Сшволачь!.. Тибе не сштидно, сшто ти изделал такова галлас, такова рейвах, такова сшкандал, когхда издесь по улицу стланы сшланяют!» А Мошка ему на то: "Зжвините! Ми за тово за сшамово и лаимсе, и ругаимсе, сшто увсшякий, гхто нас ни забачит, будит напатом сшибе гхаворить: «Аи, Мошка! Зжнатный Мошка! И який он стильный, и який он гхрабрый, и без драку пападал на балсшова зжабияку, изделал таки галлас, таки рейвах, таки сшкандал, когда издесь по улицу „планы сшланяют, азж при сшамом гасшпидин палачмайстер!“ Нравывшенью: гхто з вас, гас-шпида, гхочет бит таки сшильный и таки гхрабрый, як Мошка з насших, хай тот толке сшибе лаитсе и ругаитсе из увсшяким сшкандал на таво сшамово времю, як по улицу сшланы сшлаяяют, как бидто налеказ, а мозже, и до предазжи».
И, рассказывая подобным образом крыловские басни, Элькес был вполне убежден, что у Крылова смысл каждой басни точно таков, как в его передаче – «толке зжвините, я зж не могу сшлиово ув сшлиово, а я, конечне, передаю вас з сшваими сшлявами».
Но в особенности – помню я – эта шельмоватая складка и сметка его ума сказались однажды при следующем случае.
В утро одного из июньских дней 1872 года почти все наличное офицерство драгунской и уланской бригад 7-й кавалерийской дивизии, собранных на кампамент при Гродне, отправлялось в Вильну для празднования юбилея 50-летней службы в офицерских чинах почтенного начальника этой дивизии генерал-лейтенанта П.А. Курдюмова.
Гасшпидин Элькес, разумеется, был с нами, пристроясь всеми правдами и неправдами где-то в третьем классе, потому что без него, как говорится в поговорке, и вода не освятится.
Выехали мы рано, часу в седьмом, с пассажирским поездом и около десяти часов утра были на станции Ландварово – последней перед Вильною. На полпути между этими двумя пунктами есть туннель, где поезд проходит около полуторы минуты в полнейшей темноте, так как ввиду кратковременности подземного движения огонь в вагонах не зажигают. В Ландварове поезд стоит минут пять, не более, и так как на станции существует буфет, то, конечно, туда и направилось большинство офицерства – кто ради кружки пива, кто за бутылкой содовой воды, потому что яркое солнце уже пекло самым исправным образом и в вагонах было душно.
Вышел в буфет в числе прочих и поручик Тарченко. Это был добрый ветрогон, большой руки школьник, всегда веселый и очень изобретательный на разные «смешные шутки», нередко весьма остроумные. Между прочим, он в совершенстве умел подражать местному еврейскому жаргону и подделываться под чужие голоса. Бывало, если в трактире или в полковом клубе вздумается ему неожиданно представить из другой комнаты кого-нибудь из начальства, то просто Б смущение приводит: не знаешь, Тарченко ли это дурачится или взаправду начальство пришло, – и офицерство на всякий случай начинает застегиваться и подтягиваться.
Вышел он из буфета и стал в нашей группе в тени на платформе, а как раз напротив, в цепи нашего поезда, стоит третьеклассный вагон, одно отделение которого сплошь набито евреями.
На варшавской дороге есть такие вагоны, что делятся на два больших отделения, человек на двадцать каждое.
Стоит Тарченко с папироской в зубах, ехидно улыбаясь чему-то, и бормочет себе под нос:
– Экая прелесть!
– Что такое? В чем видишь ты прелесть? – спросил его кто-то.
– Да как же! Взгляните, пожалуйста! Вот этот «маладова зжидок», что сидит у окна «ув педжак, из рузжовым карвателькем» и курит «сшававо щигарке»... «Богх мой!» С каким достоинством он ее курит, и вообще, в самом-то в нем сколько достоинства и какой «гонор»... Необычайно типичен и непременно должен быть «цыбулизованный кимерсант»... Прелесть!.. Люблю!.. Прохлаждается себе у окна «зе щигаркем» и внимания не хочет обращать на тех остальных лапсардыков.
Действительно, облокотясь на открытое окно и с самодовольствием пуская струйки дыма, сидел в еврейском отделении вагона чрезвычайно типичный жидок лет тридцати, в сером пиджаке, в розовом галстуке и в легкой шелковой фуражке, которая, впрочем, как и всякая головная покрышка у евреев, неизбежно сбивалась на затылок.
– Хотите, господа, устрою с ним потеху? – вдруг, словно бы по внезапному вдохновению, предложил Тарченко.
– Потеху? А например?
– Да уж это мое дело! Там увидите... Пойдем к ним в вагон. Только – чур! – влезай, братцы, все гуртом, как раз с третьим звонком, чтобы им некогда было жаловаться кондуктору на тесноту.
– Да ведь душно там, чесноком разит...
– Э, батюшка, на то и жид, чтобы разило. А душно – так и везде ведь душно. Зато потеха будет! Только вот что, – предварил Тарченко, – кто-нибудь из вас пускай сядет рядом с этим самым жидком: коли вежливо попросить, так евреи всегда уступит место, но непременно рядом, и как въедем в туннель, оставь между жидком и собою чуточку места – настолько, чтобы мне можно было лишь ногу поставить на скамейку. В этом пока и все дело.
Ударил третий звонок, и человек шесть офицеров поспешно направились к еврейскому отделению. Один за другим, гурьбою, торопливо вскочили мы в вагон; дверца захлопнулась, раздался сигнальный свисток обер-кондуктора, и поезд тронулся.
Набилось нас теперь в этом отделении – как сельдей в бочонке. Впрочем, несколько евреев потеснились, так что рядом с намеченным еврейчиком кое-как нашлось местечко, где и уселся один из наших офицеров, а остальные вместе с Тарченко остались пока стоя. Из всех ближайших к нам сынов Израиля один лишь этот еврейчик-франт продолжал сидеть неподвижно и безучастно у своего окошка; только поморщился, изображая на лице неприятное для себя удивление, когда неожиданно привалила в вагон наша ватага, – дескать, вот еще! Только этого нового беспокойства недоставало! И зачем их черт несет сюда?
Тарченко, в накинутой на плечи легкой шинели, стоит избоченясь прямо перед ним и спокойно докуривает папироску. Докурил и вдруг – хлоп слегка по плечу еврея:
– Пусти-ка, любезный, меня сесть.
Еврей передернулся, «амбициозно» повернул к нему лицо, удивленно поднял брови и с неудовольствием процедил сквозь зубы:
– Сшто такова?
– Сесть меня пусти, говорю.
– Зжвините, это маво месшту.
– Да ты видишь, однако, что я стою!
– Н-ну и сшто мине с таво, чи ви сштаитю, чи не стшаитю, когхда я имею сшваво балет?
– И я тоже имею билет. Ты уже сидел довольно, можешь и постоять.
– Зачиво я вам буду сштаять, когхда я гхочу сшидеть?
– Затем, что я прошу тебя уступить мне твое место.
– А когхда я вовсшю не гхочу всштупать!
– Не хочешь уступать, так я его займу и сам, когда мне вздумается.
– Н-ну, этаво ми ищо будим пасшматреть.
– А вот и посмотришь, как придет время.
– Эть! – махнул еврейчик рукою. – Асштавтю мине, пизжалуста! – И он отвернулся к окну и снова засосал свою цигарку.
Поезд мчится все дальше и дальше. Еврейская публика, очевидно, заинтересованная неожиданно начавшимся объяснением, насторожила глаза и уши, ждет, что будет и чем кончится. Проходит еще минут пять. Евреи, однако, видят, что дальнейшего продолжения истории нет, и потому мало-помалу начинают отвлекать свое внимание на другие предметы и возвращаться к своим прежним, на минуту прерванным было разговорам.
– Однако, любезный, пусти же меня сесть, наконец! – снова начинает Тарченко.
Еврейчик настойчиво продолжает смотреть в окошко и, куря, показывает вид, будто вовсе не замечает обращенной к нему фразы.
– Слышишь ли, тебе говорят! Я сесть хочу! – уже несколько настойчивее продолжает Тарченко.
Еврей усиленно старается показать вид, что не обращает на него внимания. Тарченко снова дотрагивается слегка до его плеча.
– Н-ну, и сшто ви до мине чапляетесь! – с досадой огрызнулся тот, наконец-то поворотив голову. – Я взже сшказал маво решенью и болш не зжелаю!
– Да ведь ты видишь, что офицер стоит, ты бы из вежливости...
– Сшто мине с таво, сшто афицер! Зжвините, я и сшам в сшибе таково зэке афицер!.. Я пассажир... Я сшам кипец на второва гильдию з Бялысшток... Ми тозже зжнаим перадок!.. И когхда ви гхочите до мине чаплятьсе, я буду претесштовать... Я претесштую... Зжвините, я претесштую... Я буду, накынец, кандыктор зжвать!
– И я позову кондуктора.
– Я буду писшать ув зжалобнаво кнышка!
– И я в незлобную книгу напишу. Так и напишу, что такой-то купец заставил меня простоять перед собою целую станцию. Вот и будем вместе писать – ты свое, а я свое. Я тебе скажу мою фамилию, а ты мне свою скажи – познакомимся кстати.
–Зжвините: сшто ви мине увше «ти» да «ти»!.. Мине ищо ув сшвету «ти» не гхаворил... Мине сшам палацмайсштер ув Бялысшток «ти» не гхаворит, сшам гибернатыр не гхаворит... Зжвините! Ми аймеим сшваво бакалейна ляфка, и нас очин дазже даволна зжнают.








