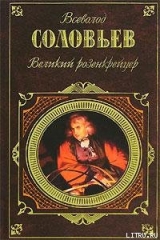
Текст книги "Великий розенкрейцер"
Автор книги: Всеволод Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Часть третья
I
В доме старого князя Захарьева-Овинова, в первой комнате помещения, где продолжал жить отец Николай, да уж и не один, а с женою, перед столом, накрытым чистой белой скатертью, сидели две женщины. На столе стоял чан с горячим сбитнем, кувшин сливок и возвышалась целая гора свежих саек и баранок. Вся эта комната, остававшаяся нетронутой, внушительной и не походившая на жилую до самого приезда Настасьи Селиверстовны, теперь совсем изменила свой вид. Она казалась гораздо менее внушительной и богатой, но зато в ней сделалось как-то теплее, уютнее. В то же время в ней царили теперь порядок, чистота. Видно было, что здесь живет добрая хозяйка, обладающая настоящим хозяйским глазом.
Эта добрая хозяйка, Настасья Селиверстовна, и была одной из женщин, сидевших за столом перед чаном с горячим сбитнем. Кончался уже третий месяц пребывания ее в Петербурге, и за это время она очень изменилась. Если б ее деревенские соседки ее увидели, то непременно всплеснули бы руками и завопили: «Матушка ты наша, Настасья Селиверстовна, какая беда тебе приключилась, кто тебя, сердечная, сглазил?..»
Действительно, Настасья Селиверстовна похудела и побледнела, хотя все еще оставалась достаточно полной. Излишняя густота краски сбежала с круглых щек ее, и эти щеки стали гораздо нежнее. Прекрасные черные глаза сделались как-то глубже, вдумчивее и удивительно выиграли в своем выражении.
Вообще Настасья Селиверстовна, на взгляд всякого истинного ценителя женской красоты, была теперь незаурядно красивой женщиной. А главное, с нее внезапно за это короткое время сошла ее деревенская грубость и угловатость.
Она сразу огляделась в столице и сумела принять столичный вид. На ней было очень ловко сшитое темное шерстяное платье, густые ее волосы были хитро и красиво причесаны, – никто не сказал бы, что она всю жизнь прожила в деревне и до сих пор почти и людей-то не видала. Она много стараний положила в такое преобразование своей внешности, и старания ее увенчались полным успехом.
Оканчивая перед большим княжеским зеркалом, стоявшим в ее спальне, свой туалет, она сама себе говорила: «Ну чем же я хуже их, этих здешних дам-мадамов?» И если бы при этом находился посторонний беспристрастный и вкусом обладающий зритель, он непременно бы воскликнул: «Матушка, Настасья Селиверстовна, не хуже ты, а не в пример лучше многих и многих здешних дам-мадамов».
Другая женщина, сидевшая рядом с хозяйкой, тоже имела приятную наружность, и, вообще, вся ее фигура, ее голос, манеры сразу внушали к ней доверие. Она уже была не молода, и на ее бледном, изнуренном лице долгие годы страданий оставили свой неизгладимый отпечаток.
Женщина эта была Метлина. По-видимому, она пришла сюда не сейчас, а уже достаточное время беседовала с Настасьей Селиверстовной. По ее блестящим глазам и нервному оживлению, сказывавшемуся во всех ее движениях, можно было заключить, что она много и горячо говорила.
Она уже не в первый раз видела жену отца Николая, но видела ее мельком, и впервые пришлось ей с нею разговориться и сблизиться. Она пришла теперь к отцу Николаю, но не застала его, и матушка, гораздо более обходительная и ласковая, чем в первое время по своем приезде, пригласила ее обождать, сказав, что отец Николай обещался вернуться через час, самое большее – через полтора часа времени. Заметив, что гостья озябла, матушка тотчас же распорядилась относительно сбитня, послала прислуживавшую ей дворовую девчонку за сайками и баранками и принялась угощать Метлину.
Они разговорились, и Метлина рада была рассказать ласковой матушке все свои обстоятельства. Она теперь чувствовала потребность говорить об этих обстоятельствах со всяким человеком, внушавшим ей к себе доверие.
Настасья Селиверстовна, вся превратясь во внимание, с большим интересом и участием выслушала печальную повесть о многолетних бедствиях семьи Метлиных.
– Сударыня моя! – воскликнула она, всплеснув руками, когда Метлина, дойдя в своем рассказе до времени перемены их судьбы, остановилась, переводя дух, тяжело дыша и чувствуя большое утомление после этого горячего рассказа, во время которого она как бы снова пережила все минувшие беды. – Сударыня моя! Да как это Господь дал вам сил перенести такое? В жизнь свою такой жалости не слыхивала, а горя-то людского немало навидалась… Да и своя жизнь не больно красна, сколько раз на свою беду плакалась. А вот теперь и вижу, что и бед-то со мною никогда никаких не бывало… Какие там беды! Вот у кого беды, вот у кого горе!.. Ну, что же, сударыня, как же это так вдруг все у вас переменилось?
– А так вот, – снова оживляясь и вся так и просияв, заговорила Метлина. – Привела я тогда с собою святого нашего благодетеля, отца Николая, помолился он, с его молитвой пришло к нам благополучие. Спас он моего мужа не только от любой болезни, не только от телесной погибели, но и от душевной. Совсем спас человека, из мертвого живым сделал. Как сказал, уходя: «Верьте, молитесь, подождите малое время, все изменится», – так, по его слову, и сталось. Двух дён, матушка, не прошло, как позвали моего мужа во дворец к самой царице.
Сразу-то мы испугались, особливо он, дрожит весь. «Куда это меня вести хотят? – говорит. – На какие новые муки и обиды?! Не пойду я, никуда не пойду, зачем меня царица звать будет, не знает она меня и знать не может. Обман это один, в тюрьму, видно, меня ведут, совсем доконать враги хотят…»
Да благо, я очнулась вовремя и его на правду навела. А отец Николай-то, говорю, ведь сказал он, что подождите, мол, немного – все изменится. Это беда наша уходит, это счастье наше приходит, говорю.
Ну, тут и он понял. Снарядила я его, как могла, а сама ждать осталась. Полдня ждала, молилась. Сначала нет-нет да и сомнение охватит: а ну как это не счастье, а беда новая? Только отгоняла я эти сомнения, и совсем они ушли, а к тому времени, как мужу вернуться, я уже знала, наверно знала, что никакой беды нет и быть не может, что он придет и расскажет мне о своем благополучии…
Вернулся он такой радостный, такой светлый, каким я его ни разу в жизни не видала; кинулся ко мне, обнял меня – давно уж мы с ним не обнимались, – обнял да и заплакал. Плачет и целует меня, говорить хочет – и не может. Наконец успокоила я его, он мне рассказал все. Как привезли его во дворец к камер-фрейлине Каменевой, она с ним и пошла к самой государыне. Государыня приняла его милостиво да так ласково, что он, как вспомнит, так опять в слезы – и говорить не может…
Успокоился, стал рассказывать. Сначала он оробел было перед царицей, да говорит, не такова она, чтобы несчастному человеку долго робеть перед нею. Справился он с собою, все ей поведал без утайки. Она его слушала со вниманием и приказала красавице камер-фрейлине со слов его все о делах наших записывать относительно всех тяжб и тех людей, которые нас обижали неправильно…
Все, как есть все, выслушала царица и отпустила его, сказав, что на другой же день он узнает ее решение. «Терпели вы, – сказала государыня, – многие годы, потерпите еще один день, только один день!» С тем его и отпустила.
Ну, вот мы и потерпели, и на другой же день приехала к нам, будто гостья небесная, добрый наш ангел, Зинаида Сергеевна, от нее мы и узнали о решении царицы. Муж мой получил в самом дворце должность смотрителя с квартирою готовою и со всяким царским жалованием. В тот же день мы и переехали…
Ничего подобного и во сне нам никогда не снилось! После нищеты нашей и грязи, после голода и холода – в теплых да светлых хоромах на всем на готовом! Ведь чуть с ума не сошли от счастья. Ведь первые-то дни нет-нет да и посмотрим друг на друга: наяву все это или во сне с нами? Наконец очнулись и стали благодарить Бога. Теперь отогрелись, сыты, довольны, в благоденствии…
Это вот люди, которые всегда в счастье живут, так они не чувствуют, а вот мы поняли и телом, и душою, какая благодать в жизни, как хорошо и отрадно бывает на Божьем свете… А главное, не то… ну, что уж мне… а то поймите, матушка, ведь я мужа-то заживо хоронила! Ведь он образ человеческий терял, на глазах моих душу свою навеки губил. А тут ведь его узнать нельзя – другой человек совсем стал, да и какой человек-то!..
Она не выдержала и зарыдала. Настасья Селиверстовна так вся к ней и кинулась.
– Успокойтесь, голубушка вы моя… нет, плачьте, плачьте – это хорошие слезы, радостные! Поняла я, все поняла, как не понять!.. Истинно, после бед таких, велико ваше счастье, благодать Божья..
И сама она плакала и обнимала, целовала Метлину. Наконец обе они мало-помалу успокоились.
– А государыня-то мудра, великая царица, – заговорила прерывающимся голосом Метлина, – она ведь не остановилась в своих благодеяниях, она все дела наши тяжебные приказала вновь переисследовать верным людям. Вчера муж пришел: сияет весь! Правда, говорит, на свет Божий выходит, все неправильно у нас отнятое, все, что наше по праву, – все нам возвращено будет…
II
Настасья Селиверстовна не слышала этих последних слов своей гостьи, она вся была теперь поглощена чем-то. Темные брови ее сдвинулись.
– Да вы мне вот что скажите, голубушка моя, – горячо воскликнула она, – мой-то отец Николай при чем тут? К чему это вы его-то своим благодетелем называете, к чему так говорите, будто он захотел да и сотворил вам все ваше благополучие?! Что он пришел-то к вам помолиться да наставление вам пастырское сделал? Так ведь то же самое сделал бы всякий священник… Тут еще благодеяния нету!
Метлина даже руки опустила и глядела на нее с изумлением.
– Как, матушка!.. Бог с вами, что вы такое говорите! Да кто же, как не отец Николай… Все он один, он!
Настасья Селиверстовна как-то передернула плечами и покачала головою.
– Много бы он сделал, кабы не камер-фрейлина!.. Много бы и камер-фрейлина сделала, кабы не царица!.. Вот что царица – ваша благодетельница, это верно!
– Да разве я умаляю ее благодеяния! – все с тем же изумлением проговорила Метлина. – И я, и муж – мы век будем Бога о ней молить. Слово нам скажи она – и мы за нее, за нашу матушку, в огонь и в воду готовы… Но только не смущайте вы себя – меня-то не смутите! Первый истинный благодетель наш – отец Николай, и никто другой. Погибали мы и погибли бы, да Бог сжалился и направил меня к нему, к нему потому, что только он один и мог помочь нам. Ведь я говорила вам, матушка: пришел он, святой человек, и принес нам милость Божию. Душу мою обновил и спас душу моего мужа. Сказал: «Верьте, молитесь, пождите немного – и все будет», и по слову его сталось…
Но брови Настасьи Селиверстовны сдвинулись еще больше; по недавно еще нежному и растроганному лицу ее мелькнула недобрая усмешка.
– Скажите, пожалуйста! – всплеснула она руками. – Да что же вы думаете, сударыня, разве мне не приятно было бы узнать, что муж у меня такой угодник Божий? Только от слов-то оно не станется… Ну ладно, сказал он вам: пождите, все придет. Пошел он от вас, а здесь, вот в этой самой горнице, его поджидала камер-фрейлина… Вспомнил он о вас, рассказал ей про ваши беды, попросил ее поговорить с государыней. Ну что же тут такого? Всякий на его месте сделал бы то же самое, святости в этом нету. А вот хотела бы я знать, кабы он эту самую камер-фрейлину не встретил или кабы камер-фрейлина не взялась с государыней говорить или не сумела бы – ну-ка, ведь вы бы до сих пор благополучия ждали! Или не так?
И она пытливо глядела на Метлину, и она боялась, что слова ее покажутся убедительными и что Метлина сознается в своей ошибке, признает, что отец Николай во всем этом деле ни при чем. И хотелось ей страстно, хотя и бессознательно, хотелось, чтобы Метлина ее убедила во всем том, в чем сама она, несмотря на все свое желание, никак не могла убедить себя.
– Нет, – спокойно и решительно сказала Метлина, – мне от вас, уж извините меня, тяжко и слышать-то слова такие… Зачем гневить Бога, зачем людям да случайности отдавать неправильно то, что принадлежит Богу… Добра царица, добра Зинаида Сергеевна, а все же этой доброты ихней мы и не увидали бы… не они тут, а батюшка…
Но Настасья Селиверстовна живо ее перебила.
– Бог – вы говорите! – воскликнула она. – Это так, а муж-то мой при чем?.. К чему его-то вы к Господу Богу равняете?! Это уж и грешно даже, сударыня, коли знать хотите!
Метлина снисходительно улыбнулась и взяла Настасью Селиверстовну за руку.
– Эх, матушка, какая вы, право… неразборчивая да горячая… А вы не торопитесь да подумайте. Вот мы с мужем много обо всем этом думали-передумали – и теперь-то все нам так видно, как на ладони… Да и увидеть-то не мудрено вовсе – надо только приглядеться хорошенько… Все мы создания и чада Божии, и Отец наш не может не видеть нас и не слышать… Только мы-то сами от Него отвращаемся, смотрим всюду, только не на Него, а и захотим на Него взглянуть и к Нему обратиться, так уж и не можем, ибо сами так ослабили свои очи, что не в силах вынести света Его. Так, что ли, я говорю, матушка?
– Так, так! – живо, с волнением в голосе, воскликнула Настасья Селиверстовна.
– Вот и надобны Ему такие люди, которые могут выносить его лицезрение, понимают волю Его. Таким людям Он и дает способы творить Его волю и быть посредниками между Ним и ослепшими, в разуме затемненными творениями. Такие люди – святые, Божий посланцы, наши заступники и благодетели. Без них, думаю я, весь род бы людской погиб. Таков и батюшка, отец Николай.
– Святой? – тихо спросила Настасья Селиверстовна. И уже в голосе ее не было задора, в нем прозвучал трепет.
– Да, святой, – с глубоким убеждением сказала Метлина. – Господи, да вам ли, матушка, не знать этого? Вам на долю выпала такая благодать, такая милость Божия, такое счастье великое! Вы жена, сердечная, Богом данная подруга жизни святого человека… и вы как бы сомневаетесь! Да что же это такое? Я и ума не приложу… Не мы с мужем отыскали батюшкину святость – ведь и все, как есть, все здесь знают… Ведь он ежечасно благодатью Божией да силою своей святой молитвы врачует недуги, осушает слезы, помогает всем страждущим, оживляет мертвых душою и приводит их к Богу!..
Тихие слезы струились из глаз Настасьи Селиверстовны.
– Вот вы говорите, – шептала она, – мне счастье великое… сердечная, Богом данная подруга жизни я ему… Отчего же, отчего же нет мне счастья?
Метлина глубоко задумалась.
– Вот что! – наконец проговорила она. – Не посетуйте вы на меня, матушка, на мое слово: думается так, что ежели нет вам с ним счастья… стало быть, вы… его не заслужили…
– Да не любит он меня, совсем не любит, не думает обо мне нисколько… чужая ему я – вот мое горе! – воскликнула Настасья Селиверстовна страстно, мучительно, с глубокою искренностью.
До приезда в Петербург она никогда не мучилась этим вопросом, даже никогда не спрашивала себя – любит ли ее муж или нет. Какое ей было до этого дело?! Не требовала она от него любви и не нуждалась в ней. А тут вот, приехав сюда, с первых же дней так прямо и задала себе этот вопрос, и решила его в отрицательном смысле, и терзалась этим. Она теперь почти никогда не разговаривала с отцом Николаем, она, видимо, очень на него сердилась; но, странное дело, совсем перестала на него накидываться, не бранилась, не кричала, не мучила его своими злобными выходками и насмешками. Когда он был дома, она все больше молчала да глядела на него как-то мрачно и загадочно.
– Не любит он меня, вот что! – повторила она с отчаянием.
Метлина даже встала с кресла почти в негодовании.
– Это он-то, батюшка отец Николай, вас не любит? Ах, грех какой!.. Да он каждого, он всех, как есть, всех любит… Так как же ему не любить вас-то…
Она не договорила, потому что в комнату вошел отец Николай, и его светлый, сияющий взгляд сказал ей, что она права, что он любит всех, любит истинной, светлой и сияющей, как солнце, дающей свет и тепло любовью.
III
– Так вот это кто у нас в гостях? – радостно улыбаясь, воскликнул отец Николай. – Пождали меня, отогрелись?.. Хорошо это, Настя, что ты добрую госпожу задержала!
Он благословил стремительно подошедшую к нему Метлину и в то же время, как она целовала его руку, другую руку он положил ей на голову.
– Дочка? – спросил он. – Об ней ты пришла, моя госпожа добрая, поговорить?
– Батюшка, что ж вы спрашиваете, – дрогнувшим голосом сказала Метлина, – ведь вы всегда в моих мыслях читаете… вам Господь все открывает, что есть в душе человека.
– Ну, этого, мать, не говори, что я за сердцевед… Вон, сказывают, чужая душа – потемки!.. Только и в потемках ощупью пройти можно! – весело говорил он. – Не смущайся, госпожа, не унывай: уныние – грех большой, ох какой большой грех!..
Он подошел к столу и пододвинул себе кресло.
– И я прозяб, на дворе-то морозец знатный!.. Настя, ты бы мне сбитеньку горяченького, это хорошо… А вы, госпожа моя, присядьте… Поговорим, мать, поговорим без уныния и с надеждой на милость Божию о твоей дочке…
Его присутствие, его бодрость, его слова уже возымели свое всегдашнее действие. Тень глубокой грусти, начавшая скользить по лицу Метлиной, исчезла. Снова вернулось спокойствие, тишина и мир наполнили душу.
– Мне ли роптать, я ли не взыскана Божией милостью? – сказала Метлина. – Знаю я, что грех мне смущаться и быть нетерпеливой после того, что случилось с нами… Думаю я и так, что за что же нам все… и так уж чрезмерно получили… дано нам много, а это горе оставлено… Только не могу я без тоски глядеть на мое дитя единственное… а как тоска эта загрызет, вот и иду к тебе, батюшка… чтобы ты тоску из души моей вынул да поддержал меня…
Отец Николай сделал с видимым удовольствием несколько глотков из чашки со сбитнем, поданной ему Настасьей Селиверстовной, но он быстро поставил чашку на стол и замахал рукою.
– Нет, мать, не говори так! – воскликнул он. – Боже тебя сохрани от таких мыслей! К чему счеты подводить и мудрствовать: это, мол, Господь дал, а этого не даст. Благость и милосердие Божий неисчерпаемы, беспредельны, нет им счета, нет им меры! Это людская мудрость в сем видимом мире все исчисляет, измеряет и взвешивает… Творец же выше всего этого… и как только ты свяжешь Его числом, мерою и весом, так тотчас же потеряешь истинное о Нем понятие и низведешь Его с неба на землю… В этом и есть великая ошибка человеческой мудрости, вся слепота ее!.. Говорю тебе, Божия благость неисчерпаема, дары Его неисчислимы, только мы не можем ясно видеть путей Божественного Промысла, а посему и склонны судить криво… Говорю тебе: верь, молись и гони от себя уныние. Придет спасение твоей дочери… Как она? Что с нею?
– Да все то же, батюшка!.. Даже еще хуже, чем было прежде… Думала я, что все это зло в ней, все эти мысли грешные и ужасные от бед да от нищеты нашей были. Думала, все пройдет при перемене жизни нашей. Вот теперь она в довольстве и спокойствии, в тепле да холе… Я ли ее не ублажаю! Всего у нее вволю, в светлых хоромах живет, сладко ест, мягко спит, ни работы никакой утомительной, ласку от меня да от отца видит: подумайте, батюшка, ведь она у нас одна, ведь кого же нам и любить да баловать, как не ее! Прежде и нас вот она любила, доброй дочерью была в самое тяжкое время… А теперь как будто у нее к нам ненависть… Ну просто видеть нас не может, противны мы ей… все ей противно… Успокаиваю я ее, усовещиваю, все ей показываю милость Божию над нами… Катюша, говорю, ну как гибли мы, пропадали в работе, холоде, голоде, тогда можно дойти до греха, до отчаяния… А теперь-то, да погляди кругом себя… хорошо-то как! А отец-то, взгляни на него, ведь он возродился и духом и телом, ведь его узнать нельзя…
– Что же она? – спросил священник. Теперь в лице его уже не было веселья и оживления, только в глазах сиял все тот же ясный, бодрящий свет.
– Да что она, батюшка! Слушает, притихнет, да вдруг как закатится! Платье на себе рвет, мечется, кричит: «Дышать мне нечем, давит меня! Где это хорошо? Ничего нет хорошего и быть не может, на свете все дурное, темное…» Да потом такое начнет говорить… повторять не хочется…
– Нет, ты все мне скажи, без утайки, госпожа моя! – настоятельно попросил священник.
– Коли приказываешь… да нет, я и без всякого приказу скажу… не осудишь… про вас это она, батюшка, в безумии своем… к вам, благодетель наш, у нее особая какая-то злоба… Стану я ее уговаривать Богу помолиться, прошу ее со мною к вам съездить, так она как ваше имя услышит, так ее всю и начинает дергать. «Это, – говорит, – обманщик! лицемер! видеть его не могу, ненавижу его!..» Закричит, закричит, затопочет… на пол упадет и бьется… Батюшка, да ведь это что же? Ведь она бесом одержима!..
Отец Николай сидел задумавшись. Настасья Селиверстовна, все время молча слушавшая, перекрестилась.
– Бесом!.. Да, конечно, сила зла велика! – после некоторого молчания произнес наконец священник. – Велика сила вражды и ненависти, только ведь любовь все превозмогает… и Господь наш Иисус Христос оставил нам оружие, в нем же запечатлена Им всепобеждающая сила любви. В оружии сем все наше спасение… Госпожа моя, где же теперь дочь твоя?
– Да вот, батюшка, какое случилось, – трепетно сказала Метлина, – ведь она у нас с неделю как стихла, не было этих ее беснований… я и решилась опять просить ее к вам поехать со мною. Уговариваю, а она молчит, смотрит так грустно, как будто ничего не видит… а потом и сказала: «Хорошо, – говорит, – матушка, поедем!» – и сказала-то странно так, со вздохом, и будто не своим голосом. Обрадовалась я, одела ее, закутала, повезла. Отъехали мы немного, вдруг она кричит извозчику: «Стой!» – да так это у нее страшно вышло, что извозчик сразу остановился. Выскочила она из пошевней, бежит обратно домой и мне кричит: «Поезжайте вы, матушка, одна, а от меня ему скажите, чтоб он не ждал меня, – я себе не враг!» – так, этими самыми словами, и сказала… Что же мне было делать, поехала я одна…
– А уедешь не одна! – вдруг оживляясь, сказал отец Николай и поднялся с места. – Нечего времени терять, поедем-ка, мать, с тобою в дом твой. Поборемся с врагом и, коли Господь подаст, победим его. Обогрелись мы, Настя нас сбитнем хорошим угостила – так и в путь!
– Как мне и благодарить вас, батюшка, не знаю, – засуетившись и собирая свою теплую одежду, повторяла Метлина. – Окрылил ты меня – легко так вдруг стало…
– За что же благодарить? – весело говорил отец Николай, надевая шубу. – Я рад, борьба с таким врагом – дело хорошее… Бодрость во мне, сила растет!.. И впрямь – воином себя чувствую… благослови, Господи! Не кровь человеческую проливать буду… Идем, мать, спешим! Прости, Настя!..
Настасья Селиверстовна молча обнялась с Метлиной и стояла, горделиво выпрямившись. Она побледнела, и глаза ее мрачно, загадочно, не мигая, глядели на отца Николая.
Вот и он, и Метлина скрылись за дверью.
Настасье Селиверстовне показалось, что в комнате вдруг стало ужасно тихо, ужасно пустынно.
– Да что ж это? – прошептала она, заломив руки. – Одна, всегда одна… чужая… никому не нужная… а ему – только помеха, тягость!..
И она понимала, что иначе быть не может, и она его не винила. Куда же ей в самом деле? Туда, за ними, в незнакомый дом, где он будет изгонять беса из порченой девушки?.. Что же она там будет делать – только мешать! Кому она нужна?.. Он, которого она прежде так низко ставила, – он всем нужен, он – святой… святой… А она – грешница, недостойная любви его… Ведь вот, барыня эта так прямо и сказала… И барыня права…
Ей вспоминались прожитые годы, вся ее семейная жизнь – и все теперь являлось перед нею совсем в новом свете. Она все яснее и яснее начинала видеть то, чего прежде не видела. Она вспоминала отвратительные сцены, бывавшие между нею и мужем. Она всегда считала себя правой. Теперь же ей очевидно стало, что всегда она была виновата, а он прав. Он молчал, он выносил спокойно, невозмутимо нападки, бессмысленные упреки, брань, побои… Он выносил все это не из слабости – теперь она начала понимать, что не из слабости…
Будто яркий свет ударил ей в лицо, она закрыла глаза, краска стыда залила ее щеки.
Она все поняла и ужаснулась.








