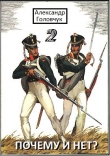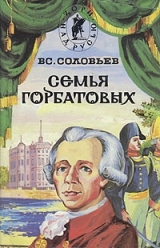
Текст книги "Семья Горбатовых. Часть вторая. "
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц)
ЭПИЛОГ
Прошло четыре года. Стояли первые теплые дни. Весна началась рано. Снег уже растаял, и из-за сухих прошлогодних листьев показывалась первая травка в горбатовском парке.
В последние годы не узнать стало Горбатовского. Дом был перестроен заново, изменена была и внешняя его архитектура. Сергей Борисович не пожалел денег, чтобы на славу отделать свое родовое гнездо. Огромный деревенский дом этот, прежде отличавшийся невзыскательной простотою, наполненный неуклюжей, иногда самодельной мебелью, теперь поражал роскошью обстановки. Мебель была выписана не только из Петербурга, но и прямо из-за границы.
От прежнего дома, собственно говоря, осталась только зала с хорами, увешанная старыми фамильными портретами. К дому теперь примыкал, завершая длинную анфиладу комнат, обширный зимний сад, наполненный самыми роскошными тропическими растениями, которые под руководством опытного немца-садовника выращивались в многочисленных теплицах и оранжереях.
В доме, незадолго еще перед тем тихом и унылом, теперь было постоянное оживление, показывавшее, что хозяева живут в нем.
Действительно, Сергей и Таня, как приехали из Петербурга весною 1797 года, так и остались здесь безвыездно. Уж очень хорошо было им в первое время на родине. К концу года Таня благополучно родила сына, названного в честь покойного деда Борисом.
Сначала еще поговаривали Горбатовы о поездке в Петербург, но, несмотря на все желание увидаться с некоторыми близкими людьми и, главнейшим образом, с государем и государыней, они все же глядели на эту поездку как на тяжкий для себя долг, исполнение которого старались отложить всеми мерами.
Между Сергеем и его петербургскими благоприятелями шла довольно деятельная переписка. Ему сообщались из Петербурга все новости, но мало радости приносили эти письма. Читая их, печально задумывались и Сергей, и Таня. Из этих писем, и в особенности из писем Кутайсова, уже подписывавшегося теперь своим новым графским титулом, Горбатов узнавал, что государь, несмотря на продолжение своей всесторонней изумительной деятельности, быстро изменяется. Он на ногах, он в постоянном движении, но, между тем, в здоровье его, очевидно, происходит быстрая перемена. Он не сознает этого, не сознают этого и почти все окружающие, сознает один только Иван Павлович, который лучше чем кто-либо понимает своего благодетеля.
И видит Горбатов, как тяжело теперь иной раз должно быть государю и как в то же время тяжело должно быть и окружающим. Он становится все раздражительнее и раздражительнее, в нем развиваются все больше и больше мелочность и подозрительность.
Скоро пришлось окончательно убедиться в перемене, происшедшей с государем. Сергея перестали звать в Петербург. И вот он узнал, наконец, от одного из своих корреспондентов, от одного из тех друзей, которые всегда так рады бывают сообщить другу неприятное известие, что государь при многих свидетелях выразился следующим образом: «Горбатов обманул меня, сказал что вернется – до сих пор его нет, ну, так мне его и не надо!.. Пусть и сидит в своей деревне!»
Никому, конечно, не пришло в голову, что в этих словах государя звучало прежде всего желание, чтобы Горбатов вернулся. Поняли так, что кто-нибудь подставил ногу недавнему любимцу и что теперь песня эта спета. Потолковали об этом, иные выразили равнодушное сожаление, другие порадовались неудаче ближнего. Но вскоре затем Сергей получил письмо от Кутайсова. Иван Павлович писал ему: «Не в моем обычае, милостивый государь мой, забывать старых друзей и старые услуги. Считаю до сего дня себя в долгу у вас, а посему поспешаю преподать добрый совет: если желаете сохранить к себе милость государя, выезжайте немедля в Петербург, но без огласки. Известите меня, когда прибудете, и я исполню все, что в моих силах, чтобы уговорить государя отменить решение, им относительно вас принятое, и встретить вас по-прежнему. Много, сударь, повредило ваше отсутствие! Не знаю, удастся ли мне все исправить, однако же, пребываю в уповании на доброе окончание сего дела…»
– Что же, Таня, как ты полагаешь? – спросил Сергей, когда они окончили чтение этого письма. – Ехать?
– Да, делать нечего, – ответила она, – надо расстаться нам с мирной здешней жизнью.
И в то же время лицо ее выразило всю тоску, вызванную одной мыслью о Петербурге. Тем не менее, стали приготовляться к отъезду. Но судьба вмешалась и удержала их снова. Маленький Борис внезапно заболел. Врач нашел его положение серьезным, об отъезде нечего было и думать. Целый месяц был болен ребенок, а ко времени его выздоровления получились новые, не совсем успокоительные письма. Отъезд затянулся, и скоро перестали говорить о нем. Сам Иван Павлович писал, что дело испорчено, называл поступок Сергея «губительным».
Сергей примирился с мыслью о немилости государя и вдруг почувствовал себя несравненно спокойнее. Не было больше колебаний, не стояла постоянно в мыслях необходимость поездки, можно было успокоиться, сложив всю вину на обстоятельства. Сергей так и сделал, сделала так и Таня. Окончательно основались они в Горбатовском. И забывали мало-помалу свою придворную жизнь, для которой не были созданы, ушли всецело в жизнь деревенскую. Вернулись привычки детства, вернулись старые воспоминания.
Им дано было огромное и редкое счастье любить друг друга, не охлаждаясь с годами, и не отравлять своей семейной жизни заботами о насущном хлебе, печальными думами о грядущем будущем. Все, что могло дать богатство, было у них под руками. Роскошный дом, не уступавший своим великолепием царским чертогам, огромная толпа прислуги, – целое государство в малом размере. Горбатов был самым богатым и важным человеком в губернии. Его богатство, ласковое обращение как его, так и Тани, привлекали в их дом постоянных гостей. Незаметно сложился сам собою строй привольной барской жизни того времени.
Время шло довольно скоро. Через год у Тани родился второй сын, названный в честь ее отца, князя Пересветова, Владимиром.
Все было, ничего не недоставало, – но все же иногда казалось Тане, что становится меньше свободы. Иногда утомляли эти наезды по большей части неинтересных гостей, эти большие обеды, празднества неизбежные. Но, во-первых, в такие минуты она решала, что иначе и быть не может, а, во-вторых, условия этой широкой, барской жизни дозволяли ей, несмотря даже на присутствие гостей, удаляться к себе, в свои комнаты, возвращаться к любимым книгам или проводить час-другой одной с детьми, с мужем.
Не совсем такою представлялась ей ее будущая жизнь в те дни, когда она убедилась, что Сергей возвращен ей. Но она решила, что то были грезы, а теперь настала действительность.
Сергей, несмотря на все свое благополучие, чувствовал себя значительно хуже. Ему по временам снова становилось скучно, снова одолевало его томление неудовлетворенности. Таня поглощена своими разнородными занятиями, и он часто один. И всего более он один тогда, когда окружен народом. Почти ничего общего нет между ним и этими соседями, по большей части, людьми совсем необразованными, на которых он поневоле должен смотреть сверху вниз.
Но и у него задаются светлые минуты. Привезут из Петербурга посылку с новыми книгами и газетами – он встрепенется и на несколько дней хватит ему любимого занятия.
Он любит природу, любит охоту. Окружающая родная природа навевает тишину ему на душу. Волнения охоты заставляют горячо биться его сердце…
Дни проходят за днями. Может быть, и хотелось бы чего-нибудь иного, но он знает, что иного нет на свете. Он знает, что это настоящее, во всяком случае, счастливее и лучше его прошедшего – и успокаивается на этом так же, как и Таня.
Все эти соседи, все эти гости, наполняющие дом его, вся губерния его почитают, все перед ним преклоняются и в то же время толкуют об его странностях.
«Отец был чудак, да и сын вышел такой же!»
И нет-нет, да и произнесется то тем, то другим и в деревню занесенное слово. Называют Сергея «вольтерьянцем».
«Вольтерьянец, это точно, этого уж не скроешь! – говорят про него. – Все книги, Бог его ведает, какие читает, в церковь редко заглядывает. Испортили его там за границею. Не будь он „вольтерьянцем“, не сидел бы в деревне. Ведь уж как не скрывай, а ведь всем известно – в Петербург бы и рад показаться, да не смеет. Ну, а при всем том, человек добрый, обходительный – одно слово, вельможа!..»
Таково было мнение губернии о Сергее. Он бы добродушно посмеялся, если бы узнал, что прозвище «вольтерьянец» его так преследует, но, конечно, он не знал этого, да и вообще не интересовался тем, что о нем говорят и думают.
Так и прошли однообразно, не скучно и не весело, эти четыре года…
Сергей и Таня после раннего деревенского обеда сошли со стеклянной террасы в сад. Никого почти из гостей на этот раз не было у них в доме.
Некоторые дорожки сада были уже расчищены и просохли. Теплый весенний ветерок едва колыхал сухие еще ветки деревьев. Обширные цветники, распланированные перед домом, были разрыты. Садовники приготавливались начинать над ними работу. Пахло разрыхленной землею, в воздухе носилось щебетание птиц. По ясному небу плыли легкие весенние облака.
Таня оперлась на руку Сергея, и они молча пошли по усыпанной ярко-желтым песком дорожке, и долго молчали. Они медленно двигались нога в ногу, любовно прижавшись друг к другу.
Приближение весны навевало на них тихую дрему, тихое приятное раздумье. О чем? Обо всем. И о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Время от времени они глубоко вдыхали в себя свежий, чистый воздух.
– Вот, когда хорошо в деревне, славное наступает время! – проговорил Сергей.
– Да, – шепнула Таня, – не позавидуешь теперь городской жизни.
– А ты разве когда-нибудь ей завидуешь?
– Ты знаешь, что нет.
– Однако, – сказал он, – что это Степаныч до сих пор не возвращается из города, я ждал его все утро. Ведь мы давно-таки не получали из Петербурга никаких известий!
Они снова замолчали и продолжали прогулку. И не успели подойти они к дому, как навстречу им, озаренная ясным солнцем, показалась фигурка Моськи. Вот он ближе и ближе. Они уже могут различить лицо его.
– Что это с ним такое? Что случилось? – в один голос воскликнули и Сергей, и Таня.
Моська шел, или вернее, плелся, волоча за собою ноги. Лицо у него было заплаканное. Они поспешили к нему. Он остановился, взглянул на них и вдруг, закрывая лицо ручонками, громко зарыдал.
– Что такое? О чем ты?
– Не стало нашего благодетеля… скончался! – сквозь рыдания проговорил Моська.
Сергей и Таня невольно вскрикнули и побледнели. Между тем, Моська вынул из висевшей у него через плечо сумки письмо и подал его Сергею. Сергей распечатал, прочел и передал Тане. Письмо это было от губернатора, который извещал Горбатовых о кончине государя.
Таня упала на грудь Сергея и залилась слезами. Сергей стоял, как громом пораженный, ни слез не было, ни мыслей. И вдруг он понял, кого лишился. Вдруг в нем нежданно встали и мучительно заговорили новые чувства. Он схватился за голову.
– Ах, я несчастный! – простонал он. – Зачем же я жил здесь, зачем меня там не было? Он умер… так нежданно, так рано!..
И ясно, как живой, представился ему этот человек, на служение которому он когда-то мечтал отдать все свои силы. И казалось ему, что этот человек глядит на него с упреком, будто говоря:
«Мало было у меня друзей и слуг – да и те покидали!..»
События шли своей чередой. Началось новое царствование при самых лучших предзнаменованиях. На молодого, вступавшего на престол монарха обращались все взоры с любовью и надеждой. Муза Державина воспела хвалебный гимн. Все оживились, все воспрянули духом, все свободно вздохнули.
Страстное, благородное сердце непонятного труженика-страдальца успокоилось навеки. Мало кто оплакивал знаменательную, мрачную судьбу его. Все добро, которое в нем вмещалось, на глазах людей превратилось во зло. И этим злом долго была омрачена его память, пока, наконец, с течением времени далекие события не стали озаряться ясным, спокойным светом, пока злоба дня не стала превращаться в историю.
Время проходило, и одно за другим исчезали с жизненной сцены лица, появлявшиеся на страницах этого рассказа.
Почти одновременно с кончиной государя царское семейство понесло новую утрату. Вдали от родины, в Вене, скончалась Александра Павловна. Предчувствие ее исполнилось, она не возродилась к жизни, она медленно умирала четыре года.
Густав не вернулся к ней и своими безумными поступками, своим легкомыслием, взбалмошным характером приготовил себе печальную будущность. Великая княжна о нем не осведомлялась, она знала, что волшебный сон ее прошел навсегда. Она окончательно примирилась с мыслью о том, что жизнь ее кончилась, о том, что она умирает – и только изумлялась тому, как невыносимо долго происходит это умирание. Теперь она уже больше не волновалась и не плакала, тоска ее была тиха. Она на вид казалась даже совсем спокойной, и только временами блуждающий, рассеянный взгляд ее кротких глаз мог указать на то, что она живет совсем в особом мире, живет своей внутренней, никому не понятной жизнью.
И дожила она этой жизнью до конца 1799, когда покорно исполнила волю своих родителей, пошла под венец с Иосифом, Палатином Венгерским, эрцгерцогом Австрийским. На этот раз все устроено было без особых затруднений. Вопрос о вероисповедании великой княжны не явился препятствием. Православные австрийские подданные праздновали радостную весть о бракосочетании эрцгерцога с единоверною им русскою великою княжною. Покидая Россию, великая княжна вышла из своего спокойствия, из своей апатии. Она горько плакала и терзалась, прощаясь с родными. Ведь она прощалась с ними навсегда; злая смерть, так долго ее томившая, не захотела дать ей возможности умереть на родине. Она уехала умирать в далекую, чуждую землю, умирать, не чувствуя перед смертью ласк матери, не видя вокруг себя ни одного близкого и любимого лица.
В императорском австрийском семействе, к которому она теперь принадлежала, она встретила вражду. Императрица Терезия возненавидела ее с первого же дня и стала подвергать ее самым невыносимым оскорблениям. Александра Павловна все выносила, никто никогда не услышал от нее ни единого слова жалобы или упрека. Она продолжала умирать. Чем больше терзаний, тем больше обид и оскорблений, тем лучше. Авось, наконец, смерть сжалится над нею и скоро возьмет ее. И смерть сжалилась – четвертого марта 1801 года она скончалась, хотя накануне еще доктора уверяли, что она вне всякой опасности. Причина ее смерти осталась тайной, о которой много говорили и судили в свое время и которую так и не разгадали…
Человек, легкомыслие которого было одною из первых причин несчастья Александры Павловны, – князь Зубов, избежал-таки должного наказания за все свои грехи, за все то зло, какое он сделал в жизни. Впрочем, избежал ли? Верно решить вопрос этот было бы можно, только заглянув в его душу, а в душу его никто не заглядывал. Мы можем только указать на внешние обстоятельства дальнейшей судьбы его.
По приказу Павла Петровича, выехав из Петербурга за границу, он путешествовал по Германии. И всюду же он производил самое лучшее впечатление, изумлял всех своей обходительностью, любезностью, словом, теми качествами, которых именно и не было в нем в дни его величия. Оказалось у него теперь и нежное сердце. Он начал с того, что возил за собою какую-то очень хорошенькую особу, переодетую камердинером. Но затем эта хорошенькая особа исчезла. Он в Теплице влюбился в красавицу эмигрантку Рош Эмон, но вскоре распростился с нею и принялся ухаживать за молодыми курляндскими принцессами, очень красивыми и очень богатыми. На одной из них он намеревался жениться, но герцог Курляндский, помнивший прежнее надменное отношение к нему Зубова, не поддался и отказал ему в руке своей дочери. Тогда Зубов намеревался насильно похитить принцессу. Герцог, как уверяли, послал жалобу государю, и Зубов получил в скором времени приказание вернуться в Россию и поселиться в одном из своих поместий в Литве.
Однако и здесь ему пришлось прожить недолго, счастье продолжало ему улыбаться. Благодаря Суворову, дочь которого была замужем за его братом Николаем, ему разрешено было вернуться в Петербург, и еще раз Павел Петрович простил его. Чтобы добиться своих целей, светлейший князь Платон Александрович предложил руку и сердце дочери нового графа, Ивана Павловича Кутайсова, и тот, польщенный этим, стал за него ходатайствовать перед государем. Зубов был назначен шефом первого кадетского корпуса.
Но, несмотря на новые милости государя, в нем по-прежнему кипела злоба, и он оказался до конца в числе непримиримых тайных врагов его…
В начале царствования императора Александра Зубов уехал навсегда из Петербурга и поселился в одном из своих имений, Янишках, где прожил до самой своей смерти, которая долго его щадила. Здесь, в деревне, этот «дней гражданин золотых, истый любимец Астреи», по свидетельствам людей, близко знавших его в то время, явился в новом виде. Обладая громадным состоянием (у него было до тридцати тысяч душ крестьян, не говоря уже о весьма значительных денежных капиталах и всевозможных драгоценностях), он стал отличаться болезненной скупостью. Он сам, не доверяя никому, входил во все мельчайшие подробности своего хозяйства, торговался с жидами, умел обманывать даже их. Сколачивая деньги – а он не признавал иных денег, кроме звонкой монеты, – он свозил свои капиталы в подвалы своего замка. Бочонки с золотом и серебром хранились в этих подвалах. Платон Александрович в праздничные дни сходил в подвалы и по целым часам любовался блеском этого золота и серебра… Было чем любоваться – после его смерти одних серебряных рублей оказалось на двадцать миллионов.
И чем старее он становился, тем скряжничество его развивалось больше. Он даже начал плохо одеваться. Никто не видал его веселым, он всегда глядел мрачно и подозрительно, произнося, кстати, фразу, сделавшуюся его любимой поговоркой: «Так ему и надо, так ему надо!»
Он стал бояться смерти. При нем никто не смел говорить о покойниках. А, между тем, он быстро разрушался. Ему было немногим более пятидесяти лет, но он имел вид дряхлого старика…
За полтора года до своей смерти Зубов отправился на конную ярмарку в Вильно и встретился там с молоденькой, хорошенькой полькой Валентинович. Она была дочь бедной вдовы, которая приехала в Вильно хлопотать о каком-то деле. Панна Фекла Валентинович заронила в сердце старого скряги искру чего-то, похожего на страстное чувство, и он, недолго думая, пожелал купить дочь у матери за деньги. Его предложение было отвергнуто, но панне Фекле улыбнулась мысль сделаться светлейшей княгиней и владетельницей огромного богатства.
Она начала кокетничать с Платоном Александровичем и повела дело так ловко, что князь сделал ей предложение и женился. Всего год прожил он с женою и, вероятно, этот год не был из счастливых в его жизни…
Федор Васильевич Ростопчин, вместе с Кутайсовым получивший графское достоинство, неутомимо работал почти во все кратковременное царствование императора Павла. Но незадолго до кончины государя, несмотря на все свое искусство и умение пользоваться минутами, он вдруг впал в немилость и должен был выехать из Петербурга. Затем мы его видим в качестве одного из крупных деятелей 1812 года. Конец его жизни был тихий и скромный. Он доживал в Москве, удаленный от дел, уважаемый некоторыми современниками, порицаемый многими. У ближайших потомков о нем составилось самое противоречивое мнение. Но в настоящее время опубликована, между прочим, его многолетняя переписка с графом Воронцовым. Переписка эта полна интереса, ярко освещает многие из событий нашего исторического прошлого. Ярко освещает она и образ самого автора, образ талантливого, горячего и желчного человека, сделавшего много полезного и хорошего, сделавшего много ошибок, и, как бы то ни было, не бесследно поработавшего в жизни…
Остается сделать несколько последних слов о людях, не записавших своего имени в историю, но переживших вместе с историческими деятелями многие важные события.
Сергей Горбатов и Таня, несмотря на милостивое письмо к ним императрицы Марии Федоровны, несмотря на грустное письмо Екатерины Ивановны Нелидовой, которая после смерти своего несчастного друга оставалась в своей «келье» и молилась о душе его, – не поехали в Петербург. Если они и прежде ненавидели этот город, то теперь он был для них просто страшен. И как-то так само собою сложилось, что с Горбатовым повторилась судьба отца его.
Год проходил за годом, понемногу начали стариться и Сергей Борисыч, и Татьяна Владимировна. Прошлое им казалось далеким сном. И с каждым годом все больше и больше ощущали они связь с этим прошлым. Прежняя Таня – теперь уже странно было называть так эту красивую, величественную женщину, – посвящала все свои силы, все свои знания, приобретенные во время гатчинской жизни, своим двух подраставшим сыновьям.
В их воспитании и образовании для нее открылись широкие цели, целый новый мир радостей и горя. И во всяком случае, жизнь ее была полна теперь, и она не желала себе иного удела.
Карлик Моська, хотя горбатовская дворня и считала его по-прежнему бессмертным, дряхлел с каждым годом, но все еще сохранял ясность мыслей и свежесть чувств. Он обожал «крошек», как называл Бориса и Владимира Горбатовых, которые давно уже были более чем вдвое выше его ростом. Он молился на свою золотую Татьяну Владимировну. Он по-прежнему «ходил около Сергея Борисыча» и по-прежнему журил его и распекал даже гораздо чаще прежнего. А забираясь в свою тихую комнатку, где вечно пахло, мятным квасом, где на стенах красовались старые, засиженные мухами лубочные картины, изображавшие адские мучения, он вспоминал пережитые бедствия. Вспоминал и благодетеля государя. Его совсем сморщенное, испещренное глубокими морщинами личико сморщивалось и съеживалось еще больше, на потухающие глаза навертывались слезы. «Упокой, Господи, душу раба твоего царя Павла!» – шептал он, падая перед кивотом с иконами. И, быть может, никто так горячо не молился, за исключением далекой Екатерины Ивановны, об этой многострадальной душе, как старый карлик.
Менее всех счастлив в роскошном горбатовском доме был сам хозяин, «вольтерьянец», как упорно все продолжали называть его.
Хотя и спокойный духом, он чувствовал иногда тягость жизни, в которой не было ясной, определенной цели. Он понимал, что цель могла бы явиться, – ведь под его властью около сорока тысяч душ крестьян, ведь это все живые люди, о которых он когда-то пророчествовал Ростопчину, что придет время, когда эти люди будут свободны.
Но тогда наивный юноша верил в осуществление своих прекрасных мечтаний, – теперь человек, уже переживший вторую половину жизни, переставал верить грезам.
Мы еще встретимся с нашим «вольтерьянцем» в глубокой старости, во дни, когда будут действовать новые люди, когда его дети будут приобретать житейский опыт, который так мало пользы принес отцу их…
1882