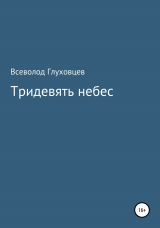
Текст книги "Тридевять небес"
Автор книги: Всеволод Глуховцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Голос – приятный, сдержанный, глубокий баритон, рукопожатие крепкое, жесткое, сухое. «Проходите, садитесь,» – единственная дань формальной вежливости. Присев и сам за стол совещаний, он заговорил по делу: быстро, напористо, с рубящей непререкаемой интонацией – не беседовал, но диктовал.
Революция, провозглашал наркомвоен – это не только политический переворот, захват власти и организация новых учреждений, хотя бы и таких сложных, как вооруженные силы…
Так между делом он подчеркнул свои заслуги, ни на секунду не задержавшись на данной теме, но и не забыв про нее. И пошел дальше. В речи его автоматически засквозил ораторский пафос.
Не только это! – говорил он. Все это вещи необходимые, но не достаточные. Это лишь начало революции, ее первые шаги. Настоящий ее успех есть создание нового человека, с новым мировоззрением, новым мышлением, новыми ценностями. Лишь когда удастся сделать это, тогда и можно говорить о победе революции. Вот…
Здесь он постарался улыбнуться, но вышло это холодновато.
– Вот поэтому я вас и пригласил. Надеюсь, вы меня понимаете.
Она, Сабина Шпильрейн, известна как сильный психолог и психиатр, с высокой репутацией, подтвержденной мировыми светилами этой науки. Власть Союза советских республик чрезвычайно заинтересована в таком специалисте. Чрезвычайно! – подчеркнул Предреввоенсовета. Союз готов гарантировать товарищу Шпильрейн полную поддержку, включая, разумеется, финансовую, в организации института, занимающегося всесторонним исследованием психики… Очевидно, и здесь не нужно лишних слов о значимости этого проекта?
Товарищ Шпильрейн кивнула. Разумеется, это не нужно было ей объяснять. Новая власть стремится создать систему формирования личностей, беспредельно преданных этой власти… а если говорить еще откровеннее, то власть ищет способ влиять на людей. Держать их в невидимой узде – так, чтобы они о том и не подозревали.
Троцкий не говорил об этом прямо – не сказать, что словесно петлял, но и вещи своими именами не называл. Говорил округленно, со спрятанными намеками, и можно не сомневаться: рассчитывал на то, что ученая особа прекрасно понимает суть, скрытую в облаках иносказаний.
Он не ошибался. Так и было. Только он не знал, что она видит больше.
Сабине Шпильрейн совершенно не нужно было напрягаться, чтобы постичь настоящую цель высокопревосходительного лица. Она читала его тайны как по-писаному. О да, конечно, всего не постичь и не прочесть и в самом себе, что уж там о других толковать! Но что-то очень главное, какой-то из стержней другой личности можно угадать безошибочно, вовсе не будучи психологом, а если правду сказать, то и ума на это не надо. Без всякого ума – раз! – и попал в точку, в нечто в самой глубине чужой души, в то, что эта самая душа хотела бы скрыть ото всех… ан нет, не вышло. Это особое, вероятно, врожденное чутье, и оно либо есть, либо нет, вне зависимости и от учебы, и от житейского опыта. Другой вопрос, что с умом и образованием такая угадайка работает на порядок лучше.
И вот Шпильрейн метко ухватила в Троцком его бесконечное упоение собой. Все, что он говорил – а говорил он, в общем дельные, неглупые вещи – для него не имело ценности как таковой. Загадки человеческих душ, да и сами люди интересны ему не потому, что это невероятно увлекательно, что это пространство поиска, волнительных вопросов, находок, решений… Нет. Не то, чтобы он этого в упор не видел – нет, отчего же, это может быть занятным. Но в его системе координат это любопытно и ценно лишь тогда, когда работает на него, на Льва Давидовича.
Вот что главное! Оно и больше ничего: каждый день, каждый миг этого мира должен сигналить Льву Давидовичу, что он выше, умнее и сильнее всех. Что он видит и творит будущее, что где-то линии судеб тысяч незнакомых ему людей сплетаются или расплетаются потому, что он, Предреввоенсовета Троцкий сделал или не сделал росчерк пером по бумаге. Игра в человечество, где ты не пешка, а… А кто?
Бога нет? Ладно, пусть нет. Но им можно стать! А если можно, то и нужно. Так и только так! Он, Лев Давидович Бронштейн, для того и рожден, а став Троцким, должен это сделать.
Сабина чуть не вздрогнула – настолько прохватила ее эта мысль. При ее-то опыте! Троцкий свято убежден, что он пришел в этот мир для того, чтобы возглавить его, не больше, не меньше. Большего быть не может, а с меньшим он уже не смирится. Никогда.
Она не выдала себя. Слушала, кивала, не спорила. И слушала даже внимательно. Но больше она все же слушала себя.
Почему-то ее не обрадовала собственная проницательность. И дело не в том даже, что и она сама и будущий институт для товарища Троцкого всего лишь игрушки в его большой игре. Не пешки, не шестерки, но и не игроки – так, что-то вроде валета или десятки. Сегодня ему интересно, а завтра и не вспомнит, кто такая Шпильрейн, зачем была нужна… Нет, Сабина Николаевна примерно так себе это и представляла, без иллюзий, была к этому готова. Она лишь не ожидала, что догадка станет такой яркой, так встряхнет. Но для психолога подобное рабочий случай, обязан справляться. Она и справилась. Главная проблема была совсем в другом.
Сабина Николаевна смотрела на Троцкого, слушала, и чем дальше, тем больше сознавала, что свою игру этот человек проиграет. Все его речи – струи, потоки, ими он старается залить глубинный пожар внутреннего беспокойства. Он словно боится взглянуть в будущее – он, титан, мнящий себя рожденным для Олимпа!.. Это очень болезненно для него, он лихорадочно ищет ходы, способные изменить текущий расклад сил. Шпильрейн, Иванов, Петров, Сидоров… условно – разные лица торопливо гонит перед собой, оценивает, сравнивает их, тасует колоду. Ну что ж – это естественно в данной ситуации. Другое дело, что здесь у Сабины Шпильрейн начинается своя игра.
Понятно, что предложение Льва Давидовича такого рода, что от него не откажешься. Не только из боязни навлечь на себя вельможный гнев. Но и ради себя самой, своей науки: такой счастливый случай, как сейчас, выпадает одному исследователю из сотен, если не из тысяч. Свой институт! Государственные деньги!.. Нет, упустить такой шанс немыслимо.
Но и попадать в беспощадную политическую рукопашную никакого резона нет. Сплести линию своей судьбы с судьбой трибуна революции Троцкого?.. Эта мысль вызывала смутную, но весомую тревогу, словно и ее собственное, Сабины Шпильрейн, будущее нехорошо, с ухмылкой заглянуло в ее глаза… И она постаралась отбросить это.
Заговорила аккуратно, обходя углы: прежде всего дежурно выразила признательность власти Союза Республик за проницательность и заботу о развитии психологической науки, дельно сказала об ее важности в задаче формирования нового человека и нового мира… и войдя в тему, гладко и успешно растеклась речью, из которой, если отжать общие слова, следовала готовность к предложенной работе – при разумном финансировании.
Троцкий выслушал это со сдержанной благосклонностью – так прочел бы его реакцию обычный наблюдательный человек. Но Шпильрейн была более, чем просто наблюдательна. Не все так просто.
Красный самодержец был несколько разочарован. Очевидно, он ожидал от гостьи чего-то иного. Возможно, большей благодарности, если не заверений в преданности… Конечно, он слишком многоопытен для того, чтобы выдать свои чувства. Он, собственно, и не выдал. Будь его собеседником не Сабина Николаевна, а кто-либо другой, этот другой ничего бы и не заметил. Но здесь и сейчас была она.
– Ну, хорошо, – сказал он таким тоном, что ясно: аудиенция закончена, остались формальности. – Значит, будем работать?
– Да, Лев Давидович.
– Вот и хорошо, – он не заметил, как повторился. Придвинул настольный календарь, пошелестел страницами, сделал на одной из них некую пометку, после чего кратко, четко разъяснил, к кому следует обратиться.
– Спасибо, Лев Давидович, – Шпильрейн встала. Поднялся и хозяин. – Когда я могу попасть к …..? – она назвала фамилию.
– Немедленно, – ответил Троцкий сухо и строго и тут же чуть заметно улыбнулся уголком рта. Вежливо улыбнулась и она:
– В таком случае, не буду терять времени.
– Желаю успеха, – Троцкий протянул руку.
Рукопожатие было прохладней, чем при встрече: короткое прикосновение, и все.
***
Когда Шпильрейн ушла, Троцкий взглянул на часы. До следующей встречи оставалось восемь минут.
Он с угрюмой иронией подумал, что с какого-то времени стал очень ценить вот эти минутки одиночества, маленькими подарками выпадающие посреди необъятных трудов: он едва ли не телесно ощущал страшную тяжесть движения мировой политики. Державы, партии, армии – на той высоте бытия, куда вознесло Льва Давидовича, все это ощущалось огромными массами, горными пластами, вулканическими лавами – стихиями, чей масштаб завораживает, потрясает, вводит в оторопь. Лишь на таких высотах видно, что это за страшилища, что за мощь, которой никакому человеку невозможно управлять, можно лишь как-то использовать движения стихий в своих целях, уворачиваясь, чтобы не быть уничтоженным.
Лев Троцкий не без оснований мог гордиться умением работать с этими силами. Он обладал быстрым умом, воспламенявшимся от трудности задач – бешеный вихрь событий, кого-то превращавший в осенний лист, гонимый в никуда, Льва только распалял, подстегивал, обострял мысль… В этом он был похож на Ленина, хотя ему и не хватало интеллектуальной мощи последнего, мускулатуры его мысли, однако в сумасшедшей эпохе суть он умел хватать на лету. И решал задачи, казалось бы, неразрешимые.
Но все на свете приедается, от всего устаешь. Приелось и это. Космический размах жизни стал обыденным, небо Олимпа – просто воздухом… и председатель Реввоенсовета погрузился в рутину масштабных, но не захватывающих дел.
За годы он привык к собственному величию, к тому, что он первый после Бога… ну, шутка, шутка! После Ленина. Привык. И это стало повседневным: власть и слава, фотографии, статьи в газетах: Троцкий, Троцкий, Троцкий…
Все это так и было, а вот власть – он ощутил это в последние примерно полгода – власть стала как-то уходить, утекать как вода их прохудившегося сосуда. Он привык быть своим среди стихий, чувствовать их своими, одной крови, одной жизни с ним. И они в ответ признавали Льва Давидовича за своего, он угадывал это и мог предвосхитить их движения – они не помогали ему в этом, но и не мешали работать на себя. Это было сложное, почти невыразимое, но безошибочное чувство их снисходительного родства с тобою, смертным, вроде похлопывания по плечу.
Столь честолюбивого человека, как Лев Давидович это могло бы уязвить – если б не осознание того, что он один из сотен миллионов, достигших такой чести. Он и Ленину не завидовал – тот был ровня Троцкому, но старше; потому и раньше добился своего. А мое еще придет ко мне! – самоуверенно думал Лев Давидович.
И вот как-то упустил момент, как родство со стихиями поблекло. Иной раз он ловил себя на мысли, что они по неведомой прихоти нахмурились, отвернулись от него. Старался гнать от себя эту мысль, понимал, что выходит по-детски, раздражался и начинал гнать раздражение… А мысль-то все равно не уходила, выкручивалась и превращалась в мысль о том, что стихии отвернулись от него, чтобы повернуться к другому…
Ну, а кто этот другой, объяснять не надо.
И вот ведь казус: силы отвернулись, а заботы не делись никуда. Предреввоенсовета, он же наркомвоен должен делать тысячу дел в день, и если раньше это было влет, легко, задорно, с куражом, то стало натужно, муторно, без вдохновения… А впрочем, и тут надо сказать правду: в рабочем графике раньше было не вздохнуть, не продохнуть, а теперь стали появляться пробелы и послабления, и в кабинет председателя стали заметно реже заглядывать те, кто по статусу был почти равен ему. Хотя при встречах вроде бы все оставалось по-прежнему, общались по-товарищески, бывало, перешучивались и пересмеивались… И все-таки стало что-то уже не то.
Конечно, Троцкий был не тот человек, чтобы впасть в грусть-тоску от таких новостей. Напротив, собирался, как опытный спортсмен перед схваткой. Стал находить особый вкус в минутках одиночества, смаковал их, тасуя расклады, ища решения. Это он умел и без вдохновения.
Вот и сейчас, пройдясь пару раз по кабинету, вернулся к столу, сел.
Ну-ну – мысленно произнес он. Подумаем…
Он собирал себя на четкую, напористую, агрессивную работу мысли – но вместо того почему-то взяла досада на эту дуру Шпильрейн.
Троцкий так и сказал про себя: «эта дура» – чувствуя несправедливость сказанного. Но не удержался.
Конечно, она не дура. Даже напротив – слишком умная. Лев Давидович, признаться, самонадеянно ожидал, что она придет в восторг от его предложения. Возможно, не выразит его, но он-то уж увидит, разгадает ее реакцию. Радость и благодарность не скроешь – он без труда прочел бы это в лице собеседницы.
Ну и разгадать-то разгадал. Шпильрейн повела себя вежливо, осторожно и отстраненно. Иначе говоря, не увидела в нем, Троцком, надежного покровителя. А еще иначе говоря, увидела будущего неудачника.
Вот это и зацепило. И больнее, чем можно было представить. И если уж честно смотреть на это все, то следует признать, что обижаться, гневаться на поведение гостьи незачем. Оно всего лишь отражение увиденного. Шпильрейн повела себя совершенно разумно со своей позиции – за что ее винить?..
Дело в себе самом, Лев Давидович, надо за себя взяться, все проанализировать, не спеша, с толком, с расстановкой… Что-то не так, да. Но ничего еще не пропало. Борьба впереди? Так не привыкать! Сколько было этой борьбы, неужели еще не справлюсь? Надо взяться, да, надо взяться…
Так рассуждал председатель Реввоенсовета. И вроде бы все здраво, да не мог он преодолеть какой-то тусклой апатии, овладевшей не только мозгом, но и всем телом. Не хотелось вставать, даже рукой шевельнуть… казалось очень приятным погрузиться в истому, смежить веки…
Медленно, словно нехотя, он двумя пальцами правой руки снял пенсне, закрыл глаза, помассировал веки. Вознамерившись было поразмыслить, он не то, чтобы ни о чем не думал, мысли сами наплывали мягко, волнами. Да и мыслями-то это не назвать, скорее причуды памяти: города и веси, лица, голоса… Умное, живое, жестко-насмешливое лицо Ленина – не нынешнее, конечно, не предсмертная маска безнадежно больного человека, а то, каким оно было в первой половине восемнадцатого, до выстрела Каплан.
Странно! Вдруг Лев Давидович понял: то был самый пик, самый взлет и «Старика» и его самого, самый грозовой воздух Олимпа. Больше такого не будет.
И тут же память нарисовала других: Зиновьева, Каменева, Радека. Эти были тогда с ним, Троцким, обходительны, по-товарищески развязны, но он-то чувствовал их зависть и злобу. Еще бы! Они провели со Стариком столько лет бок о бок, на чужбине были его ближайшими соратниками, друзьями – и вдруг откуда ни возьмись возник прыткий выскочка Троцкий, играючи подвинул их, став почти вровень с вождем… Тогда Троцкий, видя это, посмеивался над оттесненными. Теперь он их понимал – очутившись в их шкуре.
Про Иосифа Сталина не скажешь, правда, что он взялся из ниоткуда. Он был давно. Был, был!.. Всегда чуть позади, во второй шеренге, в тени – собственно, сам как тень, работоспособная, исполнительная, исключительно надежная, которую серьезные игроки никогда не рассматривали как конкурента.
А оно вон как вышло.
Троцкий приоткрыл глаза, поморщился. Взгляд был тяжел, невидящ.
Он упустил миг, когда Сталин из тени превратился в мага. Ну, разумеется, это был не миг… а, да что там! Упустил.
Шпильрейн? Поможет ли она?.. Черт ее знает. Скользкая баба. Ну да ладно, попробуем! Возьмемся за дело, поглядим кто кого! Сталин, значит? Ну… ну да, конечно, Сталин! Он нашел путь к магии стихий, и это изощренным нюхом почуяли ловцы ветра, потянулись к нему.
Не моргая, Троцкий жестко усмехнулся. Какое адское злорадство должно бушевать сейчас в Зиновьеве, главном его ненавистнике, тщеславном позере и интригане! Свою мелкую душонку он готов продать кому угодно, хоть Вельзевулу. Сталина он, разумеется, терпеть не может, но Троцкому нагадить – нет выше счастья. И все ради этого сделает, можно не сомневаться.
– Сволочь… – вполголоса процедил Лев Давидович.
В дверь деликатно, но отчетливо поскреблись – так умел только Познанский.
– Да-да! – громко, уверенно, совсем другим тоном откликнулся Троцкий, надев пенсне.
Секретарь проскользнул в кабинет:
– Снизу докладывают, что прибыли представители из Туркестана…
– Да-да, – твердо повторил Троцкий и энергичным движением оправил френч. – Просите.
Секретарь исчез.
Еще две минуты одиночества. Хорошо!
Лев Давидович пытался взбодриться, оживить так знакомый ему кураж лихой удачи… да нет, что-то не выходило. Нет! Нечего себя обманывать.
Он подошел к оконному проему, отодвинул тяжеленную гардину. Осенний день заволакивало ненастьем, темные облака неровно тащило ветром, комкало, разрывало, в разрывах неожиданно вспыхивала синева небес, но тут же пропадала, небо нездоровой мутью каруселило над огромным городом – и никто не скажет, чем и когда это кончится.
Глава 3
СССР, Ростов-на-Дону, февраль 1939
Свет фар, пройдясь по стенам и окнам, описал полукруг – машина свернула в переулок.
– Стой, – велел шоферу тот, кто с ним рядом.
Мотор смолк. Фары погасли. Трое, сидевших в авто – самой обычной и уже не новой «эмке», молча вслушивались в тьму и тишину.
Место, где остановилась легковушка – не окраина, но полутрущобный район, сложившийся в таком виде еще до революции: в начале века здесь поспешно разрослись дешевые доходные дома с комнатками-клетушками, обещавшие хозяевам зданий быстрый и верный барыш. Селиться в этой массовой застройке пустилась публика непрезентабельная, полукриминальная, а то и прямо преступная; большей частью ее потомки и сейчас населяли этот анклав из обветшавших за тридцать лет двух– и трехэтажных зданий и кишкообразных грязных, захламленных дворов. Наследственно неблагополучная территория, так сказать.
Трое в «эмке» с минуту сидели почти беззвучно, разве что едва различимо было их дыхание. Наконец, тот, что сидел рядом с шофером, полуобернулся:
– Как будто тихо, товарищ капитан, а?
– Коли тихо, так пошли, – весомым баритоном, ближе к басу отозвался с заднего сиденья названный капитаном.
– Да, – сказал первый и велел шоферу: – Встань где-нибудь тут в укромном месте.
– Найду, – кивнул тот.
Пассажиры выбрались из машины.
Все трое были в штатском – сотрудники Управления НКВД Ростовской области. Шофер – рядовой; тот, что был рядом – сержант госбезопасности, а бас-баритон – новый начальник областного управления, назначенный полтора месяца назад. Капитан госбезопасности Виктор Абакумов.
Он и сержант, выйдя из машины, слегка поежились. В Ростове, конечно, сибирских морозов нет, но в фактически приморском городе при нуле и ветре с Таганрогского залива иной раз такая дрожь пробьет, что зуб на зуб не ловится.
Итак, оба невольно поежились, дружно встряхнулись, как бы решительно расставшись с непрочным уютом «эмки». Сырая ночь, зловещие трущобы, собачий не то вой, не то лай где-то вдалеке… Сержант поежился еще раз. Он был в драповом пальто с поднятым воротником, в кепке, глубоко надвинутой на лоб. Капитан – в утепленной кожаной куртке, свободной, не стесняющей движений, в английской зимней каскетке с опускающимися наушниками. И галифе на нем были просторные, почти как шаровары, мягкие высокие шнурованные сапоги – исключительно удобно и комфортно. Повадка опытного оперативника.
– Куда? – кратко спросил он.
– Вон туда, – сержант кивнул на смутно виднеющийся проем между зданиями.
– Ну, идем.
И они пошли туда.
Сержант был крепкий, спортивный парень, но рядом с рослым, корпулентным капитаном смотрелся подростком: тот был очень крупный мужчина, причем при этой массивности двигался он легко, пружинисто, почти изящно. Сержант шел на шаг-два впереди – проем меж стенами соединялся арочными воротами, которые когда-то запирались на замок и обслуживались дворником. Ну, а теперь от всего этого осталась щербатая арка с уродливо торчащими ржавыми уключинами. В нее и вошли чекисты.
Если улица была еще как-то освещена парой тускло горящих окон, то во дворе, ограниченном глухими стенами-брандмауэрами, была тьма-тьмущая.
– Осторожней, товарищ капитан, – полуобернувшись, предупредил впередсмотрящий. – Тут сам черт ногу сломит.
– Черт сломит, мы нет, – буркнул начальник.
– Почему? – глупо брякнул сержант, запоздало спохватился, да слово не воробей: черт, подумает сейчас, что с дураком связался, который без году неделя в органах! Умный-то чекист такую чушь сроду не спросит…
Но шеф совсем не рассердился.
– А потому, – сказал он добродушно-назидательно, – что я один секрет знаю.
Тут сержант по-умному промолчал, а капитан не стал спешить с раскрытием секрета. Какое-то время шли молча, и глаза вроде бы привыкли к темноте, стали что-то различать… Спустя полминуты сержант приостановился, произнес вполголоса:
– Сейчас сюда… – и повернул вправо.
Сюда – это на две ступеньки вниз, в дверь, и узеньким вонючим коридорчиком в соседний двор. Сержант вынул карманный фонарик с цветными светофильтрами, включил синий на пять секунд – ровно для того, чтобы не зацепиться за что-нибудь, не загреметь. Воняло же сушеной рыбой, что ли.
Выходная дверь чуть скрипнула, выпуская чекистов во двор, столь же несуразно узкий, что и первый, зато освещенный: метрах в двадцати слева подвесной фонарь в жестяном колпаке слегка покачивался на проводе, плескал тусклым светом на грязную землю, стены и страшно убогий деревянный пристрой: сарай-не сарай, курятник-не курятник, черт-те что. Туда, влево, и повернули двое.
Жестяная шляпа фонаря подрагивала от судорог ветра, каким-то путем залетавшего сюда, в каменную щель – и колыханье светового пятна придавало мрачным пространствам призрачную видимость жизни. Свет, тень, туда-сюда – как в страшной сказке про оживших мертвецов.
Впрочем, чекистов этим было не пронять. Никакие тонкие струны их души не задребезжали, профессиональный взгляд отметил детали обстановки, и все. Путники приблизились к фонарю…
И вот тут-то у Абакумова засигналило предчувствие чего-то, что осознать он не успел.
Когда они вошли в колеблющийся световой круг, именно в этот миг, не позже, не раньше – пространство ожило по-настоящему.
***
Прямо из тьмы навстречу идущим шагнула рослая фигура.
– Стоять, фраера, – сказала она непередаваемо наглым тоном хамского превосходства.
И сзади Абакумов не услышал, не увидел, а шестым чувством угадал еще чье-то недоброе присутствие. Обернулся – ага, стоят двое в кепках, в ватниках. Быдло, шпана дешевая.
– Не крутись, фраерок! – глумливо хохотнул первый, – никто не поможет! Ни Сталин, ни Ленин с того света. Здесь ихней власти нет. Здесь я власть! Понял?
В отличие от тех двух этот был в неплохо сшитом сером пальто, шелковом кашне, мягкой шляпе – ни дать, ни взять американский гангстер из Чикаго. Насмотрелся где-то в кино, придурок, и думает, что он красавчик… Хотя, и вправду, хорош собой, гаденыш: высокий, статный, тонкое юное лицо, темные брови, белозубый оскал. Девки, должно быть, дурные свои головы теряют, глядя на такого… Да он и сам дурак. Полный и безнадежный. Ну, слишком умные вообще гоп-стопом не промышляют, но и среди таких есть те, кто догадался бы, что этих двух лучше не трогать. Но – совсем нет ума, на базаре не купишь.
Чекисты расположились уступом: капитан сзади и левее сержанта, но практически плечом в плечо. И по едва заметному движению, касанию сержанта Абакумов понял, что напарник сейчас сунет правую руку за пазуху, где у него наверняка оружие.
Стрелять ни в коем случае было нельзя!
Капитан чуть подтолкнул сержанта плечом, и тот все понял. Движенье прекратилось.
Абакумов ухмыльнулся:
– Власть, говоришь? – и осклабился шире: – А ты себя в зеркале видел, перхоть? Нет, ты слыхал: власть он здесь, чмо позорное! Да тебе в сортире дрочить, пока мамка не видит, а ты вздумал по ночам гопничать!..
Капитан говорил все это, испытывая остро нарастающее наслаждение. И говоря, видел, как меняется лицо гангстера, прямо-таки читал по этому лицу отказ мозга воспринимать происходящее. Чтобы жертва так базарила?.. Да нет, ну нет же!
Картина мира треснула.
Парня как-то кинуло сразу и в жар и в холод. Кто эти двое?! Не фраера? Тот сзади, что-то больно здоровый, в самом деле… И страха нет, по рожам видно. До сих пор все, кого бандитская троица брала на гоп-стоп, сразу бледнели, тряслись всеми поджилками – а этим хоть бы хны. Не шелохнулись.
И что делать?..
Мысль заметалась бешено, но впустую, как заяц от волка бегая от другой мысли. Ответка! Надо отвечать! Тут же! Иначе – гроб.
Собственно, этого и добивался Абакумов: загнать главаря в тупик, откуда лишь один выход: бой. В блатном мире законы хоть и неписанные, но стальные. За всякое лишнее слово следует сразу же предъявлять. Не сделал этого – все, ты никто, пыль. А если борзо вякнул не блатной, а фраер, то такого надо жмурить сразу. То есть кончать.
Капитан прекрасно представлял, как закипают сейчас мозги придурка. Понятно, до него доходит, что он не на тех напал, и легкой жизни тут не жди. Но и сдавать нельзя. Никак! Конец всему. Для тех двоих он, их главарь, сразу же превратится в грязь.
– Ну что? – Абакумов прищурился. – Очко сыграло? Штаны пора менять? Ну так иди, мамаша выстирает… Чего встал? Прилип уже говном к земле? Ну, тогда стой, а мы пошли.
Будь обитатель заграничного пальто поумнее, он, возможно, как-то и выкрутился бы. Перевел разговор в режим черного юмора, а когда противники расслабятся – кто знает, может и сработал бы мгновенно – трое против двоих, шансы есть. Но столь сложного проекта разум уличного бандита породить не мог.
– Ты чего, сука?..
Вот на это его хватило. Убийственно-зловещим тоном, годным пугать робких прохожих. Абакумов и отреагировал соответственно:
– Клопов пугай, гнида.
Вроде бы еще что-то хотел добавить к этому пожеланию, но тут неожиданно вышли из столбняка два ассистента, до сих пор стоявшие безмолвными столбами. Сработало, наконец, позднее зажигание.
– Слышь, ты… – грубо заговорил тот, что слева и сделал полшага вперед.
Точнее, не сделал. Не успел. Только шевельнулся. И скрючился от нестерпимой боли, ударившей вспышкой, ослепившей и напрочь отбившей разум. Какой бы ни был, но и тот исчез во взрыве боли и шока.
***
Ведя саркастический разговор с вожаком шайки, Абакумов ухитрялся периферийным зрением держать в зоне внимания и рядовых грабителей. Те совсем туго обалдевали от дерзких слов амбала, в их дремучих головах такая модель поведения тем более существовать не могла – так же как, напротив, в сознании образованного человека нет места чертям, домовым и кикиморам. Представьте себе современного инженера или врача, нос к носу столкнувшегося с самым что ни на есть живым лешим – вот примерно такая же реакция была у этих двух.
Они долго и тупо дозревали до того, что сказка стала былью, и дозрели все-таки. Дошло, что их лидера дерзко запомоили, и они, его кореша, обязаны вписаться за него.
Стоявший левее был из этих двух повыше рангом. Он и открыл рот:
– Слышь, ты…
Капитан Абакумов чутко схватывал все то, что происходит сзади, и достаточно точно представлял, где находятся оба недоумка. Но хриплый голос обозначил ориентир безошибочно.
Резко толкнувшись левой ногой, правым каблуком капитан со страшной силой врезал в колено. В самую точку! Н-на!
Противный треск костей и связок.
– А-а! – вскрик-выдох. Бандита скрючило.
И жесточайший удар локтем в переносицу. Гопника бросило назад.
Другим локтем в челюсть второму, с доворотом корпуса – на! Хруст зубов. Нокаут. Как стоял, так и рухнул сломанной куклой и мягко завалился вбок.
Главарь смотрел на это остановившимся взглядом, совершая бессмысленные глотательные движения.
– Ну что, – жутко осклабился Абакумов, – продолжим?
Тот все смотрел немо и завороженно. Черт знает, что творилось в его башке. Но c тем же заторможенным видом он полез за пазуху, откуда вытащил финский нож с клинком-«щучкой».
– О как, – не удивился капитан. – Фехтование? Ну, попробуем.
Грабителя отчаянно разрывало, до одури, до немоты. Он чуял, что лучший выход сейчас – развернуться и бежать без оглядки, чем дальше, тем лучше. Но дурное самолюбие не позволяло.
Он сделал вялый выпад ножом, примитивный, без финтов, но видно, что этому его кто-то когда-то учил. Конечно, Абакумов легко ушел от тычка, легко перехватил руку, крутанул ее.
–Ап! – подавился собственным всхлипом горе-гангстер.
Рывком капитан развернул нападающего спиной к себе. Тот ощутил, что обе его руки словно угодили в стальные клещи, дернулся, но вышло что-то вроде судороги, лишь шляпа слетела.
– Самое то, – ухмыльнулся Абакумов.
Шестипудовой массой он швырнул противника в кирпичную стену, башкой вперед. Череп врезался в камень со звуком пустой фанерной коробки, а капитан тут же отбросил уже бесчувственное тряпочное тело назад.
Сержант смотрел на это с немым восторгом, как на живое кино. Начальник областного управления, без пяти минут генерал! – так про себя армейцы и НКВД-шники называли чинов от комбрига и выше (в НКВД комбригу равнялся майор госбезопасности) – с такими навыками рукопашной. Вот это да, вот это класс! Вот опер так опер!..
Ползучее восстановление царских воинских званий началось несколько лет назад, правда, подпоручики и поручики при этом превратились в лейтенантов и старших лейтенантов, а генеральские чины официально все еще были под запретом. Но ясно было, что не горами время, когда вернут и их.
– Ну, товарищ капитан… – только и вымолвил его спутник.
– Учись, сержант, – хмуро бросил Абакумов.
Теперь он сам вынул из потайного кармана куртки пистолет – бельгийский «Браунинг хай пауэр», подошел ко второму поверженному, начавшему подавать признаки жизни.
С короткого замаха рукоятью браунинга Абакумов врезал лежащему в челюсть, вновь отправив того в беспамятство. Шагнул к другому лежащему, и тому добавил такого же подарка. И, наконец, шагнул к главарю.
Тот лежал без чувств и без движения, но капитан носком сапога перекинул тело вверх лицом и беспощадно, сокрушительно трижды пробил рукоятью в челюсть, скулу и выше.
– Вот так, – сказал он, распрямившись и брезгливо отряхнув руки. Пистолет уже исчез в недрах одежд. – Ну-ка, давай эту падаль стащим с дороги… А, вон нужник, кажется? Давай туда.
Тела отволокли к сортиру.
– Подохнут на морозе?.. – неуверенно спросил сержант.
– Тебе жалко? – хмыкнул начальник.
– Да ну! – как-то даже испуганно откликнулся подчиненный. – Я к тому, что если что… ну, трупы там…
– Не думай о том. Это мои заботы. Разберусь. Подохнут, так подохнут, а живы останутся, глядишь, умнее станут. Хотя это вряд ли… Ну, идем! Далеко еще?








