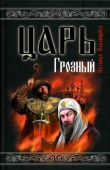Текст книги "За светом идущий"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Глава восьмая
ДЕЛА ДАТСКИЕ
В ту самую пору, когда лукавый колодник Ленька Плещеев изнывал от великой горести и измышлял, как бы ему возвернуться к прежнему безбедному и сытому житию, Иван Патрикеев был призван в Посольский приказ и определен к великому государственному делу. Не заходя домой, завернул дьяк Иван в избу к Тимофею и, хитровато улыбаясь, спросил:
– А ну, Тима, угадай, каких гостей будем мы завтра встречать? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – Едет в Москву датский принц Вальдемар, сын короля Христиануса. Едет он вроде бы простым послом по торговым и иным надобностям, однако ж на самом деле вытребовал его государь для того, чтобы женить на царевне Ирине Михайловне. И того королевича Вальдемара завтра утром надлежит за Москвою, на Поклонной горе, встретить и в избе его быть мне при нем неотлучно для всяких государственных дел.
Месяца три Иван почти не был дома. Вместе с королевичем Вальдемаром поселился он в доме дьяка Посольского приказа Ивана Тарасовича Грамотина в Китай-городе, неподалеку от Кремля.
Вернулся Патрикеев домой только осенью, проводив королевича и всю его свиту, и после того заскучал еще больше. По его словам, пал ему на душу королевич лучше родного сына, и если бы был Вальдемар его государем, то отдал бы за такого государя дьяк Иван тело свое на раздробление.
Весел был королевич, ласков, прост, разумен и лицом и статью так хорош, что лучше дьяк Иван и не видывал: ростом высок, в поясе тонок, глаза серые, волосом рус, в плечах широк.
Но более всего дивился Иван Исакович тому, каков был королевич со слугами. Есть садился за один стол и беседовал с ними, как будто были они ему ровней. Слушал каждого внимательно, и если кто говорил насупротив него, то не шумел и не велел молчать, а после беседы за супротивные слова сердца на слугу не держал.
И слуги королевича, хотя и снимали перед ним шляпы, и даже первый посольский кавалер Григорий Краббе часто перед королевичем перьями своей шляпы пол подметал – так низко кланялся, все же холопами себя не называли, но были королевичу как бы отцу почтительные дети.
Судьба ли улыбнулась Ивану Патрикееву или вспомнил о нем сероглазый датский королевич, только ранней весной 1642 года призвал его в Посольский приказ думный дьяк Федор Федорович Лихачев и велел собираться в дорогу – в дальние заморские края, в стольный град Датского королевства Копенгаген.
Патрикеев уехал в Данию 17 мая. Отправился он в дорогу вместе с окольничим Степаном Матвеевичем Проестевым – великим послом, коему надлежало объявить королю Христиану, что царской дщери Ирине Михайловне приспело время сочетаться законным браком, а великому государю Михаилу Федоровичу доподлинно известно, что есть у его королевского величества добродетельный и высокорожденный сын – королевич Вальдемар Христианусович, граф Шлезвиг-Голштинский. И если его королевское величество захочет быть с великим государем в братской дружбе, то позволил бы он сыну своему государскую дщерь взять к сочетанию законным браком.
Проестев был муж многоопытный, долгие годы исполнявший разные государевы поручения.
Еще в 1613 году подписал он вместе с лучшими людьми Московского царства грамоту об избрании Михаила Федоровича на царство. Затем он был то воеводой, то ведал Земским приказом, то разрешал порубежные споры с литовскими людьми и не раз отъезжал в чужие земли, правя посольскую службу.
Земский приказ передал он в надежные руки – посадил туда стародавнего своего друга Наумова Василия Петровича, а кто с Земским приказом ладил, мог и жить спокойно, и спать крепко – мало какая беда проходила мимо Земского.
Весной 1634 года вместе с князем Львовым подписал Степан Матвеевич с польскими и литовскими людьми вечный мир. И хотя по этому миру за врагами России остались все ранее захваченные русские земли, в том числе и Смоленск – ожерелье царства Московского, государь остался делом доволен: для него важнее всего было то, что король Владислав отказался от притязаний на русский престол. А ведь был король Владислав еще в 1610 году провозглашен русским царем и за четверть века привык к этому титулу не менее, чем к другим, кои носил по праву рождения.
И потому по возвращении в Москву был Степан Матвеевич царской милостью взыскан деревеньками, землицей, холопишками, а также взыскан шубой собольей на атласном подбое да немалыми деньгами.
Совсем вошел в силу Степан Матвеевич, когда на следующий год привез в Москву прах Василия Ивановича Шуйского, скончавшегося в Гостынском замке под Варшавой еще в 1612 году. За это многотрудное, ловко исполненное предприятие был он пожалован окольничим и иными многими милостями.
Потом были разные другие посольские дела, и все они искусно разрешались новоиспеченным окольничим. А теперь и сватовство царевны поручено было многоопытному Степану Матвеевичу. А чтоб новое царское дело свершилось так, как угодно было государю, давано было послам пять сороков соболей да денег, да иной рухляди сколь потребно.
Незадолго до отъезда, перед самым концом великого поста, Иван Исакович позвал Проестева в гости. Несмотря на то что ни птицы, ни говядины, ни дичи лесной подавать к столу было нельзя, обед был из двенадцати перемен. Одних пирогов было полдюжины: с сигом, с осетром, с грибами, с визигой, с капустой, с морошкой в сахаре. Наливкам и настойкам не было числа. И что из того, что нельзя было вкушать молочное? Его и не в постные дни мало кто, кроме баб да ребятишек, вкушал.
За обедом, расслабив кушак, и более, чем от вина, хмелея от почета и ласки, ударился окольничий в рассказы о прошлом. Едва ли не самым приятным было для Степана Матвеевича воспоминание о том, как вывез он из Польши прах царя Шуйского, брата его Димитрия, да жены Димитрия – Христины.
– А как поехали мы в Варшаву, то был нам даден наказ мертвые тела всех трех Шуйских выпросить у короля непременно. И если запросят денег, то дать хотя бы и десять тысяч рублей, а попросят более того – то и сверх того прибавить, смотря по мере.
И было то дело трудное, ибо канцлер коронный Якоб Жадик и пан Александр Гонсевский нам, государевым послам, говаривали: «Отдать тело царя Шуйского никак не годится. Мы славу себе учинили вековую тем, что московский царь и сородичи его лежат у нас, в Польше».
Однако, когда я посулил канцлеру десять сороков соболей, дело сладилось. Королевские зодчие, кои следили за каменной каплицей, где погребены были Шуйские, достали все три гроба из подпола и отдали нам честно. Король прислал атлас золотный, да золотные же кружева кованые, да серебряные гвозди, да бархат зеленый. И когда проехали мы село Ездовы, то у Варшавского посада встречали нас, послов, стольники и иные многие люди с великой честью. А уж как въезжали мы в Москву, того я и на смертном одре не забуду.
Проестев прослезился, атласным рукавом смахнул слезу.
– За то тебя, Степан Матвеевич, великий государь и окольничеством пожаловал, – ввернул словцо хозяин дома.
– Пожаловал, – с важностью подтвердил Проестев. – Дай бог ему, государю, многих лет да доброго здравия.
– Дай бог, дай бог, – тотчас же откликнулись все сидевшие в застолье.
Проестев встал, повернувшись к образам, широко перекрестился. Встали и все другие, также истово осеняя себя крестным знамением.
В конце обеда, когда окольничий вконец опьянел и в который уж раз пытался поцеловать хлебосольного хозяина, Тимоша спросил:
– А правда ли, господине Степан Матвеевич, будто у царя Василия Ивановича в Польской земле народился сын и того царского сына паны-рада от народа прячут для некоего умышления?
Проестев, пьяно улыбаясь, приложил палец к губам:
– Т-с-с, вьюнош. Тайна сия велика есть. Слышал и я такое, да никому не говорил. – Проестев замолчал, уронив голову на руки. – А потому не говорил, что боюсь. И ты бойся, а то быть тебе на дыбе.
Проестев и Патрикеев, возвратившись в Москву, не успели и в бане помыться, как объявились у них во дворах малые служилые люди с наказом идти обоим в Посольский приказ.
…Поправив очки, думный дьяк Федор Федорович Лихачев вычитывал Патрикееву и Проестеву:
– «А то наше великое государево дело делал ты, Степка Проестев, и ты, Ивашка Патрикеев, не по нашему государеву наказу. Вам, холопишкам нашим, указано было ради того нашего дела радеть и промышлять всякими мерами, уговаривать и дарить кого надобно, а вы, Степка да Ивашка, услышавши первый отказ от королевских думных людей, с нами не обославшись, из Датской земли уехали. А вам, холопишкам нашим, для нашего государева дела казны и соболей было давано довольно. А вы, Степка да Ивашка, ту казну и соболей раздавали для своей чести, а не для нашего дела.
С ближними королевскими людьми о деле нашем говорили самыми короткими словами, что вам никак не пристало, многих самых надобных дел не говорили и ближним королевским людям во многих статьях были безответны. И за то, что вы, Степка да Ивашка, дела нашего в Датской земле не делали и казну нашу государскую и рухлядь мягкую раздавали бездельно, мы, царь, государь и великий князь…» – Лихачев строго посмотрел сквозь очки, быстро пробормотал: – Ну, тут дальше титул. – И продолжал: – «…наложили на вас нашу опалу и нашим государевым людям велели взыскать на вас, Степке и Ивашке, протори и убытки, что вашим нерадением в Датской земле нам учинены».
Лихачев бумагу отложил на сторону и совсем иным тоном – свои люди перед ним сидели – произнес:
– Совет мой тебе, Степан Матвеевич, и тебе, Иван Исакович, две тысячи рублей, кои ищет на вас великий государь, сегодня же в его государеву казну самим внести. А кою кому часть взносить, то вы сами промеж себя порешите.
Проестев спросил робко:
– А на ком ином протори взыскивали, то каков рез первый посол платил и каков – второй?
– Разно бывало, Степан Матвеевич. Платили те протори по их достаткам и по тому, сколько кто напрасно чего стратил.
– А нам как быть? – спросил Патрикеев. – Ты скажи нам, Федор Федорович. Человек ты разумный, честность твоя всем ведома, как скажешь – так и будет.
– А ты согласен, Степан Матвеевич? – спросил осторожно Лихачев.
– Согласен, – неуверенно ответил Проестев – чувствовал, что большую часть платить придется ему.
– Делим мы по государеву жалованью, – ответил Лихачев. – Ты, Степан Матвеевич, получал жалованья в два раза больше, чем Иван Исакович. Стало быть, и платить тебе две трети долга, а ему треть.
Проестев вздохнул, сказал раздумчиво:
– В иные годы был я великим государем взыскан и обласкан много. Теперь же по грехам моим наложил на меня государь опалу. И я государю вину свою приношу, и что ты, Федор Федорович, сказал, то сегодня же сполню.
Проестев встал и, не дожидаясь Патрикеева, вышел.
А Иван Исакович остался сидеть недвижно: не было у него шестисот шестидесяти рублей и где их взять – он не знал.
С превеликим трудом собрал дьяк Иван со знакомых и родни триста тридцать рублей – половину того, что было нужно. Сто рублей взял для него в долг друг его Тимофей Анкудинов у известного всей Москве ростовщика Кузьмы Хватова.
На третий день явились к Патрикееву на двор подьячий, двое ярыг, сотский да мужики с телегами. И вывезли чуть ли не все, что было у Ивана Исаковича. Причем ценил домашний скарб подьячий нечестно: что стоило рубль, за то едва-едва давал полтину, все хорошее забирал, оставляя старье да рвань.
Жена Ивана Исаковича плакала, пробовала усовестить бесстыжего, но напрасно. Дьяк Иван на жену прикрикнул – велел идти вон. А сам плюнул, надел шапку и – чего никогда не бывало – пошел в кабак, забрав с собой и Тимошу.
В кабаке – на чистой половине – сели Тимофей да Иван Исакович одни, без послухов. Выпили по первой.
– Вот мне и плата за службу мою, – сказал Иван Исакович и заплакал.
Тимоша, обняв опального дьяка за плечо, проговорил утешительно:
– Та беда – не беда, отец мой и благодетель Иван Исакович.
– Да уж чего может быть хуже – хоть по миру с сумой иди.
– Главное, Иван Исакович, голова цела, а ей цены нет. Будет голова на плечах – снова все наживешь, лучше прежнего жить станешь.
Патрикеев краем рукава смахнул слезы.
– Выпьем, Тимофей Демьяныч, за удачу.
Тимоша поднял кружку, однако пригубить вина не успел – в комнату вошел сморщенный, ростом в два аршина старичишка-ярыжка из Земского приказа, хорошо знакомый и Тимоше, и Патрикееву. Поклонился низко, подошел к самому столу, зашептал сторожко:
– Ведомо мне, Иван Исакович, от верных людей – привезли нынче утром из Сибири в Разрядный приказ бывого вологодского воеводу, а ныне колодника – Леньку Плещеева. И тот колодник доводит на тебя, Тимофей. Говорил-де ты ему, Плещееву, что ты, Тимофей, царю Василию Ивановичу Шуйскому – внук и Московского государства престол держат ныне мимо тебя неправдою. А те-де твои слова может подтвердить Новой же Четверти подьячий Костка Евдокимов, конюхов сын, при коем ты-де не раз сие говаривал.
– Неправда это! Оговор и великие враки! – вскрикнул Тимоша.
– А я, голубь, и не говорю, что правда. Я тебе, голубь, то довожу, что услышать довелось, – тихо и ласково проговорил ярыга.
– А буде станет Костка на правеже запираться, то привезут из Вологды иных видоков и послухов.
– Спаси те бог, дедушка, – проговорил Тимоша и протянул ярыге рубль.
– Дешево голову свою ценишь, голубь, – так же тихо и ласково проговорил ярыга и сел на лавку.
Тимоша бросил на стол еще три рубля. Старикашка брезгливо смел их со стола, будто объедки голой рукой снимал. Не прощаясь и не кланяясь, нахлобучил рваную шапчонку и шастнул за порог.
Иван Исакович, сощурив глаза, молчал. Затем проговорил раздумчиво:
– Перво Костю упреди. А после того не позже завтрашнего утра вместе с Костей беги, Тимофей, за рубеж. Иного пути у тебя нет. А чтоб Кузьма Хватов с тебя сто рублей не взыскал, сожги избу. С погорельца долга ростовщику нет. Да и жена за мужа не ответчица.
«Ах, ловок Иван Исакович», – подумал Тимоша и, обняв друга за плечи, сказал жарко:
– Век тебе этого не забуду, Иван Исакович.
Глава девятая
РОЗЫСК
Решеточный приказчик Овсей Ручьев издали заметил лошадь, запряженную в телегу. На телеге же увидел Овсей домашний скарб да бабу с двумя малолетками. Выехала лошадь из проулка, что упирался в Варварку. Рядом с телегой шагали два дюжих мужика. Светало. Блекли звезды. Повозка тяжело прогрохотала по бревенчатому настилу Варварки и свернула вниз к Москве-реке, скрывшись за беспорядочно стоявшими избами.
«Ни свет ни заря», – подумал Овсей и пошел дальше, негромко постукивая по доске и вполголоса покрикивая: «Слушай!»
Тихо было вокруг и безлюдно. Не будили спящих петухи, не брехали собаки. И только ночные сторожа с разных сторон выкрикивали свое: «Слушай!»
Вдруг Овсей учуял слабый треск и вслед за тем увидел высокий желтый всполох огня, взметнувшийся над одной из изб. Это было столь неожиданно, что он вначале подумал: «Привиделось, что ли?» Но тотчас же над крышей вновь взлетели языки пламени. На этот раз уже два – желтый и красный. Тихо постояли в недвижном воздухе, а потом сплелись друг с другом и метнулись над крышей, будто молодайка в новом сарафане в пляс пошла.
Тут-то Овсей и ударил в доску изо всей мочи и, не помня себя, заорал:
– Караул! Горим!
Что было потом, помнил он плохо. Бежали какие-то люди, неодетые, сонные. Простоволосые бабы в исподних холщовых рубахах передавали по цепочке ведра от двух ближних колодезей. Мужики с баграми метались вокруг горящей избы, как черти в аду возле грешника, норовя покрепче зацепиться крюком да посильнее дернуть. Другие мужики окатывали водой соседние избы, валили заборы, чтобы огонь по доскам не перебежал в соседние дворы.

Когда изба рухнула и огонь лениво заплескался на куче обгорелых бревен и досок, появился объезжий голова Митяй Коростин.
– Кто видел, как изба занялась? – спрашивал Митяй грозно, но видоков не оказывалось: отговаривались тем, что спали и выбежали на пожар после многих других.
Пришлось говорить Овсею, упирая на то, что, если бы не спохватился он, Овсей, выгорела бы вся улица.
Спрошенные Митяем соседи погорельца ответствовали одно и то же: жил-де в избе, что ныне сгорела, Тимошка Демьянов сын Анкудинов, Приказа Новой Четверти подьячий, с женкой своей Наташкой да с двумя малолетками, Ванькой да Глашкой. А отчего изба загорелась, того-де они, соседи, не ведают.
Объезжий голова соседских мужиков по избам не отпустил. Велел горелые бревна по одному раскатать, водой пепелище залить и после того всем сказал приходить в Земский приказ к думному дворянину Никите Наумовичу Беглецову. А Овсею наказал быть в том приказе ранее других, ибо с него, Овсея, начнут государевы служилые люди розыск: как на Варварке в ночь на 22 июня 7151 года учинился пожар и кто в том пожаре виновен?
После этого и Овсей, и Митяй, и мужики разошлись по домам. На душе у всех скребли кошки. Одно было ладно: что не сгорел никто, – по бревнышку раскатали избу, сгоревших, слава богу, не оказалось.
Думный дворянин Никита Наумович Беглецов проснулся от шума. Шум был невелик: за дверью опочивальни негромко спорили двое. Беглецов сразу же узнал голос одного из спорящих – холопа своего Петрушки, голос второго был также ему знаком, однако вспомнить, кто это, Никита Наумович не смог.
– Спит еще Никита Наумович, – говорил холоп.
– Нешто я не понимаю, известно: вся Москва еще спит. Да я потому и приехал, что дело у меня безотложное, скорое дело.
– Погоди немного, он и проснется.
– Да никак не могу я ждать, пойми, пожалуй, Пётра.
– И ты, пожалуй, пойми: не могу я тебя к Никите Наумовичу допустить.
Беглецов вздохнул, сполз с пуховика, надел на шею четки янтарные литовские, натянул халат бухарский, ватный, кизилбашские туфли юфтяные и вышел из опочивальни.
С Петрушкой спорил Коростин Митяй – объезжий голова с Варварки. Беглецов поджал губы, сморщился недовольно. Митяй, увидев хозяина, шагнул навстречу, забыв поздороваться, проговорил быстро:
– Беда, Никита Наумович. На Варварке изба сгорела. Новой Четверти подьячего Анкудинова Тимофея Демьянова.
– Одна изба? – быстро спросил Беглецов, еще не понимая, что заставило Коростина заявиться к нему домой чуть ли не среди ночи.
– Изба-то одна, да хозяин ее не простой человек. Я и подумал: не грех бы мне тебя, Никита Наумович, упредить.
– А я чаю, уж не улица ли сгорела?
– Слава богу, одна изба, и люди все живы, Никита Наумович. Я на пожар поспел, пепелище велел водой залить, оглядел все со тщанием – никто не погиб, и соседние дома все целы. И послухам велел быть в приказе с утра – вдруг занадобятся?
– Ладно, Митяй, ступай. Будешь надобен, пошлю за тобой. Да узнай про то, где теперь Анкудинов Тимофей, и, узнав, о пожаре его расспроси.
Досыпать Беглецов не стал. Постоял у окна, подумал, сказал про себя: «Ай да Митяй, умная голова, спасибо, что упредил». И, возвратившись в спальню, стал быстро одеваться – сердцем чуял: надо было не мешкая известить о случившемся начальника Земского приказа, думного же дворянина Наумова Василия Петровича.
Василий Петрович Наумов сидел в Земском девятый год. Из них семь лет вместе с Никитой Беглецовым. Служба в Земском приказе была не в пример другим службам тягостнее и беспокойнее. Ведал сей приказ всей Москвой, и, что бы где в столице ни случилось – татьба ли, разбой ли, пожар ли, или иное какое лихо, – за все про все перед государем был в ответе Земский приказ. Кроме того, с московских тяглых людишек должны были приказные люди исправно взимать налоги и по всем тяжбам вершить суд, а буде надо – и расправу.
Однако бог лес не уравнял, а паче того – человеков. И потому каждое дело надо было вершить с умом и с оглядкой. Мешкать было нельзя, а уж спешить – тем более. Паче же всего следовало оберегаться поступков и решений, кои по судейскому недомыслию могли задеть людей сильных и родовитых. И потому редко когда государевы думные дворяне или дьяки какое-либо важное дело решали враз и единолично; мужики и посадские худые людишки в сей счет не шли – их делишки решал любой подьячий.
В то утро, 22 июня 1643 года от рождества Христова, Василий Петрович стоял в моленной, поверяя себя господу. Тихо и благолепно было на душе у Василия Петровича, когда вышел он из моленной в горницу и увидел сидящего у окна Никиту Наумовича.
«Да, в Земском служить – не в Панихидном», – подумал Василий Петрович, догадавшись, что какие-то неприятные дела привели в неурочный час его помощника.
Беглецов встал, отвесил низкий поклон, коснувшись рукой пола. Наумов вопросительно на Беглецова глядел, ждал.
– Дело к тебе, Василий Петрович.
– Говори.
– Тимофея Демьянова Анкудинова изба сгорела.
– Это разноглазый такой из Новой Четверти?
– Он, Василий Петрович.
– Жена его Патрикеева Глеба Исаковича дочь?
– Так, Василий Петрович, все истинно. Митяй Коростин на пожаре был, все сделал гораздо. При пожаре никого в избе не было, то и дивно. Изба пуста – и вдруг под утро как бы сама по себе горит, – продолжил Беглецов.
– Почему думаешь – сама по себе?
– Решеточный приказчик Овсей Ручьев видел, как первый сполох из избы над крышей взлетел. Коли бы ее кто снаружи поджигал, не так бы она занялась.
– А зачем Тимофею свою избу жечь?
– То и надобно сведать, Василий Петрович.
Наумов задумался. Постучал пальцами по краю стола.
– То ты добре сделал, Никита Наумович, что дело это до меня довел. Тут хорошо подумать надобно. Помню я, как приехал Анкудинов на Москву, жил он немалое время у Ивана Исаковича Патрикеева. А Патрикеев, сам знаешь, благодетелю нашему Степану Матвеевичу Проестеву первый друг. Так что дело это надо делать без всякой зацепки. А про Тимошку нынче же узнай все доподлинно: где он сам, где женка его с детишками и отчего изба его загорелась?
По дороге в приказ Беглецов прикинул, с чего начнет розыск. Приехав, он первым делом призвал к себе Никодима Пупышева – старого ярыгу, великого мастера по сыску обретавшихся в нетях людишек.
Никодим пожевал беззубым ртом, поглядел в потолок, молча нахлобучил шапку и неспешно вышел.
Вернулся Никодим к полудню с заплаканной молодой бабой. Оставил ее на дворе, строго наказав его дожидаться, а сам нырнул в приказную избу.
– Привел, Никита Наумович.
– Тимошку?
– Женку его, Наталью.
– А Тимошка где?
– Того она не ведает.
– А ну, веди женку ко мне.
Наталья Анкудинова, молодая, круглолицая баба, с лицом, опухшим от слез, войдя, испуганно покосилась на Беглецова и, не ожидая вопросов, с порога заголосила:
– И ничегошеньки-то я не знаю, ничего не ведаю! И чего он ко мне пристал? Хоть бы ты, господине, велел ему отстать от меня!
Беглецов молча глядел на Наталью, которая причитала не умолкая.
– Ты чья будешь, красавица? – спросил Беглецов тихо и ласково.
Наталья мгновенно замолкла, недоверчиво глядя на Беглецова.
– Анкудинова я, Наталья, – проговорила она робко.
– Садись, Наталья. В ногах правды нет.
Наталья присела на краешек скамьи. Страх понемногу отпускал ее, и она чувствовала, что от сидящего перед нею начального человека не надо ей ждать никакого зла.
– Позвал я тебя, красавица, горю твоему помочь. – Беглецов ласково на Наталью поглядел, поиграл четками. – Знаешь, поди, что лихие люди избу твою нынче в ночь спалили?
Беглецов внимательно посмотрел на молодуху. Та глаза отвела, снова дурашливо запричитала:
– Знать ничего не знаю, ведать не ведаю!
– Да ты погодь. Нешто не знаешь, что избу твою пожгли?
– Не знаю, боярин, не ведаю.
– И ярыга мой того тебе не говорил?
– Ничего я не знаю, не ведаю!
– Ну, а муж твой, Тимофей Анкудинов, где ныне обретается?
– И того я тоже не знаю.
– Значит, ничего не знаешь? Ну, а как ты с детишками у Ивана Пескова оказалась – тоже не ведаешь?
Наталья замолкла, снова отвела глаза в сторону.
Беглецов понял: зацепился точно. Сидел, ждал, лениво перебирая четки.
– Ну, так как же ты к Ивану Пескову с детишками попала?
Наталья молчала.
– Али мне Ивана Пескова об том спросить?
Наталья заплакала.
Беглецов ждал.
– Ничего-то я не знаю, – неуверенно затянула она.
– Ну, вот что, баба, – вдруг, сильно стукнув рукой по столу, сухо и зло проговорил Беглецов, – плакать дома будешь, а здесь слезам не верят. Или ты мне тотчас скажешь, кто тебя к Пескову привел, или не я буду с тобой разговаривать, а кнутобойцы в пыточной избе.
Наталья от страха побелела. Откуда было ей знать, что Беглецов просто-напросто пугает ее? Не помня себя, Наталья заговорила:
– Не гневись, боярин, на меня, глупую. Со страху забыла я все. Привез меня к Ивану муж мой, Тимофей.
– А когда привез?
– Нынче под утро и привез.
– А зачем ему было ночью тебя с ребятишками из своей избы в чужую возить?
Наталья хотела было снова сказать заведенное – «не знаю», но, взглянув на Беглецова, тотчас же передумала.
– Сказал он мне, что буду я с детишками у Ивана жить. А он с Москвы вместе с Косткой, товарищем своим, вон пойдет. И они нас на телегу усадили и к Ивану свезли. А боле я, боярин, вот те крест святой, – Наталья встала, истово перекрестилась на образа, – ничего не знаю.
– Что, много муж твой задолжал? – спросил вроде бы невзначай Беглецов.
– И этого я, боярин, не знаю, – ответила Наталья и заплакала.
Беглецов поглядел на нее печально.
– Иди с богом. Будешь надобна – призову.
Отпустив Наталью, Беглецов прошел в соседний покой к Наумову.
– Худо дело, Василий Петрович.
– С Анкудиновым, что ль?
– С ним.
– Ну, говори.
– Тимошка с Косткой Конюховым, Новой же Четверти подьячим, женку Тимошкину и детишек ночью свезли к Ивашке Пескову. После того изба Тимошки загорелась. А сами они, Тимошка и Костка, из Москвы побегли вон.
Предвосхищая вопросы Наумова, Беглецов пояснил:
– И Тимошка, и Костка задолжали в Москве немалые деньги. А чтобы те долги не платить, чаю я, Тимошка избенку свою подпалил: чего де с погорельцев возьмешь, тем паче, что баба бездомная за беглого мужика безответна.
Наумов глядел куда-то вбок, вроде и не слушал.
Беглецов, помолчав, спросил:
– Али я не то говорю, Василий Петрович?
– Может, то, а может, и не то.
– Скажи, Василий Петрович, не томи.
– Твоя правда, Никита Наумович, еще не вся правда, а может, половина или же четверть. А правда в том, что Леньку Плещеева, бывого вологодского воеводу, из Сибири обратно в Москву привезли.
Узнав, с каким делом привезли в Москву Леонтия Плещеева, Беглецов мгновенно понял, что теперь дело Анкудинова принимает совсем иной оборот, и потому решил бумаги по начатому розыску составлять сам. Пригрозив пыткой, он еще раз допросил Наталью Анкудинову, выспросил, что мог, у Ивана Пескова, записал речи соседей Тимофея и пищиков с подьячим, что сидели с Конюховым и Анкудиновым в Кабацком приказе. И после великого и многотрудного розыска вышло так: Новой Четверти подьячие Тимошка Анкудинов да Костка Конюхов воровским обычаем затягались со многими людьми и ночью, украв из казны сто рублей, чтобы замести следы, подожгли избу и тем же воровским, изменным обычаем бежали из Москвы неведомо куда.
Полностью отводя от себя возможные упреки в нерадении и попустительстве, Беглецов отправил отписку в Сыскной приказ, чтобы на заставы посланы были листы, а в тех листах были бы описаны приметы воров, и буде божиим соизволением попадут те воры в руки властей, то, оковав железом, послать воров в Москву, в Разрядный приказ, за крепким караулом.