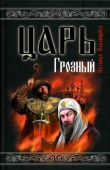Текст книги "За светом идущий"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Анкудинов, сжав кулаки, молча слушал. Пытался понять: что задумал Хмельницкий? Откуда свалилась на него эта напасть?
Раздув от бешенства ноздри, спросил хрипло:
– Что же, пан гетман мне и письма не послал?
– Не послал, пан князь. Велел все на словах передать.
Тимофей молчал. Сощурив глаза, думал.
– Вот что, Кононенко. Супротив воли гетмана я не пойду. Однако ж и гостей моих попрошу тебя не трогать. Подожди пять дней, а я за то время с Богданом Михайловичем обошлюсь и доведаюсь, почему он гостей моих с Украины велит вон высылать?
Кононенко несогласно покрутил головою.
– Ждать мне, пан князь, не велено. А сказано – не мешкая вывозить псковских людей к русскому рубежу.
Молчавшие до того псковичи загомонили.
– Мы вольные люди, есаул, и неволить нас ни вам, черкасам, ни царскому воеводе Ивашке Хованскому не дозволим! – воскликнул один.
– Какая же меж вами и царскими холуями разница, ежели вы супротив нас, вольных людей, заодно с боярами идете? – выкрикнул второй.
– Я того не ведаю. То дело государственное, – проговорил Кононенко.
– Быстро на вас пан гетман ярмо надел! – презрительно промолвил третий пскович.
– Ты гетмана не замай! – заорал вдруг есаул. – Гетман туда глядит, куда ни одному из вас за всю жизнь не доглядеть! Выходите за порог немедля! И не вздумайте какого баловства чинить или же хитрости!
Есаул крутанулся на каблуках и вылетел в дверь со звоном и топотом.
Тимофей сказал примирительно:
– Господа послы! Надобно воле гетмана покориться. Придется вам уехать восвояси. А я завтра же утром отправлюсь к гетману и все доподлинно узнаю. А узнав, пошлю к вам весть, можно ли мне быть во Пскове.
Псковичи встали. Враз склонили кудлатые белокурые головы. Молча, один за другим, вышли из кельи вон.
Тимоша за порог не пошел – не хотел смотреть, как гостей его, окружив конной стражей, поведут казаки за монастырские ворота. Сказал только Косте:
– Поди вместе с ними до того места, где кони их стоят, и попрощайся с ними сердечно.
Иван Евстафьевич Выговской встретил Тимошу как родного сына: не знал, в какой угол посадить, не знал, чем потчевать, какие ласковые слова сказать.
Притворив дверь плотно, сел рядом, сказал тихо, душевно:
– Дурит хозяин. Хочет меж двух стульев сидеть. С королем воевать без московской помощи не решается. Думает, царь ему поможет. А объявись ты во Пскове, царь ни денег, ни пороха, ни пищалей гетману не даст.
– Вот оно что! – выдохнул Тимоша.
– А ты как думал! – воскликнул Выговской. – Я же, напротив, всяко гетмана уговаривал: «Пусти-де Иван Васильича во Псков. Царь, его испугавшись, с Яном Казимиром помирится, и нам с королем воевать не придется». А гетман взъярился, кричит: «Тебе лишь бы с королем не воевать! И того ради ты готов меня со всем светом перессорить! Не бывать тому!» И тут же велел Кононенко уехать в Лубны и псковичей тех до московского рубежа допровадить. А тебя, – тут Выговской наклонился совсем близко к уху Тимоши, – велел стеречь пуще глаза. Так что теперь будешь ты от лихих людей безопасен, но и воли прежней у тебя не будет.
– И долго ли буду я под стражей у гетмана?
Выговской печально повел очами, пожал плечами. Сказал задушевно:
– Имей на меня надежду, князь Иван Васильевич. Буду стараться, сколь могу, чтобы было все по твоей воле. Да господь свидетель, не все пока что могу.
Между тем Петр Данилович Протасьев и Григорий Карпович Богданов с великой мешкотой, бесчестьем и задержанием через три недели добрались до Киева. Здесь они узнали, что ни гетмана, ни воеводы в городе нет, куда уехал польский пристав Юрий Немирич, никто не знал, коронные чиновники говорить с ними о чем-либо отказывались, на все отвечали неведением и ни гонцов, ни денег, ни подвод не давали.
В конце концов киевский митрополит Сильвестр на свой страх и риск, делая вид, что не знает о приказе Киселя не помогать гонцам, дал Протасьеву две подводы и пятьдесят рублей. Пристава поехали в Чигирин, но, когда, наконец, оказались они в резиденции гетмана, их и там ожидало горькое разочарование – Хмельницкий во главе большого войска отправился к границам Валахии.
Пристава кинулись вслед и, претерпевая великие опасности от многочисленных конных шаек, рыскавших между Днепром и Бугом, наехали, наконец, на гетмана в городе Ямполе на Днестре.
Хмельницкий принял приставов сухо. Он сказал им, что давно уже ничего об Анкудинове не слышал и где он теперь – не знает.
– Дело ныне военное, – сказал гетман, – и мне с вами, панове, размовляться некогда. Да и вам при войске быть невместно. Поезжайте-ка вы обратно.
Протасьев бухнулся гетману в ноги, заголосил по-бабьи:
– Пан гетман! Не губи ты наши души, не отдавай нас на растерзание! Как предстану перед государем без вора? Что скажу его пресветлому величеству? Не смогу я молвить, что ты, пан гетман, просьбы его не уважил, православному русскому царю худородного подьячишку не выдал и любовь государскую на воришку сменял.
Хмельницкий задумался.
– Ладно, Петр Данилович. Велю написать универсал, чтоб человека того, что называет себя князем Шуйским, выдали вам ради любви моей и приятельства к Алексею Михайловичу, пресветлому российскому государю, а ехать вам сейчас, пожалуй, и правда не след. А ну как попадете в полон к татарам, тогда уж не князя Шуйского, а вас самих придется Алексею Михайловичу добывать.
Протасьев робко спросил:
– Что же делать повелишь, пан гетман?
– Оставайтесь пока при войске, а как я назад в Чигирин пойду, то и вы вместе со мною безо всякой опаски возвернетесь.
– Мешкотно это и тебе и нам, пан гетман, – тихо возразил Протасьев.
Хмельницкий посуровел:
– Недосуг мне с вами, паны-пристава, язык чесать, не в застолье мы с вами – на войне. Как сказал, так и будет.
Пристава, поклонившись, огорченные пошли вон.
Протасьев у двери спросил:
– А у кого нам тот универсал выправлять?
– О том я скажу писарю в моей канцелярии, – буркнул гетман недовольно.
Оказавшись за дверью, пристава только руками развели – вроде и добились своего, да только универсал еще не написан и когда запорожское войско назад пойдет – ведают лишь господь бог да пан гетман.
Протасьев и Богданов возвратились в Киев только осенью.
Верные люди, что завсегда держали руку московского царя, довели им, что двое путивльских купцов – Марк Антонов и Борис Салтанов – давно уже обнаружили воров. На ярмарке в Миргороде узнали купцы о ворах, тайно проживающих во Мгарском монастыре, и, узнав, тотчас же отписали об этом путивльскому воеводе князю Прозоровскому.
А тот наборзе послал в Москву гонца и через две недели получил от государя указ отправить в Лубны дьяка Тимофея Мосалитинова.
Хотя Василий Яковлевич Унковский ехал изрядно поспешая, гонец все же обогнал его, и первым в Лубны приехал не он, а дьяк Мосалитинов.
Путивльский воевода Семен Васильевич Прозоровский имел весьма дурной нрав, и служилым людям ходить под его началом было ох как трудно.
Дьяк Мосалитинов, хотя и был у Прозоровского правой рукой, характер князя едва переносил и мечтал поелику возможно скоро от службы в Путивле избавиться. Поэтому, когда пришло от царя повеление привезти в Москву из Мгарского монастыря вора Тимошку Анкудинова, Мосалитинов решил: вот она, его судьба, его путеводная звезда. Выполнит он царский наказ – и быть ему в Москве, в каком-либо приказе или избе, а может статься, и возле самого государя.
И потому, приехав в Лубны, он упросил игумена Самуила разрешить ему повидаться с человеком, именующим себя князем Шуйским и живущим в его – игумена Самуила – монастыре.
Анкудинов, узнав о приезде путивльского дьяка, решил, что лучше всего будет сразу же встретиться с ним и затем как можно дольше водить Мосалитинова за нос, не говоря ему ничего определенного. А вместе с тем в разговорах с ним исподволь выведывать, какие же козни готовит ему царь?
Допустив дьяка к себе в келью, Тимоша стал спрашивать:
– По государеву ли указу ты приехал? Не с замыслом ли каким? Нет ли у тебя подводных людей? Не будет ли мне от тебя какого убийства?
Мосалитинов, крестясь на образа, целуя святое Евангелие и божась страшными клятвами, говорил:
– Господине, Тимофей Демьянович, спасением души и жизнями детишек моих клянусь, что никакого дурна тебе от меня не учинится.
Тимофей, сидя на лавке и поигрывая концами кушака, спрашивал дьяка и вдругорядь и в третий раз. И дьяк все время говорил одно и то же, всякий раз находя новые клятвы и дивясь собственному красноречию.
Анкудинов сказал, наконец:
– Завтра приходи ко мне обедать, дьяк Тимофей. Дело твое не простое, сразу его не решишь.
Мосалитинов униженно кланялся, благодарил за честь, сам же думал: «Ну, доедем мы с тобой до Путивля, там ты у меня по-другому запоешь».
Прошел обед, а за ним – второй, в избе у дьяка. Тимоша явился на обед к Мосалитинову сам-сем – шесть человек с саблями и пистолями были при нем, и сам есаул Тарас Кононенко среди них. Однако и на этот раз ехать в Путивль Анкудинов отказался: потребовал привезти ему из Москвы охранную царскую грамоту на имя князя Ивана Васильевича Шуйского.
Мосалитинов чуть не заплакал, услышав новую воровскую хитрость. Однако делать было нечего, и дьяк, пообещав такую грамоту привезти, отъехал на следующий день в Путивль.
Меж тем 13 сентября 1650 года у самого литовского рубежа посла Унковского догнал еще один гонец и повелел, не заезжая в Чигирин, направляться в Лубны.
Унковский свернул на Ромны и через Лохвицу добрался до монастыря. Но вора в монастыре не оказалось: уехал неизвестно куда. И посол, расспросив братию и игумена о худородном подьячишке Тимошке и товарище его – конюховом сыне Костке, поехал в Чигирин.
1 октября посла встретил генеральный писарь Запорожского Войска Иван Выговской, правивший всеми делами в отсутствие гетмана, который все еще был с войском у волошских границ. Выговской разместил посольство и, сославшись на то, что переговоры может вести только гетман, попросил Унковского дождаться возвращения Хмельницкого.
Унковский тайно спросил доверенных людей, державших сторону российского государя, и те люди сказали ему, что есть здесь некий мещанин, по фамилии Левко. И тот мещанин, сказали Унковскому царские доброхоты, жил с вором на одном дворе и добре все о нем знает.
За обещанные Унковским изрядные деньги Левко приехал в Чигирин и поведал послу, что истинно – жил он с князем Шуйским на одном дворе, не раз видел его с Адамом Григорьевичем Киселем и слышал, что князь – близкий Выговскому человек.
Унковский посулил Левко немалую дачу, чтобы он, Левко, Тимошку каким-либо питьем опоил или чем-либо окормил до смерти. И мещанин Левко, потребовав часть денег вперед, пообещал Василию Яковлевичу вора Тимошку уморить.
После того как Хмельницкий ушел в поход, Тимофей и Костя жили то у Самуила в Лубнах, то у Киселя в Киеве.
Узнав, что в Чигирин приехал царский посол, Анкудинов и Конюхов поехали туда же, нимало не опасаясь, ибо правил всеми делами в Чигирине их друг Иван Выговской. И на этот раз Тимофей хотел доподлинно выведать, что надобно здесь московскому послу.
Генеральный писарь принял Тимофея, как и прежде, душевно и приветливо:
– Ты, князь Иван, на меня будь надежен и Василия Унковского нисколько не страшись. Здесь я хозяин. Если кому и надобно чего страшиться, то не тебе.
Анкудинов слушал Выговского внимательно: давно понял, что нет среди близких гетману людей большего врага русскому царю, чем Иван Евстафьевич.
В конце разговора Выговской сказал, где стоит посольство, и Анкудинов, оставив коня во дворе Выговского, пошел к посольскому дому. Возле дома встретил он двух слуг Унковского и, назвавшись торговым московским человеком, легко затеял с ними беседу о Москве, о дороге в Чигирин, о местных делах. Нашлись у собеседников и общие знакомые: знал Тимофей свояка Унковского, думного дьяка Михаила Данилова, нашлись и общие знакомые из числа торговых людей средней руки.
По совету Выговского Анкудинов направил к московскому послу Костю, назначив Унковскому на завтра в полдень свидание в церкви.
Тимофей и Костя весь остаток дня советовались, как им вести себя с послом и что говорить. И хотя решили стоять на прежнем, покоя в душе ни у того ни у другого не было.
Тимофей заснул под утро. Снилась ему Вологда, мать, владыка Варлаам, табуны в ночном.
Проснувшись близко к полудню, Тимофей вспомнил ответы рукописного сонника, или же «Снов толкователя», что видеть лошадь – ко лжи, а многих лошадей – ко многим вракам. Видеть же попа – к несчастью. И закручинился.
Когда Анкудинов пришел в церковь, Унковский был уже там. «Видать, тебе увидеться со мной не терпится больше, чем мне с тобой», – подумал Тимофей, вглядываясь в бледное, благообразное лицо царского посла.
Унковский тоже неотрывно глядел в лицо Анкудинову – сурово и спокойно. Оба они сразу же узнали друг друга: хотя и не часто, но встречались в московских приказах по разным делам.
Тимоша, войдя в церковь, снял шапку, и получилось, что он вместе с угодниками божьими заодно приветствует и Василия Яковлевича. Унковский в ответ еле наклонил голову. Не называя Анкудинова ни по фамилии, ни по имени, Унковский сказал:
– Надобно тебе ехать в Москву.
– Кому это надобно? – спросил Тимоша дерзко.
– Великому государю Алексею Михайловичу, – ответил Унковский со сдерживаемым раздражением.
– Пошто я ему занадобился? Ай жить без меня не может?
– Ты, Тимофей, не дури. Если государь велит – сполняй. Много ты дурного ему учинил, но он все то тебе прощает. А не поедешь, – голос Унковского стал строгим и пугающим, – достанем тебя силой и привезем, где бы ты ни обретался.
– Да зачем я ему, государю? Ежели он меня простил, для чего же меня в Москву требовать? Для награды? – В голосе Анкудинова звенела все та же насмешливая струна, с самого начала раздражавшая Унковского.
– Не холопье дело – рассуждать! – взорвался посол. – Ты прежде исполни, что тебе велено, а потом уж увидишь, зачем да почему.
– А я сызмальства в дураках не ходил и холопом себя никогда не считал! По мне, тот холоп, кто себя таковым сам понимает, будь он хотя бы боярин, князь или государев посол!
– Вот как ты заговорил, христопродавец! – покраснев, будто от удушья, закричал Унковский. – За сколько сребреников продал народ свой, иуда?
– Это ты будешь о народе радеть, благодетель? – по-прежнему тихо, но уже без насмешки, а с еле сдерживаемой яростью спросил Анкудинов. – Ты будешь мне говорить о народе? Да вы его десять тысяч раз ограбили, обездолили и продали – ты, твой царь и вся ваша воровская ватажка! Вы потому и боитесь меня, что я давно вас раскусил: понял, какие вы народу отцы и защитники. Оттого-то и нет вам покоя, оттого-то и ловите вы меня, да только не поймаете. А я до вас когда-нибудь доберусь. Помяни мое слово, господин посол. И тогда не ждите у меня пощады, не будет ее вам – народ не даст.
Анкудинов повернулся и выбежал из церкви.
Сердце его гулко билось, он тяжело дышал от обиды и ярости, и в мозгу у него все время крутилась одна и та же фраза: «Никогда и ни за что не стану я больше переговаривать с царскими холуями. Никогда и ни за что».
После свидания в церкви вконец раздосадованный Унковский еще раз призвал к себе Левко, называя его, впрочем, на московский лад Лёвкой, и из собственных рук дал готовому к убийству мещанину ладную пистоль – сверх посула, хотя и пистоль стоила немалых денег. И с той пистолью Левко ежедень крутился около Тимошкиного двора и прятался у дороги, но жил вор очень бережно, и казаков возле него было прикормлено много, и Левко, отчаявшись убить Тимошку из пистоли, решил подыменщика отравить. Да только не знал, как к тому делу подступиться. И, страшась потерять обещанную ему великую мзду, пошел напрямки.
Жил в Чигирине коновал и цирюльник Федор Пятихатка, Левко знал, что цирюльник пускает кровь, варит целительные зелья, знает заговоры от дурного глаза и – поговаривают – может изготавливать яды для опоя и окорма. Одного не знал Левко: что Федор Пятихатка стародавний доброхот Выговского и обо всем, что узнает либо услышит, немедля сообщает генеральному писарю.
Левко пришел к Федору и попросил у него какого-либо отравного зелья, уверяя цирюльника, что его свояк, живущий на хуторе под Киевом, решил таким образом избавиться от волка, уже задравшего у него четырех овец.
– А не две ли у того волка ноги? – спросил Пятихатка. – А то дам тебе зелья, а ты его супротив человека спользуешь.
Левко побожился, что никаких лихих замыслов он не имеет, носит крест и только того и хочет, чтоб помочь свояку.
– Я дам тебе сильного яду, – сказал Федор, – от него не только волк – медведь подохнет, но стоить это будет недешево.
Левко, услышав цену, ахнул:
– Дак ведь на такие деньги свояк две дюжины овец купит! Нешто нету у тебя зелья подешевле?
– Есть-то оно есть, да от него и петух может оклематься, а уж если хочешь кого наверняка уморить, то тогда и деньги плати, какие требую: не простое это зелье – заморское, из города Венеции, где проживают по таким делам на весь мир знаменитые мастера.
Делать было нечего, и Левко, стеная в душе, отдал Пятихатке золотой червонец – пятую часть обещанной Унковским награды, а взамен получил щепотку белого порошка, который, по словам цирюльника, не имел ни цвета, ни запаха, без остатка растворяясь в любом питье и в любой пище.
Дал Пятихатка Левко безвредный порошок и в тот же день сообщил обо всем Выговскому. А генеральный писарь велел следить за киевским мещанином и вскоре узнал, что ходит Левко к московским послам на двор и часто бывает возле двора князя Ивана Васильевича. Тогда Выговской позвал к себе Анкудинова, и они договорились, что следует предпринять дальше.
Левко, ошалев от радости, среди бела дня побежал на подворье к Унковскому.
– Василий Яковлевич, государь! – закричал он с порога, увидев посла. – Услышал господь наши молитвы, прямо в руки отдает нам супостата! Сегодня звал меня к себе за стол ближний Тимошкин друг – Костка, баит, есть у него ко мне дело, а о том деле лучше нам поговорить в застолье. Я спросил: «Что за дело?» Костка прямо не ответил. «Есть, говорит, одно дело, но не здесь, а в Киеве, только о том даже и не он со мной говорить будет, а некий иной, великий человек, а имя-де его пока он мне говорить не станет».
Унковский задумался.
– А не подводный ли Костка человек? – спросил у Левко осторожный посол.
– Что ты, государь, что ты! Костка не в пример хозяину своему весьма простодушен, хитрости за ним никогда никакой не упомню.
– Как-то уж больно хорошо дело слаживается, просто не верится, до чего хорошо. Ну, ин ладно, попробуй, – согласился Унковский, и Левко убежал наряжаться к вечерней трапезе, твердо надеясь, что уж как-нибудь выберет момент и подсыплет яд супостату.
Левко решил прибежать пораньше и, когда никого еще за столом не будет, совершить задуманное. Однако, когда он пришел, Костя и Тимофей сидели за накрытым столом вдвоем и, увидев его на пороге, тотчас же прервали разговор.
Костя встал, радушно распростер объятия.
– Вот, Иван Васильевич, тот добрый человек, о коем мы с тобой только что речь вели, – произнес он, обращаясь к Анкудинову.
Сели за стол, выпили по чаре вина.
– Ты уж нас извиняй, что сидим запросто, без слуг. Дело у нас такое, что никто лишний знать о нем не должен, – сказал Костя.
– Не боярин я, поди, – согласился Левко.
– Ну и ладно, – сказал Тимофей и предложил выпить за здоровье гостя еще по одной.
Левко заметно захмелел, но помнил твердо, зачем он здесь и что надлежит ему сделать. А гостеприимный хозяин и его веселый друг шутили да отшучивались, говорили да отговаривались, но о деле пока что ни слова не произносили.
Наконец Костя сказал Левко:
– Ты нас за простоту нашу прости. Однако ж, когда ты пришел, мы о деле нашем не до конца договорили. И ты на нас обиды не имей, ежели мы в соседнюю горницу выйдем и там за недолгое время обо всем порешим.
– Что вы, господа хорошие, да нешто я боярин! – замахал руками Левко, радуясь великой удаче – остаться одному и все дело в момент завершить.
Тимофей, тяжело опираясь о стол («Здорово, видать, захмелел», – подумал Левко), с трудом встал и, положив Косте руку на плечо, вышел из комнаты.
Левко трясущимися от нетерпения и страха руками достал маленькую – с ноготок – серебряную коробочку, открыл крышечку и высыпал белый порошок в кубок вору.
Плюхнувшись снова на лавку, Левко с тревогой стал ждать возвращения воров к столу, нетерпеливо поглядывая на дверь, на стены, увешанные ятаганами да пищалями.
Наконец оба супостата появились и сели всяк на свое место. Анкудинов налил вина: сначала Левко, потом Косте, после всех – себе.
– Ну, Левко, – сказал Тимофей, – задумали мы дело тайное, дело великое.
Левко весь превратился в слух, однако более всего не рассказа ждал – ждал, когда выпьет самозванец зелье.
Тимофей продолжал:
– Однако ж, по русскому обычаю, чтоб дело то успешно завершилось и не было у нас друг от друга ничего тайного, надобно нам перемениться кубками.
Анкудинов Костин кубок взял себе – у Левко сердце едва не выскочило из горла, только успел подумать: «Ах, дурак, надо было обоим ворам зелья подсыпать!» – Косте подал кубок Левко (Левко покрылся холодной испариной), а свой передвинул на край стола главному затейщику.
«Что же это, господи, – подумал Левко, – выходит, я сам себя насмерть отравить должен?» И явственно услышал голос Пятихатки: «Я дам тебе сильного яду. От него не только волк – медведь подохнет».
Ударом кулака Левко сбросил кубок на пол и выскочил за дверь быстрей, чем если б за ним гнались волки.
Когда он был уже у самых ворот, за спиной у него грянул выстрел, и он, не помня себя, побежал вперед, круша плетни и путаясь в сухих будяках пустых осенних огородов.
Когда после этого Унковский еще раз попытался уговорить Анкудинова встретиться с ним, он получил от Тимофея такое письмо:
«Всякий человек, как говорится в Евангелии, есть ложь. Однако же убийца, по Евангелию же, есть сатана, ибо не стоит во истине и истины нет в нем. Так и ты – человек, а не божий, так как подучал к убийству, прельщая очи убийцы мздой воровскою. Зачем же ты при свете ищешь тьму? И зачем теперь пишешь лукавые письма и в письмах этих ищешь сучок, а не чувствуешь бревна в глазах своих? Лечишь здорового, а сам слеп, учишь правым путем ходить, а сам идешь кривой дорогой, как слепец без поводыря… А теперь, обидчик, обидь еще; лжец и убийца, убивай еще; клеветник, клевещи еще; будет час – и не минет месть тебя».
Обо всем случившемся Выговской немедля донес гетману, накануне вернувшемуся в Чигирин из похода на волохов.
Гетман готовился к празднику: он собирался женить своего старшего сына на дочери волошского господаря и со дня на день ждал послов, которые ехали по этому делу.
13 октября сватовство началось, и Тимофей вместе с Выговским и еще двумя десятками самых близких гетману людей был приглашен Хмельницким к столу. Московского посла гетман к столу не позвал и видеться с ним не захотел, отговорившись тем, что занят-де подготовкой к свадьбе сына. Однако Ивану Выговскому сказал истину: пусть знает, что своевольства гетман ни от кого не потерпит, пусть это будет хотя бы и сам царь, а не просто царский посол.
Сватовство успешно завершилось, и волошские послы уехали обратно, когда в Чигирин приехал из Мунтянской земли старец Арсений. Он ехал в Москву и вез с собою, среди прочих бумаг, грамоту Иерусалимского патриарха Паисия к гетману. Была та грамота писана на александрийской бумаге, с вислою печатью красного воска, с собственноручною подписью святейшего. И в той грамоте говорилось и о Тимошкином воровском странстве.
Арсений хотел вручить патриаршую грамоту в собственные руки гетмана, но Иван Выговской сказал, что мимо него ни один посол к Хмельницкому не ходит и прежде он, генеральный писарь, должен сию грамоту прочесть.
Арсений стоял на своем, но затем ему сказали, что гетман уехал на хутор Субботов и скоро обратно не будет.
Тогда, покорно вздохнув, он отдал грамоту Выговскому и стал ждать.
Гетман приехал неожиданно скоро.

9 ноября он пришел к старцу. Арсений заметил, что Хмельницкий раздражен. Не слушая старца, небрежно отодвинув патриаршую грамоту в сторону, гетман сказал:
– Царь не хочет воевать за Украину. Он говорит, что не может порушить клятву, данную полякам. Но ведь папа разрешает католикам нарушать договоры и клятвы, заключенные ими с магометанами и православными, а царь, если бы хотел, мог бы получить разрешение от четырех вселенских патриархов не соблюдать клятв, данных католикам. Однако царь этого не делает, а патриархи, – Хмельницкий с брезгливой миной на лице повел рукой в сторону грамоты, – радеют не о том, о чем бы следовало.
И с тем пошел из покоев старца.
«Ох и горд ты, пан гетман! – подумал старец Арсений. – А давно ли слезы умиления видел я в твоих глазах, когда встречал тебя у Святой Софии кир Паисий».
У порога Хмельницкий приостановился и добавил:
– А что патриарх писал с тобою о Шуйском, чтоб отослать его к царю, то у нас такого не повелось, хотя б он и самого короля забил. Из Сечи выдачи нет.
Однако еще через два дня Иван Выговской позвал старца к себе и сказал ему:
– Отче, вот грамота к пресветлому государю Алексею Михайловичу. Подписана сия грамота паном гетманом, и в ней государю ведомо учиняется, что пан гетман ради любви к государю и ради союза и мира меж нашими странами повелел того человека, что называет себя Шуйским, из своей земли выслать.
Старец поклонился, вздохнул смиренно и, за такую малую малость даже спасибо не сказав, вышел вон.
А в обед призвал Арсений к своему столу подписка, синеглазого хлопчика, что писал путевые, отпускные, опасные да проезжие грамоты, и спросил:
– А куда это поехал ныне приятель мой, Шуйский князь? Столь поспешал, что и проститься со мною забыл.
И хлопчик в простоте душевной ответил:
– Писал я ему, святый отче, и человеку его проезжие листы через Волошскую землю до венгер, к трансильванскому князю Юрию Ракоци.