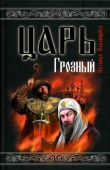Текст книги "За светом идущий"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Глава двадцать четвертая
НАЧАЛО КОНЦА
Костя получил повелительный лист Тимофея 9 августа 1651 года. Он все сделал, как ему было велено, и с помощью верных людей – Номерса и Шотена – отплыл на шхуне ревельского морехода Георга Вилькина, часто навещавшего Швецию.
Однако дальше дела пошли хуже: непогода, разыгравшаяся в открытом море, четыре недели трепала утлое суденышко, пока, наконец, полуразбитая шхуна с порванными снастями и проломленным бортом притащилась в Стокгольм.
Костя сразу же начал поиски друга. Вилькин показал ему дорогу к русскому торговому двору, где останавливались всеведущие купцы, среди которых Костя надеялся найти словоохотливых соотечественников, особо добрых к своим землякам, оказавшимся, как и они, на чужбине.
И верно: на торговом дворе сразу же попали Косте ивангородские купцы Иван Лукин, Петр Белоусов и шведский торговый человек Петр Торреус – друзья и доброхоты Анкудинова, с которыми судьба свела Тимофея еще в Нарве. Но на этом удачи Кости в Стокгольме кончились: и Иван, и оба Петра в един глас сообщили ему, что князь Иван Васильевич уехал в Нарву и велел Константину Евдокимовичу плыть туда же.
Костя чуть не заплакал от досады: столько мучений принял он на море, спеша к своему другу, и вот на тебе – приходится ни с чем отправляться восвояси.
Долго не уходил с гостиного двора Костя. Расспрашивал, кто да когда поедет в Ревель, сколько берут за перевоз свейские люди, что следует в Стокгольме купить, чтоб с выгодой в Нарве продать. И о многом другом переговаривал он с русскими людьми, оттягивая момент расставания с соотечественниками.
И когда совсем уж было собрался пойти со двора, появился возле него человечек – сутулый, маленький, остроносый. Карлик на глазах наливался радостью. И наконец, ударив себя по лбу, воскликнул, сильно окая на волжский манер:
– Константин Евдокимович! Свет ты мой! Да ведь ты не иначе, как князя Ивана Васильевича ближний человек и собинный друг! А я ему, Ивану свет Васильевичу, первый во всей Стекольне приятель и доброхот!
– А тебя, добрый человек, как звать? – спросил Костя, пытаясь заглушить чувство неприязни, возникшее у него при первом взгляде на доброхота.
– Федором Силиным звать меня, – живо откликнулся карлик.
– А сам-то откуда будешь? – спросил Костя.
– Ярославские мы, – с готовностью ответил словоохотливый Силин. – Издавна торговлишкой промышляем. Последние годы через Ивангород и Нарву в Стекольну ходим. Я об Иване Васильевиче еще в Нарве слышал. Говорили мне о великом его разуме и доброродстве многие люди, а особливо начальный в Нарве человек – воевода Яган ван Горн.
Все сходилось в речах Силина, а особенно добрые слова коменданта Нарвы ван Горна, у которого Костя побывал в доме вместе с Тимофеем и сам был свидетелем того, как ласково и сердечно принял их Горн.
Когда Костя пошел со двора в гавань, Силин увязался за ним и расстался только после того, как Конюхов согласился вечером прийти к нему в гости на дружескую трапезу.
– Кого еще позовешь? – спросил Костя, и Силин назвал ему Лукина и Белоусова.
«Эко славно все получается! – подумал Костя. – Посижу с верными людьми – и с приятностью и с пользою для дела».
Силин встретил Костю у ворот гостиного двора и с великою поспешностью стал звать его, улыбаясь и кланяясь. Пропустив Костю в низкую дверь постоялой избы, Силин в темных, тесно заставленных сенях обежал его и распахнул еще одну дверь – в горницу. Горница была велика, но не просторна. По русскому обычаю, чуть ли не половину ее занимала печь, посредине стоял большой стол с широкими скамьями с обеих сторон. Тусклый свет скупо проникал в окна, и от этого в горнице было нерадостно и неуютно.
Переступив порог, Костя различил в полумраке нескольких человек, сидевших вдоль стола.
Свечи еще не зажигали, лишь светилась в углу под образами лампадка, но от нее только тени становились темнее и гуще, а света не прибавлялось.
Присмотревшись, Костя не увидел ни Белоусова, ни Лукина. За столом сидели незнакомые ему люди. Под образами, на самом почетном месте, сидел, будто проглотив аршин, рыжеватый, нарядно и богато одетый мужчина. Черными навыкате глазами он неотрывно глядел на Костю. Рядом с ним сидел поп – в черной рясе, с наперсным серебряным крестом. Вид у попа был не то виноватый, не то растерянный. Еще четверо сидели на лавке спинами к вошедшему. Силин остановился у печи и растаял в тени.
– Ну, проходи, проходи, Константин Евдокимович, – криво усмехаясь, проговорил черноглазый.
Костя шагнул вперед, а четверо, сидевшие на лавке, встали и заслонили собою дверь.
– Садись, Константин Евдокимович, в ногах правды нет, – так же насмешливо продолжал черноглазый.
Костя оглянулся, перехватил недобрые взгляды четырех и понял: попался. Костя ухмыльнулся и проговорил лукаво:
– Когда был я еще мальцом и учили меня грамоте, учитель мой говорил мне не однажды: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им и пиршество их – западнею».
– Чего это ты? – спросил озадаченный иносказанием Головнин.
– Не я это, а царь Давид, – усмехнулся Костя. Не выдавая волнения, Костя сел поближе к черноглазому и ответил: – Верно сказано: каков пир, такие и гости. А я гляжу – ни еды, ни питья на стол не собрано, а гости – все за столом.
– А мы, Константин Евдокимович, вперед с тобой поговорим, а уж потом и пировать станем, – согнав улыбку с лица, произнес черноглазый.
– Можно и поговорить, только для начала нехудо бы знать – с кем?
– Государев посол, стольник Герасим Сергеевич Головнин мое имя, – важно ответил черноглазый.
«Вот, значит, кто», – подумал Костя. Однако испуга не почувствовал: что могли сделать ему царские холопы в чужой земле, где люди жили по иным законам? А те законы скорее помогали ему, Косте, чем мешали.
– Нам, Костка, – оставив вдруг насмешливое величанье Константином Евдокимовичем, зло и грубо проговорил Головнин, – о воровстве твоем известно довольно. И ежели ты соучастника своего Тимошку изловить нам поможешь, то будет тебе от государя прощение, а от меня – награда.
– Не понимаю я, о ком ты говоришь, стольник Герасим, – ответил Костя спокойно.
– О подьячишке худом, воришке Тимке, что выдает себя за великородного человека – князя Шуйского, вот о ком говорю я, – ответил Головнин.
– Не собрал бы ты вокруг себя полдюжины холопей, набил бы я тебе рожу, – сказал Костя хрипло и, повернувшись, хотел было пойти к двери, как все, кто в избе был, тотчас же набросились на него и стали вязать.
Хоть и силен был Костя, но с такою оравой сладить и он не мог. Кричал только:
– Малоумные! Нешто вы на Москве? Кто же вам волю дал честного человека вязать и бить?
Головнин пнул связанного в бок сапогом и велел посадить его в часовню: там и решетки на окнах были прочнее, и замок поувесистей. А чтоб не привлек криком кого из посторонних, велел сунуть в рот ему кляп.
Костю, как мешок, перетащили из избы в часовню, кинули на голый пол. Он долго ворочался и извивался, пытаясь развязать хотя бы руки, но только к утру сумел вытолкнуть изо рта тугую мокрую холстину и, подкатившись к окну, громко закричал, призывая на помощь.
Однако прибежали не те, кого он ждал, а поп Емельян с холопами. Сев на него верхом, они снова затолкали Косте выплюнутый на пол кляп и привязали для верности к столбу, подпиравшему потолок.
В суматохе дверь осталась раскрытой настежь, и несколько человек, из тех, что жили на постоялом дворе, привлеченные криками, заглянули внутрь.
Их лица, испуганные, удивленные, с растрепанными со сна волосами, промелькнули перед Костей. Однако среди них он увидел и хорошо знакомое лицо своего нарвского знакомца и приятеля Петра Белоусова.
Через час стражники стокгольмского губернатора вызволили Костю из неволи и привезли к канцлеру Акселю Оксеншерне.
Канцлер, выслушав Костю, велел ему идти куда угодно, однако сказал, что со дня на день его вызовут на суд и Косте нужно будет снова повторить все здесь сказанное.
Костя ушел, а канцлер велел привезти к нему московского посла. Однако Головнин сказался больным и к канцлеру не поехал. Тогда Оксеншерна велел передать Головнину, что королева не сможет принять царского посла, пока он не побывает у канцлера.
Головнин для приличия проболел еще день и после этого явился к Оксеншерне.
Старый дипломат, сухо поклонившись, сказал:
– Я прошу вас, господин посол, объяснить мне, что произошло три дня назад в капелле русского гостиного двора.
– Я не поп, – ответил Головнин насмешливо, – и что в церкви бывает – не всегда знаю.
Оксеншерна вспыхнул:
– Тогда я скажу, что там случилось. Вы схватили вольного человека и, повязав веревками, кинули его в капеллу.
– Вора мы повязали, боярин Аксель, нашего государя супостата, – произнес Головнин таким тоном, каким говорят с непонятливыми детьми.
Оксеншерна, раздражаясь, проговорил:
– В королевстве Шведском и в иных христианских государствах послы, представляющие персону своего государя, не могут вести себя как лесные разбойники. В каждой стране есть свои законы, и их следует соблюдать. Что было бы, если бы шведский посол в Москве обманом заманил к себе на подворье какого-либо человека и там стал бить его и мучить?
Головнин искренне не понимал, чем недоволен канцлер, и, возражая, говорил:
– Боярин Аксель! Пойманный нами человек – худой подписок, дурной человечишко, вор, тать и нашего государя супостат. От него и в свейской земле можно ждать многого убийства и воровства. И мы его взяли, чтобы и свейским людям тот вор какого дурна не учинил. И тебе бы, боярин Аксель, за то наше дело нам следовало спасибо сказать, а ты вора выпустил, а мне, государеву послу, говоришь непонятные слова и чинишь великую досаду.
Оксеншерна, махнув рукой, с раздражением ответил, что скоро в Стокгольм приедет королева и сама решит это дело.
Христина, узнав обо всем происшедшем, приказала учредить комиссию под председательством канцлера.
– Эти варвары считают, что могут делать в нашей стране все, что им заблагорассудится, – сказала королева. – Граф, я прошу вас преподнести хороший урок московским дикарям.
Оксеншерна постарался угодить королеве, тем более что и сам хотел того же. Он учинил многодневное нудное разбирательство, во время которого были заслушаны все участники нападения на Конюхова: русский купец Силин, заманивший его в избу к стольнику, сам стольник Головнин, его многочисленные слуги, Костя Конюхов и свидетель с его стороны – Белоусов.
Судьи разговаривали с каждым из них, не делая никакого различия между холопами посла и самим послом. Они доказывали им, что заманивший Костю Федор Силин менее виноват, чем поп Емельян, набросивший на шею Кости веревку, а стольник Головнин, хотя собственными руками и не душил обманутого им дворянина Конюхова, виновен больше всех, ибо всей этой затейке был голова и, кроме того, в это же самое время был послом, что означает, что все содеянное производилось им, Головниным, как бы по наущению самого царя.
– Ее величество королева Швеции Христина, – заявил после суда канцлер, – считает разбойничье нападение, учиненное русскими в ее городе, великой для себя обидой и оскорблением. Она повелевает стольнику Головнину оставить ее страну, а Константину Конюхову дает охранный лист и разрешает ехать куда и когда угодно.
Выслушав решение канцлера, Головнин только руками развел да плюнул с досады. «В Москве судят неправедно, – подумал он. – Чего греха таить – ради денег иной судья и невиновного засудит, а виноватого оправдает. Но чтобы явного вора и худородного человечишку взяли под защиту, а государева посла прогнали прочь – такого срама на Москве никогда не бывало». Однако вслух Герасим Сергеевич ничего не сказал: вывернут люторе слова его изнанкой наружу и еще хуже представят дело. И так ясно, что пойдет теперь в Москву от королевы гонец и будет в королевниной грамоте представлен он, стольник и верный государев слуга, лесным разбойником, а воры Тимошка да Костка – невинными пташками.
Алексей Михайлович после замирения Новгорода и Пскова твердо решил всякую гиль и воровство пресекать в самом начале и не давать малой искре превращаться в пожар, какой потом погасить бывает весьма трудно.
Царь любил книги по гистории и филозофии, но еще более любил он нравоучения святых отцов, азбуковники, Четьи-Минеи, а более всего, стыдясь в этом кому-нибудь признаться, любил читать речения и поговорки, коими исписаны были печные изразцы в его палатах.
Часто, приложив руки к горячим гладким печным изразцам, глядел Алексей Михайлович на картинки, писанные синей, зеленой, коричневой глазурью.
«Прелесная вещь», – было написано под царскою короной, и Алексей Михайлович думал: «А и впрямь прелесная: сколь многих прельщает».
Печально вздохнув, думал далее: «Надо бы велеть дописать: „Сколь прелесна, столь и тяжка“.
Разглядывая другие картинки, видел государь могучее древо – высокоствольное, с раскидистою кроной, с густыми корнями. Только ствол его рассекала пополам страшная молния – внезапная и неотвратимая. А надпись, полная меланхолии, подтверждала: «Тако аз есть безсмертно». И рядом видел царь еще одну картину: горящие сучья и поленья с многозначительной под ними сентенциею: «От многого потирания происходит огонь».
Разные были картинки, и подписи под ними были разные, однако все они навевали государю одну мысль: хотя и подобен его род могучему древу, но не вечен. И может быть так же поражен, как и древо. А причиною всему будет его шапка Мономаха – воистину прелесная вещь. И отымет шапку сию появившийся, подобно молнии, вор и подыменщик Тимошка. Вспыхнет тогда костер огненный, и будут в том костре дровами все те, кого много терли приказные люди, а с костром вместе вспыхнет и древо.
«Ох, много сухих дров на Руси, – с тоской и глубоко запрятавшимся в душу страхом думал Алексей Михайлович. – Пойдет полыхать – в Волге воды не хватит». И вспомнил страшные картины московского бунта, когда на глазах у него терзали ближних ему людей, а он только плакал, но ничем другам своим помочь не мог. Только и добился, что родича своего и собинного друга боярина Морозова Бориса Ивановича смиренной мольбою еле-еле от погибели спас.
А дальше в памяти всплывал растерзанный хамами, кровожадными василисками Леонтий Плещеев, и вспоминалось царю, как упреждал его Леонтий о злокозненном и хитром подьячишке Тимошке, коему и по звездам выпадал царский венец.
И выходило, что худой человечишко становился для него – сильнейшего в мире самодержца – хуже и опаснее турецкого султана или перекопского царя.
А тут еще неотвратимо надвигалась новая война с Литвой и Польшей, и оставлять на воле вора Тимошку никак было нельзя. О том же неоднократно говорил ему и Борис Иванович Морозов – муж великого ума, – и беспредельно преданный Григорий Гаврилович Пушкин.
Промаявшись без сна всю ночь, государь, встав с тяжелою, будто с похмелья, головой, призвал к себе дьяка Волошенинова и велел послать к королеве Христине гонца с требованием выдать головою вора Тимошку и товарища его Костку.
– А чтоб королева согласилась, – сказал государь, – пропиши Христине, что ежели она выдаст нам воров, то отдам короне свейской всю Карелию с Ингерманландиею.
Волошенинов посмел с удивлением поднять на государя взор. Алексей Михайлович улыбнулся:
– Ты пиши, а там что господь даст.
17 сентября 1651 года гонец Яков Козлов умчался в Стокгольм. Он был еще в пути, когда вслед ему царь отправил нового гонца – Янаклыча Челищева. И Козлов, и Челищев ехали в Стокгольм с охраной и толмачами, почти как послы, получив от самого государя строгий наказ: добыть вора Тимошку во что бы то ни стало. Гонцам было приказано: денег не жалеть, а паче того не жалеть посул. Обещать все, чего шведы ни пожелают, но вора в Москву привезти живым или мертвым. Однако ж лучше живым.
И гонцы, не жалея лошадей и себя щадя столь же мало, сколь и запаленных саврасов, мчались, разбрызгивая грязь, на север, на север – к ливонскому рубежу.
Доехав до Колывани, гонцы один за другим появились в замке губернатора Эстляндии графа Эрика Оксеншерны. Действовали они при этом вроде бы и спряма, но на самом деле с великою византийскою хитростью.
И та хитрость шла не от них самих и не от их малого служебного разумения, а от больших думных людей, что у государя были в немалой чести за искусный ум, изворотливость и смекалку.
Думные чины и надоумили Козлова и Челищева, как им быть с эстляндским губернатором и не дать увертливому шведу, скакнув в сторону, вора Тимошку собою прикрыть.
Велено было гонцам, въехав в Колывань, отправляться на базар, а затем на площадь к ратуше и там сопровождавшим их толмачам читать по-русски, по-шведски и по-немецки, что приехали они в Колывань с любовью и дружбой и поедут далее в Стекольну к королеве Кристине.
И ради любви меж пресветлым царем Алексеем Михайловичем и королевою Кристиной просят они, царские гонцы, изловить злого человека, шильника и вора Тимошку, замыслившего порушить дружбу меж двумя государствами и учинить свару и войну.
Козлов, выслушав совет думцев, засомневался:
– А ладно ли то будет, господа, когда иноземный гонец станет читать повелительные листы свейским и немецким людям? Не будет ли то в обиду начальным людям – губернатору и ратманам?
Думные чины отвечали:
– Ты, Яков, и толмачи, что с тобою поедут, будете говорить о мире и дружбе и против свары и войны. И королеву Кристину будете называть пресветлой, предоброй и премудрой государыней. И о благе Свейского королевства будете в тех речах пещись не менее, чем о благе Московского царства. Кто же вам поставит то в укор? Кто посмеет супротив мира и правды пойти?
А после того велено было и Козлову, и Челищеву в окружении сколь можно большего числа обывателей идти к губернаторскому дому и то же самое принародно высказать губернатору. И в конце спросить прямо: «Если вор Тимошка окажется в Колывани, отдаст ли губернатор вора царским людям или не отдаст?»
И губернатор ничего иного сказать не посмеет, кроме как пообещать, что вора и злоумышленника Тимошку, ежели он окажется в Колывани, отдаст царским слугам. Ибо как ему того не сказать? Будет тогда губернатор тому вору друг и потатчик, а обоим государям – супостат.
И, обсудив еще многое, чтоб задуманному делу хорошо свершиться, ближние государевы люди гонцов отпустили, а сами стали готовить еще одну тайную затейку, о которой и гонцы не знали, какая могла бы сгодиться, если б эстляндский губернатор каким-нибудь образом увернулся.
И когда Козлов уехал из Москвы, а Челищев еще ждал новых повелений, вслед за первым гонцом, не столь спешно, как он, поехали с товарами тайные государевы люди. И те сокровенные люди ехали по делу, кое от всех прочих держали они в великой тайне: велено им было в ливонских и в шведских землях накрепко сыскивать вологодского подписка Тимошку Анкудинова и, отыскав, добывать всеми хитростями. Было тех человек две дюжины, но ехали они не все вместе, а четыре раза по шесть.
Тимоше с погодой повезло: он плыл от Стокгольма до Ревеля всего две недели. Повезло ему и в Ревеле: прямо на набережной встретились Анкудинову, будто нарочно ждали его, два новгородских купца – Максим Воскобойников и племянник Воскобойникова, Петр Микляев, разительно похожие друг на друга: оба низкорослые, широкоплечие, с маленькими головами, прилепленными прямо к туловищу. Оба были какой-то неопределенной масти – будто на сноп переспелой соломы ветром надуло сухую землю.
Новгородцам оказалось по пути с князем Иваном Васильевичем: из Ревеля, а по-русски – Колывани ехали они в Нарву, а по-русски – Ругодив. У купцов оказался целый обоз – шесть телег с товарами – и при обозе, кроме них самих, еще двое приказчиков и двое мужиков-возчиков.
Воскобойников уехал вперед, а весь обоз неспешно двинулся следом. Так как у Тимоши оказалось немало рухляди, пришлось и ему нанимать две подводы и одного возчика – немца Ганса Ноппа, славившегося среди промышлявших извозом ревельцев тремя свойствами: молчаливостью, упрямством и необычайной силой.
Поздно вечером обоз остановился в придорожной корчме. Люди Воскобойникова распрягли лошадей, засыпали им овса и, отужинав, легли спать.
«Господи, – подумал Тимоша, засыпая, – только застать бы мне Костю в Ругодиве! Может, не успел он еще отплыть в Стокгольм?»
Среди ночи Тимоша почувствовал, как что-то тяжелое придавило его к лавке, и, мгновенно очнувшись, понял, что его вяжут веревками по ногам, крепко ухватив за руки. Он рванулся, но встать не смог – четверо сразу лежали и сидели на нем.
– Ганс! – закричал Тимоша. – На помощь!
Воскобойников не думал, что немец ввяжется в драку, – не для того нанимал его «князь Иван Васильевич». Но упрямый Нопп был к тому же еще и очень честен: если уж он нанимался везти человека ли, товар ли, то и за безопасность перевозимого седока и имущества отвечал головой. Да и что бы сказал честный Ганс своим товарищам по гильдии извозчиков, если бы те узнали, что силач Нопп стоял, опустив руки, в то время как разбойники – а Нопп ничуть не сомневался, что это разбойники, – вязали его седока веревками?
Нопп рявкнул, схватил за конец дубовую скамью и повернулся вместе с нею сначала направо, а потом налево. Двое мужиков повалились на пол. Двух других Нопп, схватив за пояса, сорвал с князя Ивана и, ударив одного об другого, кинул оземь.
Оставив князя, Воскобойников и его люди кинулись к Ноппу, но тот, встав спиной в угол, так махал скамьей, что только ветер свистел по избе, качая язычки трех свечей, чудом горевших на печном загнетке.
Тимофей схватил кочергу и ударил ею по голове Воскобойникова. Купец рухнул, не охнув. Его племянник кинулся к дяде, но и сам упал, получив страшный удар кочергой под ребра. Нопп крикнул по-немецки:
– Князь Иоганн! Я сейчас ударю по свечам, а вы бегите к конюшне и выводите двух лучших лошадей!
Тимофей крикнул также по-немецки:
– Хорошо!
И в наступившей тьме пулей ринулся за порог.
Когда он, сидя верхом, подогнал к избе еще одну лошадь, с крыльца, как медведь с повисшими на шкуре собаками, скатился великан Нопп.
Из всей рухляди, что была на его возах, Тимофей успел схватить лишь пистолет о двух стволах и сумку с письмами и деньгами, которую он спрятал в сарае, побоявшись взять с собою в избу.

Высоко подняв пистолет над головой и зажмурившись, Тимоша спустил курок. Мужики кто ползком, кто бегом сыпанули в стороны. Нопп, обхватив лошадь за шею, упал поперек спины и следом за князем выскочил из ворот.
Оглянувшись, Тимофей не заметил ни одного человека. «Слава богу, – мелькнуло у него в голове, – боятся, сволочи, попасть под пулю».
Нопп, все еще тяжело дыша, скакал рядом. Лицо его было совершенно спокойно, как будто он сопровождал князя на утренней прогулке.
Граф и генерал Густав Горн – военный губернатор и комендант Нарвы – был хотя и недавним, но верным приятелем Тимофея. Их взаимная приязнь возникла сразу же, при первой встрече, и сохранялась неизменно, несмотря на разницу в возрасте и положении. Густав Горн, высокий, жилистый старик с водянистыми голубыми глазами, торчащими вверх усами, с острыми худыми плечами, локтями и коленями, принадлежал к старому аристократическому семейству, давшему Швеции немало дипломатов и генералов. Однако свой нынешний пост старый вояка считал недостойным графского рода и чувствовал постоянную обиду и на королеву, и на губернатора Эстляндии Эрика Оксеншерну – мальчишку и выскочку, возвысившегося благодаря своему дядюшке – канцлеру.
В изгнанном русском Горн почувствовал нечто родственное себе: князь из старейшего и благороднейшего семейства, умный, энергичный – а именно таким казался себе Горн – претерпевает, как и он сам, удары судьбы.
Поэтому, когда Горн снова встретился с князем Шуйским, высланным из Стокгольма и едва не убитым неизвестными разбойниками, в душе старого генерала вспыхнуло доброжелательное чувство уважения и восхищения перед упорством и отвагой этого человека.
«Эти стокгольмские интриганы, – подумал Горн, – неспроста выслали князя в Эстляндию. И уж не они ли организовали и это нападение на него?»
И Горн решил оберегать князя Шуйского, сколь будет возможно. Его логика была проста: если Оксеншерне и Розенлиндту нужно, чтобы русский князь погиб, значит, нужно постараться его спасти. Поэтому Горн предложил Шуйскому покои в своем доме, но князь отказался. Он очень спешил в Ревель и просил лишь об одном – поскорее дать ему надежный конвой. Горн дал Шуйскому шесть драгунов и рекомендательное письмо к вахмистру Ягану Шмидту, в доме которого, как он полагал, князь будет под надежной защитой.
По дороге в Ревель Анкудинов вместе с конвоем завернул в корчму, где минувшей ночью на него было совершено нападение. Корчмарь, увидев шведских драгун, испугался. Он тотчас же подумал, что его обвинят в сговоре с нападавшими, и, когда русский князь спросил его: «Куда поехали эти разбойники?» – указал рукою на восток, в сторону Новгорода.
«Должно быть, так оно и есть, – подумал Тимофей. – Ведь Воскобойников и Микляев – новгородцы. А куда им бежать и где прятаться, если не у себя дома?» И, повеселев, вскочил в седло и, уже ничего не опасаясь, поскакал впереди конвоя в Ревель.
…Толстые стены из серого камня; на высоких валах, поросших жухлой травой, – замшелые серые башни, за ними – церковные шпили, вонзающиеся в низкое небо, – таким предстал перед путниками Ревель. А когда подъехали ближе, первое впечатление не исчезло: стены показались еще толще, башни еще грознее. «Не город, а тюрьма», – подумал Тимофей, и недоброе предчувствие шевельнулось у него в груди. Чувство это еще усилилось, когда путники въехали в город. Каменные дома с окнами, забранными решетками, с узкими дверцами, обитыми железными полосами, напоминали маленькие замки.
На площади у ратуши Анкудинову вдруг показалось, что среди толпы мелькнула знакомая кургузая фигура и выбившиеся из-под шапки волосы цвета переспелой соломы, обсыпанной землей.
«Мало ли их, низкорослых да рыжеватых?» – подумал Анкудинов, но беспокойство не проходило: а вдруг Воскобойников?
Дом Ягана Шмидта, старого служаки, проведшего рядом с генералом Горном четверть века, был такою же крепостцей, как и другие соседние дома. К дому примыкал маленький садик и огород, где Тимофей мог глотнуть немного воздуха да последить за полетом стрижей.
Яган сказал Анкудинову, что Ревель кишит царскими лазутчиками, – об этом сообщили ему и его старые приятели из ратуши, и знакомый офицер полицейской стражи, да и многие городские обыватели в один голос вот уже несколько недель толковали о том же самом и на рынке, и в пивных, и при встречах на улице.
На четвертый день пребывания в Ревеле – 8 октября 1651 года – Тимофей не выдержал и решил возвращаться в Стокгольм. Ему не давала покоя мысль о Косте. И днем и ночью перед его глазами стоял его названый брат, связанный веревками, забитый в железа, терзаемый заплечных дел мастерами.
Оставлять ему было нечего – все имущество пограбили Воскобойников с Микляевым. Взяв кису с деньгами, сумку с бумагами, пистоль да нож, Тимофей простился с хозяином дома и вышел за ворота.
Улица была пуста. Только вдали маячил какой-то человек. Но и он пошел прочь, как только Тимофей двинулся от ворот.
Пройдя два квартала, Анкудинов повернул за угол, на улицу, ведшую к гавани. И сразу же столкнулся с тремя подгулявшими молодцами. Он хотел обойти пьянчужек, но улица была узка, и к тому же молодцы, как бы забавляясь, не пропускали его. Тимофей легонько подвинул одного из них в сторону, и тотчас все трое кинулись на него и, повалив на землю, стали вязать. Из-за спин нападавших вынырнули знакомые рожи Воскобойникова и Микляева. Ему завернули руки за спину, сунули в рот кляп и потащили в карету, стоявшую в двух саженях от места нападения. Дверцы кареты захлопнулись. Воскобойников и Микляев сели на распростертого человека верхом, сдавив его ногами. В карету забралась еще добрая полудюжина молодцов, и, подскакивая на ухабах, экипаж помчался неведомо куда.
Губернатор Эстляндии граф Эрик Оксеншерна вторые сутки пропадал на псарне, ожидая, когда ощенится его любимая борзая. Из-за того что ожидание оказывалось напрасным, он нервничал и потому совершенно ничего не понял, когда пришедший слуга сказал, что в замок привезли какого-то человека, связанного по рукам и ногам и с кляпом во рту. Оксеншерна, досадливо поморщившись, нежно погладил борзую по голове и быстро пошел к дому, желая как можно скорее развязаться с неожиданной докукой и возвратиться на псарню.
У крыльца дома он увидел черную карету с дверцами без окон и возле нее группу оживленных мужчин. Губернатор подтянулся и замедлил шаг. Его заметили и замолчали. Оксеншерна увидел в центре толпы человека со связанными руками и кляпом во рту. Оксеншерна досадливо дернул плечом и тотчас же вспомнил, что совсем недавно такие же толпы одна за другой приходили в замок и по наущению царских гонцов требовали от него поимки русского человека, который, по их словам, выдавал себя за князя.
Оксеншерна взглянул на связанного и понял, что перед ним стоит тот самый человек. Больно приметен он был – глаза разного цвета мешали спутать его с кем-либо другим.
– Развяжите его, – сказал Оксеншерна, – и выньте кляп.
Окружавшие русского князя люди нехотя повиновались.
– Кто таков? – спросил губернатор после того, как его приказ был исполнен.
– Вор! Худой человек! Жену и детей убил! Улицу спалил! Казну пограбил! В царское имя влыгался! – закричали в толпе.
Один из русских, знавший шведский язык, угодливо стал переводить все это. Оксеншерна поднял руку. Крикуны умолкли.
– Теперь пусть говорит он. – Губернатор повел рукой в сторону Анкудинова.
– Господин губернатор! Все сказанное этими глупыми и бесчестными людьми – ложь, – произнес Тимофей по-немецки. – Они клевещут, чтобы, заполучив, отвезти меня к моим недругам в Москву и там казнить. Вместе с тем у меня есть подлинные грамоты о моем происхождении. Эти грамоты видела и пресветлая государыня королева Христина, и канцлер короны благородный господин Аксель Оксеншерна, и думный дворянин Иван Розенлиндт.
Тимофей снял с плеча сумку с бумагами, которую Воскобойников и его люди в суматохе забыли снять, и протянул ее губернатору.
Оксеншерна взял сумку, раскрыл ее, одну за другой стал доставать и читать грамоты.
Вид свитков вощеной бумаги с висящими на шелковых шнурах сургучными печатями произвел на толпу отрезвляющее впечатление. В наступившей тишине Оксеншерна сказал:
– Я оставляю этого человека у себя. Он будет здесь под надежным караулом. И если он виноват, он получит по заслугам. Но не раньше, чем я смогу убедиться в этом.