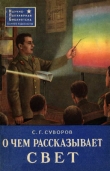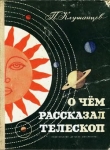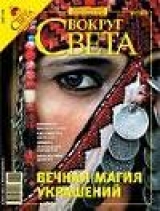
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 2008 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
1 августа 1914 г. Германия объявляет войну России, заступившейся за Сербию. Начало мировой войны
4 августа 1914 г. Германские войска вторгаются в Бельгию
5-10 сентября 1914 г. Сражение на Марне. К исходу битвы стороны перешли к позиционной войне
6—15 сентября 1914 г. Сражение в Мазурских болотах (Восточная Пруссия). Тяжелое поражение русских войск
8—12 сентября 1914 г. Русские войска занимают Львов, четвертый по величине город Австро-Венгрии
17 сентября – 18 октября 1914 г. «Бег к морю» – союзнические и германские войска пытаются обойти друг друга с фланга. В результате Западный фронт протягивается от Северного моря через Бельгию и Францию до Швейцарии
12 октября – 11 ноября 1914 г. Немцы пытаются прорвать оборону союзников у Ипра (Бельгия)
4 февраля 1915 г. Германия объявляет об установлении подводной блокады Англии и Ирландии
22 апреля 1915 г. У городка Лангeмарк на Ипре германские войска впервые применяют отравляющие газы: начинается второе сражение у Ипра
2 мая 1915 г. Австро-германские войска прорывают русский фронт в Галиции («Горлицкий прорыв»)
23 мая 1915 г. Италия вступает в войну на стороне Антанты
23 июня 1915 г. Русские войска оставляют Львов
5 августа 1915 г. Немцы берут Варшаву
6 сентября 1915 г. На Восточном фронте русские войска останавливают наступление германских войск у Тернополя. Стороны переходят к позиционной войне
21 февраля 1916 г. Начинается сражение под Верденом
31 мая – 1 июня 1916 г. Ютландское сражение в Северном море – главная битва военных флотов Германии и Англии
4 июня – 10 августа 1916 г. Брусиловский прорыв
1 июля – 19 ноября 1916 г. Сражение на Сомме
30 августа 1916 г. Гинденбург назначается начальником Генерального штаба германской армии. Начало «тотальной войны»
15 сентября 1916 г. В ходе наступления на Сомме Великобритания впервые применяет танки
20 декабря 1916 г. Президент США Вудро Вильсон направляет участникам войны ноту с предложением начать мирные переговоры
1 февраля 1917 г. Германия заявляет о начале тотальной подводной войны
14 марта 1917 г. В России в ходе начавшейся революции Петроградский Совет издает приказ № 1, положивший начало «демократизации» армии
6 апреля 1917 г. США объявляют войну Германии
16 июня – 15 июля 1917 г. Неудачное русское наступление в Галиции, начатое по приказу А.Ф. Керенского под командованием А.А. Брусилова
7 ноября 1917 г. Большевистский переворот в Петрограде
8 ноября 1917 г. Декрет о мире в России
3 марта 1918 г. Брестский мирный договор
9-13 июня 1918 г. Наступление германской армии под Компьеном
8 августа 1918 г. Союзники переходят на Западном фронте в решительное наступление
3 ноября 1918 г. Начало революции в Германии
11 ноября 1918 г. Компьенское перемирие
9 ноября 1918 г. В Германии провозглашена республика
12 ноября 1918 г. Император Австро-Венгрии Карл I отрекается от престола
28 июня 1919 г. Германские представители подписывают мирный договор (Версальский мир) в Зеркальном зале Версальского дворца под Парижем
Мир или перемирие
«Это не мир. Это перемирие на двадцать лет», – пророчески охарактеризовал Фош заключенный в июне 1919-го Версальский договор, который закрепил военный триумф Антанты и поселил в душах миллионов немцев чувство унижения и жажду реванша. Во многом Версаль стал данью дипломатии ушедшей эпохи, когда в войнах еще были несомненные победители и побежденные, а цель оправдывала средства. Многие европейские политики упорно не хотели до конца осознать: за 4 года, 3 месяца и 10 дней великой войны мир изменился до неузнаваемости.
Между тем еще до подписания мира окончившаяся бойня вызвала цепную реакцию катаклизмов разного масштаба и силы. Падение самодержавия в России, вместо того чтобы стать триумфом демократии над «деспотизмом», привело ее к хаосу, Гражданской войне и становлению уже нового, социалистического деспотизма, пугавшего западных буржуа «мировой революцией» и «уничтожением эксплуататорских классов». Русский пример оказался заразительным: на фоне глубокого потрясения людей минувшим кошмаром восстания вспыхнули в Германии и Венгрии , коммунистические настроения охватили миллионы жителей и во вполне либеральных «респектабельных» державах. В свою очередь, стремясь воспрепятствовать распространению «варварства», западные политики поспешили опереться на националистические движения, которые казались им более управляемыми. Распад Российской, а затем Австро-Венгерской империй вызвал настоящий «парад суверенитетов», и лидеры молодых национальных государств демонстрировали одинаковую неприязнь и к довоенным «угнетателям», и к коммунистам. Однако идея такого абсолютного самоопределения, в свою очередь, оказалась бомбой замедленного действия.
Разумеется, многие на Западе признавали необходимость серьезного пересмотра миропорядка с учетом уроков войны и новой реальности. Однако благие пожелания слишком часто лишь прикрывали эгоизм и близорукое упование на силу. Сразу после Версаля ближайший советник президента Вильсона полковник Хаус отмечал: «По-моему, это не в духе новой эры, которую мы клялись создать». Впрочем, и сам Вильсон, один из главных «архитекторов» Лиги Наций и лауреат Нобелевской премии мира, оказался заложником прежней политической ментальности. Как и прочие убеленные сединами старцы – лидеры стран-победительниц, – он был склонен просто не замечать многого, что не вписывалось в привычную ему картину мира. В результате попытка уютно обустроить послевоенный мир, воздав каждому по заслугам и вновь утвердив гегемонию «цивилизованных стран» над «отсталыми и варварскими», полностью провалилась. Конечно, в лагере победителей находились и сторонники еще более жесткой линии в отношении побежденных. Их точка зрения не возобладала, и слава Богу. Можно с уверенностью утверждать: любые попытки установить в Германии оккупационный режим были бы чреваты для союзников большими политическими осложнениями. Они не только не предотвратили бы роста реваншизма, но, напротив, резко ускорили бы его. Кстати, одним из последствий такого подхода явилось временное сближение Германии и России, вычеркнутых союзниками из системы международных отношений. А в дальней перспективе торжество в обеих странах агрессивного изоляционизма, обострение в Европе в целом многочисленных социальных и национальных конфликтов и довели мир до новой, еще более страшной войны.
Колоссальны были, конечно, и иные последствия Первой мировой: демографические, экономические, культурные. Прямые потери наций, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, составили, по разным оценкам, от 8 до 15,7 миллиона человек, косвенные (с учетом резкого падения рождаемости и роста смертности от голода и болезней) достигали 27 миллионов. Если приплюсовать к ним потери от Гражданской войны в России и вызванных ею голода и эпидемий, это число возрастет едва ли не вдвое. Довоенного уровня экономики Европа смогла вновь достичь лишь к 1926—1928 годам, да и то ненадолго: мировой кризис 1929-го капитально подкосил ее. Лишь для США война стала прибыльным предприятием. Что касается России (СССР), то экономическое развитие ее стало настолько аномальным, что адекватно судить о преодолении последствий войны здесь просто невозможно.
Ну, а миллионы «счастливо» вернувшихся с фронта так и не смогли полностью реабилитироваться морально и социально. «Потерянное поколение» еще долгие годы тщетно пыталось восстановить распавшуюся связь времен и обрести смысл жизни в новом мире. А отчаявшись в этом, отправило на новую бойню новое поколение – в 1939-м.
Игорь Христофоров
Солнце, воздух и вода

Фото автора
Бибендум. Так зовут резинового толстячка, будто состоящего из положенных друг на друга покрышек (впервые он появился в рекламе фирмы Michelin в 1898 году). С тех пор и почти до самого конца XX века эта компания мирно выпускала шины, пока в 1998-м, в свете общего интереса к экологии, не обратила внимание на принципиально новые решения, позволяющие если и не обойтись без нефти, то максимально уменьшить ее потребление. Международный форум, который так и назван – Bibendum Challenge, – теперь почти ежегодно проходит на разных континентах, собирая тысячи журналистов со всего мира, а просто любопытствующих и не сосчитать.
Bibendum Challenge-2007 состоялся в Шанхае – в стране, в значительной степени ответственной за беспрецедентный рост цен на нефть. Ведь к 2010 году по Китаю будут колесить 50 миллионов автомобилей, а к 2020-му их число, по прогнозам, достигнет 100 миллионов! И мало того, что в баке каждой машины плещется по 40—80 литров топлива, надо еще выплавить для них сталь, синтезировать пластик, сварить стекло и обеспечить энергией заводских роботов. Быть может, энергетическую нагрузку удастся уменьшить, если снизить долю авто, потребляющих нефть и газ, с сегодняшних 98%?
По выставке, конечно, нужно бродить пешком, останавливаясь возле интересных экспонатов, но на этом можно и нужно прокатиться. Смешная трехместная городская «карета» Venturi Eclectic и в самом деле эклектична: в ней есть и аккумуляторы под полом, и солнечные батареи на крыше, и при необходимости выдвигаемый ветряк на мачте. Эта «карета» может обойтись даже без электророзетки – лишь бы солнце светило да ветер дул «в паруса». Правда, для дальних поездок Eclectic не годится: полный заряд аккумуляторов дает ему запас лишь на 50 километров хода, а если говорить о солнце и ветре, то за день они вместе могут «насветить и надуть» лишь на 22 километра пробега. В общем, типичный городской автомобиль, больше ожидающий своего хозяина дома и возле офиса, чем катающий. Именно в категории Urban Vehicle он и состязался в ралли с другими автомобилями, принявшими вызов Бибендума. И победил в своей группе хотя бы потому, что был единственным экипажем с «вечным двигателем». Впрочем, Eclectic получил высший балл и в ходе отдельных тестов на эффективность, экологичность, шумность, маневренность (его длина-то всего 2 860 миллиметров) и даже – на динамику!

В это колесо XXI века встроены все главные автомобильные механизмы. Лишь рулевой привод (слева) пока не подключили – законы не позволяют. Фото автора
Мотор в колесе
Достижения разработчиков фирмы-организатора форума хвалить обычно как-то не принято. Но в данном случае это констатация факта: более оригинальной концепции мне до сих пор ни видеть, ни испытывать не приходилось. Система Michelin Active Wheel предусматривает, что все необходимое для комфортной езды не разбросано по всему шасси, а сосредоточено… внутри колеса! В каждом из них непостижимым образом уместились тяговый электромотор, пружины подвески, дисковый тормоз, активный электроамортизатор и электрорулевой привод. Само же шасси стало просто тележкой с торчащими ступицами, ни мотора, ни валов, ничего – так обычно делают примитивные детские игрушки. Но три концепта Michelin (отличающиеся источниками энергии – литий-ионные батареи или топливные элементы на водороде) – что угодно, но только не примитив. Стоит хотя бы взглянуть на характеристики тягового моторчика (помещенного внутрь колеса, напомним) с водяным охлаждением: 30 кВт, 800 В, 20 000 об/мин, 8 килограммов. Впечатляют и общие характеристики концепт-кара: запас хода на водороде (Michelin Hy-Light-II) – 450 километров, на батареях (Michelin EV-Light) – 400. Максимальная скорость – 145 и 140 км/ч соответственно, разгон до сотни за 10 секунд.
На дороге эти машинки ведут себя совсем не так, как привычные автомобили. Активная электроподвеска полностью устраняет «клевки» кузова при разгоне и торможении, равно как и наклоны в самых крутых поворотах. Плюс бесплатный аттракцион от разработчиков: по их команде Michelin изменял дорожный просвет, приседал набок или на любое колесо, а мог и проходить повороты с крутым креном ВНУТРЬ (как мотоцикл, так машина гораздо устойчивее в движении). И что с того, если в салоне пока нет кожаной обивки!

Футуристический гибрид Citroen C-Metisse тоже имеет пару электромоторов по 20 л. с. – они крутят задние колеса. Фото автора
Водород: с неба на землю
После катастрофы дирижабля «Гинденбург» водород долго не решались применить в каком-либо транспортном средстве. Дирижабли и по сию пору заправляют только дорогим инертным гелием, но ракеты на водороде все же летают, идут разговоры о водородных авиалайнерах, а в автомобилях его широкое применение пока сдерживают, кажется, лишь дороговизна топливных элементов и отсутствие сети заправок. Первую проблему, впрочем, легко обойти, если не превращать водород в ток, а просто сжигать в цилиндрах традиционного двигателя. Этим путем идет BMW, и, конечно, на форуме были представлены уже выпускаемые мелкими сериями «семерки», с криогенными баками-термосами, в которых плещется охлажденный до –253°С и сжиженный водород. Его хватает лишь на 200 километров экологически чистого пробега, но автомобиль может проехать еще 500 на бензине, для которого есть отдельный бак. Большой минус кроется в большой минусовой температуре, необходимой, чтобы хранить запас жидкого водорода. Стенки термоса все-таки пропускают немного тепла с улицы, и потому запас топлива потихоньку улетучивается (через специальный предохранительный клапан). Если ездить каждый день, это не страшно, а вот после двухнедельной стоянки можно обнаружить изрядно опустевший баллон. Да и создать АЗС для такого топлива очень непросто, с чем столкнулась фирма Linde, которая построила по всему миру около 60 заправок и привезла еще одну (а иначе как бы ездили эти «семерки»?) в Шанхай.
Гораздо интереснее водородомобили с топливными элементами и сжатым до 350 или 700 атмосфер газом. Во-первых, здесь нет никаких цилиндров, коленчатых валов и прочей механики, во-вторых, такие заправки можно организовать прямо на дому. Кстати, параллельно с Шанхайским форумом Honda объявила о начале продаж своих водородомобилей Clarity в США вкупе с домашними/офисными АЗС, которые, питаясь природным газом из бытовой сети, способны вырабатывать до трех кубометров водорода в час. Кстати, в случае перебоев с бытовым электричеством такая установка, используя водородный бак и встроенные топливные элементы, сможет обеспечить дом и электричеством, и теплом. На вызов Бибендума откликнулось множество фирм, представивших ходовые образцы своих водородных авто. И среди них не только такие гранды, как General Motors, Daimler, Ford, Nissan, но уже и корейская Hyundai, и китайские Chery, SAIC. Вот как раз за руль Chery START-Eastar я и устремился в первую очередь. Что ж, по характеристикам автомобиль, созданный в сотрудничестве с учеными Шанхайского университета, получился весьма «на уровне». Его 55-киловаттный топливный элемент плюс литийионная батарея, запасающая энергию при торможении, обеспечили машине неплохую динамику при полном отсутствии вредного выхлопа и почти полной бесшумности. Но что-то в системе управления тяговым двигателем пока недоработано: при разгоне случаются странные рывки, присущие обычно автоматическим коробкам передач, хотя никакой коробки передач в этом автомобиле нет. Что ж, все закономерно – китайцам еще предстоит догонять западный автопром и в этом направлении.
И водород уже не кажется гостем из будущего, особенно, если посмотреть на мотороллер Hydrofight, созданный фирмой Peugeot в кооперации с Эсслингенским техническим университетом. Да, этот скутер ездит на водороде, запасенном в двухлитровом баллонекартридже, который даже не нужно заправлять – просто обменять на полный, подобно баллончику от пневматического пистолета. Причем вместе с литий-ионной батареей, способной отдать еще 5 кВт, вес скутера получился не больше, чем был у него до переделки.

Берлинский Clever очень похож на амстердамский Carver – по форме, но не по содержанию: все агрегаты свои. Фото автора
Если есть в розетке ток
Разумеется, не было недостатка и во вполне готовых к серийному производству электромобилях, заряжаемых от розетки. Причем не только на форуме, но и в шанхайских супермаркетах, а значит, и на улицах. Пока в продаже, правда, лишь двухколесные электровелосипеды, зато стоят они от 1 500 юаней (около 5 000 рублей) и могут проехать без кручения педалей до 70 километров! У полноценных электромобилей пробег, понятное дело, больше – на сегодня средний показатель достигает 200. А есть и оригинальные гибриды, вроде Ford Edge W/Hy Series Drive. Приглядевшись, на его боках можно увидеть два лючка: под одним – розетка, под другим – штуцер для заправки сжатым водородом. На батарейках он может пройти первые 40 километров, а потом еще 320 на топливных элементах.
Просто газ
Автомобили, работающие на сжиженном или сжатом газе, давно не редкость. Газ и дешевле, и экологичнее бензина. В Шанхае обратили на себя внимание мотороллеры, бегающие на пропан-бутане по городским улицам (неужто большая экономия?), и концептуальный городской авто… нет, мото… Судите, впрочем, сами, что это. Clever = Compact Low Emission VEhicle for uRban transport, созданный Берлинским университетом, BMW и еще целым рядом партнеров на деньги Еврокомиссии, работает на сжатом природном газе, и главное в нем не скорость, а экономичность, чистота выхлопа и маневренность. Одноцилиндровый моторчик разгоняет его до 60 км/ч за 7 секунд (а вообще на спидометре – 100 км/ч), при том, что выбросы СО2 всего 60 г/км. Сидеть внутри неудобно, особенно сзади, зато впечатления от валящегося набок горизонта в поворотах незабываемые. Говорят, стоить это трехколесное чудо будет около 10 000 евро. Описаний поразительных новинок, увиденных и испытанных на Bibendum Challenge 2007, хватило бы, пожалуй, на целый журнал. Пройдет всего год-другой, и эти новинки превратятся из концептов в серийные авто-вело-мото и многие читатели смогут сами их опробовать. Ждать, судя по всему, придется недолго.
Алексей Воробьев-Обухов
Почему мы доверяем науке?

К этому мы привыкаем с детства, со школы. Даже когда мы чего-то не понимаем, достаточно услышать фразу «ученые доказали» или «с научной достоверностью», и сомнения уходят. Доверие – ценный ресурс, которым многие хотели бы воспользоваться. Разнообразные сомнительные учения надевают маску наукоподобия, стремясь убедить публику в своей правоте. В результате само понятие науки размывается и где-то в глубине сознания зреет вопрос: а почему, собственно, мы ей доверяем? И тут появляются непризнанные «гении», которые с жаром осуждают «косную официальную науку», неспособную воспринять их идеи. Даже самим ученым порой становится трудно разобраться, «где правда, где обман». Встает ключевой вопрос: а почему наука вообще имеет столь привилегированное положение в нашем обществе? Почему в школе тратят время на нее, а не на мифы или эзотерические учения? Да и можно ли вообще отличить настоящую науку от поддельной? Фото вверху LEEMAGE/FOTOLINK
Вопросы доверия относятся к числу самых деликатных и в то же время самых важных в нашей жизни. Доверяете ли вы тормозам своей машины? А правительству своей страны? А своему работодателю, банку, врачу, жене, ребенку, собственным глазам, наконец? Источником доверия обычно служит прошлый опыт. Так, ежедневные восходы и заходы солнца убеждают нас в том, что чередование дня и ночи продолжится и в будущем. Если вам 30 лет, то самолично убедиться в надежности дневного светила вы могли всего около 10 тысяч раз. Это очень мало: если за последний год у вашей машины не отказывали тормоза, считайте, что они проверены в несколько раз лучше.
В повседневной жизни мы ежесекундно полагаемся на огромное множество других привычных явлений: горючесть газа в кухонной плите, растворимость сахара в чае, падение на землю брошенного камня, твердость кирпичей дома, прозрачность воздуха – список можно продолжать бесконечно, и все его пункты проверены нами примерно в той же степени, как смена дня и ночи. Если бы каждый из них «сбоил» всего раз в тысячу лет, мы ежедневно наблюдали бы чудеса, причем, как правило, неприятные. Удивительная надежность мирового порядка в целом заставляет нас искать в ней проявление относительно небольшого числа высоконадежных принципов. Именно эта идея лежит в основе науки. И поэтому многие бывают шокированы, узнав, что научные теории никогда не доказываются, никогда не опровергаются и вполне могут находиться в противоречии друг с другом и с экспериментом.
«Как же можно доверять такой науке?!» – вправе воскликнуть читатель. На этот вопрос можно дать краткий ответ: «Потому что наука приносит очевидные и полезные плоды и доверие, следовательно, эффективна», а можно – развернутый, раскрывающий внутренние механизмы научного метода, чем мы отчасти и займемся ниже. Хотя наука развивается уже две с лишним тысячи лет, ученые все еще продолжают избавляться от иллюзий относительно того, что представляет собой научное знание. Причем те, кто специально не интересуется философией науки, часто и в наши дни пребывают во власти заблуждений, вскрытых еще в начале прошлого века. Чтобы разобраться в этом, начнем, как говорится, от печки.

Человек-Зодиак – иллюстрирует астрологические представления о связи созвездий с органами тела. Гравюра из книги «Философская жемчужина», знаменитого компендиума средневековых знаний, составленного монахом-картезианцем Грегором Рейшем на рубеже XV и XVI веков . Фото ALAMY/PHOTAS
Астрология
В древности не отделялась от астрономии и заключала в себе исследовательскую программу, предполагавшую наличие причинной связи между небесными и земными явлениями. Основанием для нее была очевидная связь ритмов жизни с годичным и суточным циклами. Стимулировала наблюдения, которые легли в основу сферической астрономии. К XVII—XVIII векам стало ясно, что предположение о причинной связи земных событий с движением планет не подтверждается опытом и несовместимо с новой ньютоновской исследовательской программой. Астрология перестала быть наукой и продолжает существовать, скорее, как психотерапевтическая практика.
Наивная философия познания
Естественные науки описывают окружающий мир и наблюдаемые в нем явления, стремясь объяснить уже случившиеся события и предсказать будущие. Объяснение вносит порядок в наши представления о мире, позволяя заменить множество разрозненных фактов небольшим числом общих правил, которые намного проще запомнить. А главное: чем больше фактов описывает правило, тем выше к нему доверие и тем более оно пригодно для предсказания будущего. Наиболее общие правила удостаиваются особого почетного статуса «законов природы».
В глубокой древности никто не искал их целенаправленно, но некоторые обобщенные правила закреплялись в культуре практикой. Например, знаменитый египетский треугольник со сторонами длиной 3, 4 и 5 единиц, который, независимо от размера и материала, обязательно будет иметь прямой угол. Или не менее известное правило, связывающее разливы Нила с появлением на небе Сириуса. Подобные правила передавались из поколения в поколение без объяснений и обобщений.
Впервые о поиске общих правил и их природе всерьез задумались в Древней Греции. Именно тогда была систематически разработана логика и сложилось представление о математическом доказательстве. Вершиной греческой науки стала аксиоматическая геометрия Евклида, которая и по сей день преподается в школе. Но доказательства, так замечательно работавшие для мысленных математических объектов, были далеко не столь надежны в повседневной жизни. Греческие философы хорошо понимали, что математическая окружность – это совсем не то же самое, что окружность, нарисованная на песке. Поэтому Платон разделил мир на идеальный и реальный. В первом содержатся безупречные общие правила и свойства, доступные нашему мысленному взору, второй же состоит из их грубых воплощений, которые лишь приблизительно следуют идеальным образцам. Познать общие правила можно только умозрительно, пытаясь подсмотреть их в идеальном мире. Попытки вывести их из опыта в несовершенном реальном мире противоречили самому духу античной философии (хотя допускалось, что остроумное наблюдение может навести на правильную мысль и помочь умозрительному познанию).
Не жаловало подлунный мир и пришедшее на смену античности христианство. Но, хотя источник законов в нем был иной, способ их познания по-прежнему не предполагал обращения к реальному миру. Не имея своей физики и космологии (за исключением весьма общих формулировок Книги Бытия), христианство заимствовало умозрительную античную науку и держалось за нее вплоть до начала революционных перемен эпохи Возрождения. Достоин удивления тот факт, что, например, геоцентрическая система Птолемея, не имея никаких подтверждений в Священном Писании, тем не менее воспринималась как неотъемлемая часть христианской картины мира. Так что даже Коперник рассматривал свою гелиоцентрическую систему мира не как теорию, отражающую реальный порядок вещей, а лишь как более простой и удобный способ астрономических расчетов.

Система Птолемея в виде небесной сферы, поддерживаемой титаном Атлантом. Понятие «небесная сфера» сохранилось и в современной астрономии, но теперь ее считают условной воображаемой поверхностью. Фото SPL/EAST NEWS
Геоцентрическая система Птолемея
Описывала видимые движения планет кинематически, не пытаясь искать причины этого движения. Обнаруживаемые расхождения между расчетами и наблюдениями заставляли вводить новые поправки, усложняя систему. Гелиоцентрическая система Коперника упростила расчеты, но строилась на прежнем предположении о круговых движениях планет, и ее точность тоже была низкой. Кеплер, допустив некруговые (эллиптические) орбиты, значительно повысил точность. Позднее законы Кеплера были выведены из законов Ньютона, которые легли в основу небесной механики. В современных точных расчетах учитываются также поправки, связанные с теорией относительности.
Наука нового времени
Однако подхвативший идеи Коперника Галилей не был столь осторожным и стал проверять, а как же устроен мир на самом деле. Его обращение к эксперименту следует, по большому счету, признать моментом рождения науки, во всяком случае, в современном смысле этого слова. Фактически Галилей предложил новую методологию научного исследования: вместо умозрительного познания идеальных законов он поставил перед наукой амбициозную задачу – постичь замысел Творца, изучая созданный им реальный мир. В определенном смысле такая наука была куда более христианской, чем прежняя средневековая схоластика (представляющая собой синтез христианского богословия и аристотелевой логики), постоянно ссылающаяся на авторитет Аристотеля. В самом деле, раз мир создан Творцом, то его следует изучать столь же досконально, как Писание, стремясь найти в нем безупречную божественную гармонию.
Этот подход оказался поразительно эффективным. Выяснилось, что новые законы и закономерности едва ли не сами валятся вам на голову. Причем многим из них быстро нашлись удивительно полезные применения (маятниковые часы, хронометр с пружинным балансиром, паровые машины, термометры и т. п.). Наука стала двигателем технического прогресса, впечатляющие достижения которого, выраженные в конечном счете деньгами, оружием и отчасти комфортом (то есть всем тем, что в первую очередь интересует финансирующих науку), резко укрепили доверие к новой методологии познания. Суть ее сводилась к построению естественных наук по образцу математики: от «самоочевидных» аксиом к строго доказанным теоремам. Не случайно основополагающий труд Ньютона назывался «Математические начала натуральной философии».
Расхождения теории и практики, которые для греков были имманентной проблемой, теперь стали источником задач, многие из которых удавалось успешно решить. Оказалось, что огромное количество явлений можно объяснить, исходя из небольшого числа простых и красивых законов-аксиом, которые, как считалось, открываются умозрительно, благодаря интуиции исследователя, но подтверждаются и доказываются путем опытной проверки вытекающих из них следствий. Научные теории воспринимались как свойство самого реального мира, нужно было просто их распознать, «прочитать книгу Природы», и подтвердить несколькими примерами правильность прочтения. Этот подход позднее получил название джастификационизма (от англ. justify – «оправдывать», «обосновывать»). Джастификационистский фундамент, заложенный в XVII веке трудами Галилея и Ньютона, оказался настолько крепким, что на протяжении двух столетий определял развитие науки. Но тем серьезнее оказался кризис, когда стали появляться экспериментальные данные, несовместимые с ньютоновской физикой.

«Алхимик», раскрашенная гравюра Жака Луи Перье, выполненная с картины фламандского живописца XVII века Давида Тенирса-младшего. фото LEEMAGE/EAST NEWS
Алхимия
Раньше других наук пошла по экспериментальному пути, наработав методом проб и ошибок много полезных рецептов. Свойства веществ объяснялись сочетанием в них первичных элементов-стихий, но предсказательный потенциал алхимии был очень низок, что отчасти маскировалось эзотерическим духом учения. Главное предсказание о существовании «философского камня», способного превращать металлы в золото и продлевать жизнь человека, завело алхимическую исследовательскую программу в тупик. С XVII—XVIII веков начинает развиваться химия, которая дает более последовательное объяснение свойств веществ и постепенно приходит к современной атомно-молекулярной теории.
Теорию нельзя доказать
А таких примеров к концу XIX века накопилось немало. Никак не удавалось объяснить небольшое несоответствие в движении Меркурия , открытое Леверье в 1859 году. Орбита планеты систематически «уходила» от расчетной. Отклонение было крошечным, всего 43 угловые секунды в столетие, но ведь доказательная теория, основанная на божественных законах, не может быть неточной. Другую проблему подбросила новорожденная электродинамика. Согласно уравнениям Максвелла (1864), электромагнитное взаимодействие всегда распространяется одинаково быстро – со скоростью света. Но это прямо противоречит принципу сложения скоростей в механике Ньютона: как может луч света иметь одинаковую скорость, скажем, относительно движущегося поезда и неподвижного перрона? Кроме того, не удавалось в рамках классической механики объяснить устойчивость атомов и закономерности теплового излучения.
Справиться со всеми этими проблемами позволили теория относительности и квантовая механика, которые показали, что теория Ньютона не является абсолютно точной. Даже хуже того, сами базовые принципы новых теорий оказались совершенно иными. Для концепции джастификационизма это был приговор. Ни о каких доказательствах естественно-научных теорий больше не могло быть и речи. «Открытие греками критического метода вначале породило ошибочную надежду на то, что с его помощью можно будет найти решения всех великих старых проблем, обосновать достоверность знания, доказать и оправдать наши теории. Однако эта надежда была порождена догматическим способом мышления, ибо на самом деле ничего нельзя оправдать или доказать (за пределами математики и логики)» – так резюмировал крах джастификационизма философ науки Карл Поппер в книге «Предположения и опровержения», изданной в 1963 году.