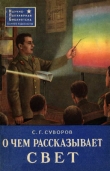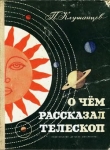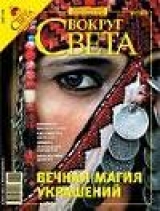
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 2008 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Зато совсем низко над водой, по пути нашего следования постоянно носится маленькая головастая черная птичка, словно высматривая что-то в водной глади. И впрямь высматривает: вдруг ныряет вниз, почти задевая крыльями воду, и взмывает вверх, уже с добычей в черном клюве. Это гаррапатеро ( Crotophaga sulcirostris ) – птичка, пробавляющаяся водными жучками, паучками, клещами, которые по-испански называются «гаррапатос». А в этих краях гаррапатеро еще называют «косинеро», что значит «повар». Над водой, охотясь, птичка движется молча. А вот, забравшись в прибрежные заросли после «налета», принимается трещать – пронзительно и как-то при этом шепеляво, похоже не то на закипающий чайник, не то на шипящее на сковороде масло. А уж когда их несколько и они запустят свои трещотки – точно кухня в разгар готовки. Отсюда и «повар».
Или вот неожиданно перед нами – обезьянка, сорвавшись после очередного прыжка с ветки, падает в воду, но, не растерявшись, по-собачьи молотит по воде лапками и – выплывает на берег. Цепляется одной «рукой» за лиану, повисает в воздухе, отряхивается, обдав все вокруг веером брызг, и исчезает в зарослях. Оказалось, что эти обезьянки, известные здесь под названием «монос ардильяс» (по-научному – Saimiri oerstedii) – «обезьяны-белки», – не только умеют, но и любят барахтаться в воде. Еще их здесь называют «монос пайасос» – «паяцы» – за раскраску мордочки, действительно напоминающую маску грустного белого клоуна. Эти обезьянки , в отличие от большинства своих собратьев, любят проводить время на земле, а не только на деревьях. Еще одна их особенность – голосовые данные. Они издают до нескольких десятков разнообразных криков, подражая звукам окружающей сельвы.
Самая банановая республика
Считается, что «банановой республикой» в полном смысле этого слова Эквадор перестал быть в 1973 году, когда здесь нашли нефть – ныне основной продукт экспорта. Однако и сегодня треть съедаемых в мире бананов поступает по-прежнему отсюда. Их выращивают на 180 тысячах возделанных гектаров, и занято в этом секторе 12 процентов трудоспособного населения. Самое забавное, что банан отнюдь не исконная латиноамериканская культура. Он был завезен на континент португальскими колонизаторами из Африки в XVI веке. Интересно, что сами они эти фрукты поначалу не ели, а кормили ими рабов и скотину. Вплоть до XIX века банан был неизвестен жителям не только Европы, но даже Северной Америки, так как считался непригодным для транспортировки. Впервые эквадорские бананы были представлены в 1876 году на выставке в Филадельфии, посвященной столетию провозглашения независимости США. Каждый плод был обернут в вощеную бумагу и стоил весьма недешево – 10 центов (столько, сколько кружка пива). Вскоре после этого Штаты, а затем и Европа оказались охвачены «банановой лихорадкой». Уже в 1890 году США импортировали 16 миллионов так называемых «банановых соцветий». Вплоть до 1950-х годов эти «соцветия» – стволы, на которых должно быть не меньше трехсот плодов, – оставались основной единицей измерения в торговле бананами. Теперь на смену им пришел 18-килограммовый ящик. Не будет преувеличением сказать, что сегодня «банановой лихорадкой» охвачена Россия: этот фрукт занимает второе место после яблок в списке предпочтений населения. 90 процентов бананов, которые едят в России, – из Эквадора.

Беличьи обезьяны, или, как их тут еще называют, обезьяны-паяцы (Saimiri oerstedii), комфортно чувствуют себя не только на деревьях, но и на земле, и даже в воде
Братья наши меньшие
Вскоре глаз устает от зеленого однообразия сельвы, перестает фокусироваться на деталях. Сулема, наш гид, показывает на вершину прибрежной пальмы, где, по ее словам, примостился пересосо (представитель семейства Bradypodiae) – ленивец . А я ничего не вижу, хотя ленивец не такой уж мелкий зверь. Но – сливается с окружающим фоном полностью, спасаясь тем самым от зорких стервятников. Ведь другой защиты, кроме цвета ( знаменитая мимикрия ), ему природа попросту не дала. Медлителен, физически слаб, спит, бедняга, по 20 часов в сутки, экономя энергию. Питается только листьями, в которых калорий для него явно недостаточно, пищеварительный процесс чрезвычайно замедленный, температура тела низкая. За месяц ленивец способен преодолеть расстояние не более одного километра.
А вот вдруг справа по курсу оживает какой-то торчащий из воды пень: то, что казалось наростами на его коре или прилипшими к ней пожухшими листиками, вдруг, бесшумно хлопая крыльями, взмывает в воздух. Пустяки, отряд летучих мышей, которым мы поломали дневной отдых. Мурсиелагос наригонес, «носачи», как называется эта разновидность по-испански (по латыни – Rhynchonycteris naso), не просто искусно мимикририруют под прошлогоднюю листву или древесную кору. Когда спят, они еще умудряются покачиваться в такт дуновениям ветра, чтобы их вовсе было не отличить от неодушевленной природы.
Ну и в заключение прогулки – самая мелкая «деталь». Еще одно небольшое обезьянье семейство. Это – игрунки, самые маленькие из всех 19 видов обезьян, обитающих в Эквадоре, и вообще самые маленькие обезьянки в мире. Наиболее «крупные» экземпляры достигают 10—12 сантиметров, весят меньше 100 граммов. Леонсильос (Callithrix pygmaea) – «львята»: так их называют за сходство окруженной густым ореолом волос мордочки со львиной. Сходство, конечно, в масштабе тысяча к одному…
Обед с окулистом
Последний день – вновь в Кито – оказывается особенным, одним из самых важных в католическом календаре Латинской Америки: 2 ноября, День Поминовения Усопших – Dia de los Fieles Difuntos. С утра моросит мелкий дождь, а люди нескончаемыми вереницами движутся по круто взмывающим вверх и сбегающим вниз улицам по направлению к церквям и кладбищам. Нет, этот день не погружен в какой-то беспросветный траур. Он, скорее, светел, объединяет в себе и жизнь, и смерть, и память, и житейские хлопоты по приготовлению обильного поминального стола. К нему готовятся заранее все кулинары, на улицах идет бойкая торговля всевозможной снедью – пирожками, чичаронес (свиными шкварками), вареными кукурузными початками, яблоками в карамели. Главное блюдо этого дня, которое и готовится только раз в году, – колада морада, сложносоставное варево, напоминающее кисель. Его разливают буквально на каждом шагу. Оно согревает, придает сил после многочасового коленопреклоненного стояния на кладбище и в церкви.

Любимое блюдо эквадорцев – жареные морские свинки
Мы заходим пообедать в небольшой ресторанчик, специализирующийся на национальной кухне. Мой отважный коллега заказывает зажаренную морскую свинку. Много раз я пытался заставить себя попробовать это любимое блюдо эквадорского народа, но так и не сумел. Беру что-то более тривиальное. Впрочем, свою приверженность национальному колориту обозначаю, заказав кувшин чичи – традиционной кукурузной бражки. Внезапно сзади нас начинается какое-то движение. Сдвигаются столы и стулья, освобождается пространство, в центре которого на единственном оставшемся столе человек в белом халате раскладывает множество очков и еще каких-то оптических приборов. Прямо к спинке моего стула его ассистентка прислоняет таблицу для проверки зрения. Несколько зашедших с улицы людей усаживаются на стульях в очередь, держа в руках бумажки, похожие на рецепты. Они явно пришли сюда не свинок есть.
Куда мы попали? Для ответа на этот вопрос вызываю официанта. Он объясняет: в этот час профессор-окулист арендует у них для приема часть зала. Официант выражает надежду, что это не помешает нашей трапезе. Нет, конечно. Окулист так окулист. Не гастроэнтеролог же. Официант оценивает мое латиноамериканское чувство юмора, громко загоготав. Очередь очкариков не обращает на нас ни малейшего внимания. Мы тоже возвращаемся каждый к своему: Лев – к свинке, я – к чиче.
Я вспоминаю Габриэля Гарсиа Маркеса: для описания латиноамериканской действительности необходим какой-то особый художественный метод, способный объединить несоединимое. Маркес называет этот метод магическим реализмом. Действительно, с помощью одних только реалистических приемов или, наоборот, лишь с помощью гиперболы и гротеска Латинскую Америку не понять и не изобразить. А уж тем более такую ее часть, как Эквадор. Небольшая, казалось бы, страна, вместила в себя и объединила столько противоречивой экзотики – и нулевую параллель, и вулканы, и джунгли… Так, что Маркесу впору было бы родиться тут, а не в соседней Колумбии.
Фото Льва Вейсмана
Леонид Велехов
Рожденные Олдредом

385 миллионов лет назад, рыба Panderichthys rhombolepis
Целые скелеты в чешуе обнаружены в 1970-х годах в Латвии
В середине девонского периода начался новый этап в эволюции растительного и животного мира Земли. Появились условия для крупномасштабного освоения суши. Именно тогда на доисторическую арену вышли необычные рыбы – пандерихты, сходные по некоторым признакам с амфибиями. Это метровые рыбы из группы рипидистий, которых ранее вместе с латимерией называли кистеперыми. Длинные, но с коротким хвостом, пандерихты обитали на неглубоких морских отмелях и в лагунах на восточной окраине континента Олдред – ныне это территория Прибалтики. Как многие древние рыбы, они умели дышать воздухом и ползать на крепких мускулистых плавниках. Во время отливов они вполне могли охотиться за оставшимися на берегу астеролеписами – тоже вымершими панцирными рыбами, которых из-за необычного строения поначалу принимали то за промежуточное звено между рыбами и черепахами, то за членистоногих. Дело в том, что все их туловище заковано в панцирь, а грудные плавники похожи на ноги краба, то есть не имеют внутреннего скелета. Эти жесткие длинные плавники не годятся для плавания, но благодаря острому кончику хороши для передвижения по дну или берегу. Рис. Ольга Орехова-Соколова
Ископаемые остатки первых четвероногих ученые обнаружили в осадочных породах, образовавшихся примерно 365 миллионов лет назад. Это были существа, приспособленные для жизни и в воде, и на суше, – амфибии, или земноводные. Какие же рыбы были их предками? И что этих животных влекло на сушу? Версии строились до тех пор, пока в последние два десятилетия не явились находки, приоткрывшие завесу над этими тайнами.
События, в результате которых обитатели водной среды стали осваивать сушу, начали разворачиваться более трехсот миллионов лет назад, в середине геологического периода, именуемого девонским. Это название ввел в обиход один из основателей геологии, Адам Седжвик – наставник Чарлза Дарвина. Оно произведено из названия английского графства Девоншир, где геолог работал. Здесь он обнаружил горные породы красноватого цвета, которые он проницательно счел очень древними. Седжвик назвал их old red sandstone – древним красным песчаником. Как позже выяснилось, этот характерный цвет унаследован от гор, возвышавшихся над давно распавшимся континентом, который так теперь и называют – Олдред. Горы были разрушены до основания дождем и ветром, и получившийся из камня песок похоронил под собой остатки живших в той стране девонских организмов. Потом рыхлый песок превратился в плотную породу – тот самый старый красный песчаник.
Олдред был жаркой страной поскольку среднегодовая температура на планете в тот период была примерно на 3 градуса выше нынешней, а континент располагался на самом экваторе. Чтобы соотнести его с нынешними материками, нужно отсечь Европу по Урал и повернуть ее на 90° против часовой стрелки, а Северную Америку, наоборот, – на 90° по часовой стрелке, и плотно сомкнуть их так, чтобы Гренландия соединилась со Скандинавией. Остается передвинуть эти земли к нулевой широте (а Африка тогда находилась еще южнее – в составе суперконтинента Гондваны) и частично затопить Мировым океаном – получится Олдред. Именно на его территориях, в настоящее время соответствующих Гренландии, Канаде и Европе, палеонтологи обнаружили наиболее полные и достоверные находки промежуточных между рыбами и амфибиями форм. Поэтому можно предположить, что выход позвоночных на сушу состоялся именно здесь.
Олдред был окружен широкими морскими отмелями, плавно переходящими в полосу приливов. В глубине материка располагались низины, занятые пересыхающими время от времени болотами, озерами и неторопливыми мелководными реками. Добавим к этому чередование сезонов тропических ливней и засух – и перед нами среда обитания, где граница воды и суши совершенно размыта. В морских лагунах у восточного побережья Олдреда 385 миллионов лет назад обитали пандерихты – крупные, около метра длиной рыбы, у которых появились первые отчетливые приспособления для передвижения по суше. Спустя 5 миллионов лет во внутренних водоемах другой части континента появился тиктаалик – еще более крупный хищник с усовершенствованным скелетом ластов. Об открытии останков этой рыбы на арктическом острове Элсмира, принадлежащем Канаде, стало известно в 2006 году.
Крупные хищники, пандерихт и тиктаалик, сильно отличались от современных рыб. У них было удлиненное туловище без спинного плавника, покрытое толстой ромбической чешуей, укороченный хвост и вытянутая морда с особо крепкими зубами. Глаза у этих хищников выступали на морде, как у крокодилов, и позволяли наблюдать обстановку выше линии воды. А главное – их грудные и брюшные плавники уже способны были служить опорами на суше, поскольку представляли собой мускулистые ласты. Они могли пригодиться и в мелких, заросших водорослями водоемах, где эти существа проводили основную часть времени. Вряд ли в таких условиях им приходилось свободно плавать, скорее, отталкиваться от дна и раздвигать растительность. Скелет грудных плавников у тиктаалика уже немножко больше, чем у пандерихта, похож на скелет лап древних амфибий – ихтиостег, акантостег и тулерпетонов, которые появились в водоемах Олдреда еще через 15 миллионов лет. Возможно, именно тиктаалики и были прямыми предками земноводных – ничто в строении этих древних рыб этому не противоречит.

380 миллионов лет назад, рыба Tiktaalik roseae
После нескольких лет целенаправленных поисков на Канадском арктическом острове Элсмира описана в 2006 году американскими учеными
Тиктаалик обитал в медленно текущих реках на севере древнего материка Олдред. Он был очень похож на пандерихта, но имел улучшенные сухопутные качества. Жаберный насос был демонтирован благодаря утрате жаберной крышки. Зато ребра были расширены, очевидно, для повышения эффективности легочного дыхания. Крепкие ласты имели улучшенную конструкцию. Если бы они кончались не кожистой оторочкой, а настоящими пальцами, мы бы назвали тиктаалика уже не рыбой, а настоящей четвероногой амфибией. А пока ноги сделаны как бы наполовину, в связи с чем ученые в шутку прозвали тиктаалика "рыбоногом". Большую часть времени тиктаалик, как и пандерихт, проводил на мелководье, выставив на поверхность только глаза, как это делают современные крокодилы. Оттуда хищник высматривал добычу на берегу. Старые, двухметровые тиктаалики были уже слишком тяжелы, чтобы далеко отползать от реки. По-видимому, более далекие вылазки на берег совершались в молодости, тем более что в пищу маленькому тиктаалику годилась такая мелочь как многоножки, скорпионы и пауки, которые уже бегали по суше. Рис. Ольга Орехова-Соколова
Что общего у тулерпетона и саргассового клоуна?
Из первых амфибий лучше всего изучены акантостега и ихтиостега, найденные в Гренландии, и тулерпетон из Тульской области. Многое у них осталось от рыб – у акантостеги были развиты внутренние жабры и хвостовой плавник, а брюхо в том числе и продвинутого тулерпетона покрыто рыбьей чешуей (кстати, ее остатки спрятаны в коже на брюхе даже у современных крокодилов). Но что делает их полноправными четвероногими, так это настоящие пальцы на лапах, только число их больше обычного. У акантостеги – восемь, у ихтиостеги – семь, у тулерпетона – шесть. Задние лапы тулерпетона уже более развиты, чем передние, и имеют «кирпичную кладку» из мелких косточек в области голеностопа, что достаточно недвусмысленно указывает на их сухопутное применение. Однако многие ученые теперь трактуют само появление на лапах пальцев не как приспособление для наземного передвижения, а как средство эффективнее цепляться за дно или подводную растительность. Ведь и современные рыбы под названием саргассовые клоуны тоже имеют некое подобие пальцев на плавниках, как раз чтобы держаться ими за водоросли. Но нет сомнения, что пальцы у древних амфибий были доведены до совершенства уже в рамках сухопутного передвижения. Не зря же их число сократилось до пяти уже через несколько миллионов лет после появления первых земноводных. На суше нужны более крепкие и толстые пальцы, а каждый такой палец – это лишний вес.
«Второе дыхание»
Английская исследовательница Дженифер Клак в 2007 году суммировала данные различных специалистов об экологических условиях на нашей планете 385—360 миллионов лет. Доля кислорода в атмосфере составляла 15% против нынешних 21%, а углекислого газа, наоборот, было больше, чем сейчас, в 10 раз – 0,3%. Такой состав способствовал фотосинтезу растений, и они стали бурно развиваться и завоевывать новые территории. Моря изобиловали водорослями, а поверхность суши заросла первыми деревьями с мощной корневой системой и широкой кроной. Это были первые леса на Земле. Верхний ярус составляли главным образом археоптерисы – деревья той группы, от которой произошли голосеменные. Стволы их достигали высоты 30 метров и полутораметровой толщины, а под ними нижним ярусом росли древовидные папоротники псевдоспорохнусы и ракофитоны. В этих лесах впервые образовался толстый слой почвы, и гниющая органика в небывалых прежде масштабах стала стекать в озера, реки, неглубокие окрестные моря. Растворенный в воде кислород почти полностью уходил на окисление этой органики, и рыбам ничего не оставалось делать, как пользоваться для дыхания атмосферным воздухом. Словно дельфины, они то ныряли на глубину за едой, то поднимались на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Для этого у древних костных рыб, в том числе у пандерихта и тиктаалика были легкие. Конечно, они не сохранились в окаменелом состоянии, но если судить по архаичным видам, дожившим до наших дней, – двоякодышащим, многоперам, панцирным щукам и ильным рыбам, – легкие появились еще на заре эволюции костных рыб, задолго до описываемых событий, примерно 420 миллионов лет назад. Ими рыбы пользовались для дыхания при всплытии и в качестве поплавка, поддерживающего в воде тяжелый костный скелет и чешуйчатую броню. Жабры под водой не работали, так как там не хватало кислорода, а вот для недолгих экскурсий по суше тиктаалику они пригодились. Дело в том, что он лишился жаберной крышки и тем самым открыл внешний путь к своим жабрам для атмосферного кислорода. Утрата жаберной крышки – это еще один шажок в сторону амфибий.

Так сотни миллионов лет назад выглядел древний материк Олдред
Стратегия выживания
Попробуем представить себе образ жизни тиктааликов хотя бы гипотетически. Придется, конечно, сделать некоторые допущения на основе примеров из современности и здравого смысла. Начнем с того, что метание икры в те времена проходило в экстремальных условиях: ведь для развития икринок необходимо много кислорода, которого в воде практически не было. Приходится предположить, что икра плавала на поверхности воды, находясь в прямом контакте с воздухом. Для поддержания плавучести внутри каждой икринки должна была находиться капелька масла, своеобразный поплавок. По всей видимости, пандерихты и тиктаалики (а также древнейшие амфибии) метали более крупную икру, чем любая из современных «красных» рыб. Свободно плавающая жирная масса представляла собой легкую добычу.
Как же можно было уберечь будущее потомство? Вряд ли на мелководьях – они как раз были густо населены прожорливой живностью. Взять хотя бы небольшую панцирную рыбу астеролеписа, питавшуюся водорослями и служившую, видимо, основной добычей самих пандерихтов и тиктааликов. В Палеонтологическом музее в Москве хранится целая плита с окаменелыми остатками – часть дна прибрежной лагуны, существовавшего на территории Латвии в девонский период. Множество астеролеписов буквально запечатано в этой плите вместе с пандерихтами и их дальними родственниками – лаккогнатами, что свидетельствует о степени заселенности прибрежных мелководий. Многочисленные астеролеписы вполне могли поглощать плавающую икру заодно с водорослями.
В таких условиях наилучшая стратегия размножения для тиктаалика состояла, видимо, в том, чтобы на время нереста покидать материковые водоемы, спускаясь по рекам, отплывать подальше от берегов и там, в свободном плавании, оставлять будущее потомство. Кстати, в море икра не только находилась в большей безопасности, но и лучше развивалась, так как туда уже не распространялась сточная органика, отбирающая из воды растворенный кислород.
Проклюнувшись из икры, мальки тиктааликов набирали вес, питаясь вначале планктоном. А когда они достигали размера, скажем, окуня, тиктаалики отправлялись в реки, на постоянное место жительства. Дело в том, что в открытой воде тиктаалики маневрировали плохо, ведь у них отсутствовали спинные плавники, а это все равно, что стрела без оперения. На мелководье, пробираясь среди водорослей, они чувствовали себя более комфортно, здесь обитало огромное количество растительноядных рыб, и подрастающие тиктаалики на них охотились. Однако жизнь молодежи была полна опасностей. Она подвергалась атакам со стороны более крупных водных хищников, в том числе и родственников. Спасала толстая чешуя, защищавшая их тело, и способность переползать в менее опасные водоемы.
Время от времени рыба переходила в другой водоем в поисках пищи. В сезон засухи марш-броски приходилось делать все чаще и дальше. Когда и в последнем доступном водоеме вода пересыхала, рыба зарывалась в глину, чтобы сохранить кожу влажной. Так, без движения, она пережидала трудный период. Поскольку кожа и жабры в таком виде не имели доступа воздуха, то дышать приходилось только легкими, через ноздри. А ноздри у тиктаалика были особенными. Известно, что обычный рыбий нос служит только для обоняния. Каждая ноздря двойная – с входным и выходным отверстием наружу, но без сквозных проходов в ротовую полость. У тиктаалика же наружная ноздря находилась прямо у края верхней губы, от которой в пасть, пересекая губу, вела канавка, – что и позволяло всасывать воздух через нос и рот в легкие. Сходными ноздрями обладал и пандерихт. Таким образом, дожидаясь периода дождей, эти рыбы могли лежать в глиняной оболочке месяцами, высунув только нос. После подобного вынужденного заключения они, несмотря на замедление обмена веществ, выходили наружу сильно исхудавшими и пропитанными собственной мочевиной.
В общем, сегодня мы приблизительно понимаем, почему рыбы стали искать жизни на суше. В воде – нехватка кислорода и острая конкуренция, а вне воды – воздух и свобода. Огромный материк Олдред с его обилием мелких водоемов и заболоченных лесов создавал выгодные условия для поиска пищи пешим способом. И в этой пограничной среде обитания появились новые виды, подобные пандерихту и тиктаалику. Хотя они и продолжали проводить большую часть времени в воде, более ответственными с точки зрения выживания постепенно становились недолгие выходы на сушу, например, во время засухи. При этом строение древних рыб не требовало даже серьезных изменений. Важнейшие конструктивные узлы у них уже имелись – легкие и четыре крепких ласта. Весь же процесс превращения рыб в четвероногих растянулся примерно на 20 миллионов лет и охватил огромные территории материка. До нас дошли лишь отголоски этого могучего эволюционного взрыва, породившего новый класс позвоночных – амфибий. И хотя основные вехи этого процесса уже установлены, научный мир ожидает новых удивительных находок в красных землях древнего, давно распавшегося материка.
Александр Кузнецов