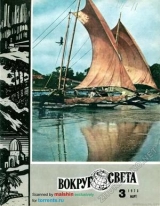
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 1973 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Папирусная цивилизация

Можно ли заниматься скотоводством в условиях кочевой жизни на воде? Сама постановка вопроса на первый взгляд может показаться парадоксальной. Ведь в обычном представлении разведение крупного скота – скажем, буйволов – неизменно связывается с просторами степей или саванн. Между тем существует на свете народ котоко, который занимается скотоводством, проводя большую часть жизни на воде. Причем решающую роль во всем этом сыграло травянистое растение из семейства осоковых, известное под названием папируса.
Озеро Чад у южной кромки Сахары – настоящее царство папируса. Там сходятся границы четырех африканских государств – Чада, Камеруна, Нигерии и Нигера. По предположениям ученых, в доисторическую эпоху здесь находилось огромное море, остатком которого является нынешнее озеро. Возможно, что и оно бы не уцелело – интенсивное испарение под палящими лучами солнца и сильный подземный отток, питающий грунтовые воды окрестных районов, рано или поздно высушили бы Чад, если бы не река Комадугу-Иобе. По таинственной причине она изменила свое русло и пришла на выручку умирающему морю. Вместе с Шари она и теперь определяет уровень воды и площадь озера. Начинается сезон дождей, и бурные речные потоки чуть ли не вдвое – до 18 тысяч квадратных километров – увеличивают Чад. Приходит сухой сезон – и вода отступает, оставляя позади бесконечные непролазные болота.
Ветер и течение отрывают от береговой кромки целые растительные острова из папируса и гонят их по всему озеру. Опорой для таких плавающих островов служат крепко переплетенные корни растений, а опавшие и перегнившие листья становятся отличной почвой для новых побегов. «Эти острова, – свидетельствует итальянский журналист Фолько Куиличи, – представляют немалую опасность при плавании по озеру, особенно ночью. Внезапная смена ветра или течения может сделать вашу моторную лодку на долгое время узником «зеленой травы». На берегах Чада вам расскажут множество историй о том, как путешественники попадали в плен к папирусу и, чтобы спастись, были вынуждены поджигать плавучие острова, с огромным трудом прокладывая себе дорогу через коварный папирус».
Именно папирусные острова и стали для котоко в буквальном смысле слова «родной землей». Правда, тем, кто впервые ступает на нее, она кажется предательски непрочной. «Ощущение такое, будто идешь по батуду, – рассказывает английский путешественник Ф. Хеппер. – А если к этому еще прибавить сплошные дыры, скрытые в траве, в которые свободно проходит нога, то можете понять, почему в первые же минуты моего визита к котоко я оказался вымокшим до пояса».
Однако сами котоко не жалуются на папирус. Для них он вовсе не наказание, а, напротив, дар божий. Сплетенный из папируса мат служит одновременно и фундаментом, и полом жилища. Достаточно связать над таким матом высокие стебли этого растения – и готов каркас легкой хижины; остается только покрыть его травяными циновками или парусиной. Столь же просто с помощью папируса решается и транспортная проблема. Очищенные от листьев стебли свиваются в длинные – до 12 метров – пучки, которые затем связываются в виде своеобразных веретен с приподнятым носом. Это и есть нземи – легкие пироги котоко.
Прежде чем пуститься на такой папирусной лодке в плавание, ее в течение пяти дней выдерживают на плаву. После этого нземи практически больше не впитывает воду. На крайний же случай ее всегда можно вытащить на берег и просушить на солнце. Наконец, тот же папирус дает топливо для копчения рыбы и приготовления пищи. Одним словом, плавучие папирусные острова, на которых живут котоко, обеспечивают их всем необходимым.
И все же жизнь этого народа далека от идиллии. Котоко стали «водяными скотоводами», кочующими по озеру Чад, отнюдь не из любви к странствованиям. Дело в том, что растительность по его брегам весьма чахлая и прокормить ею скот просто невозможно. Причем в сухой сезон сами берега превращаются в топкие болота, а в период дождей оказываются на трехметровой глубине. Зато по озеру плавают отличные естественные пастбища, добираться до которых, правда, и пастухам и скоту приходится вплавь. Беда еще и в том, что никто не знает, куда погонит ветер, и течения папирусные острова и где они остановятся. Вот и кочуют котоко со своими стадами в поисках этих плавучих пастбищ по Чаду.
...Впереди на узких вертких нземи плывут пастухи-мужчины, длинными шестами подгоняя и направляя своих буйволов. Эти выносливые животные способны проплыть не один десяток километров: силы им не занимать, а длинные, загнутые книзу полые рога помогают буйволам держать рот и ноздри над водой. Впрочем, во время особенно далеких заплывов котоко не довольствуются этими естественными поплавками-понтонами и дополняют их связками высушенного папируса, которые привязывают буйволам на шею.
Женщины, дети и старики со всем домашним скарбом также кочуют с острова на остров вслед за стадами, благо устройство на новом месте не отнимает много времени. И только в разгар сезона дождей большая часть этого стотысячного народа переселяется в глиняные поселки, расположенные по южным берегам озера на территории Чада и Камеруна.
Ученые долгое время бились над разгадкой тайны происхождения самобытной «папирусной цивилизации» котоко. Сами кочевники на вопрос: «Кто вы? Откуда?» – обычно отвечают: «Мы из воды!» Причем это не преувеличение, а искренняя убежденность. У котоко существует даже легенда, согласно которой их далекие предки якобы постоянно обитали в озере, подобно рыбам, и выходили на сушу только для того, чтобы погреться на солнце. На самом же деле предки котоко, называвшие себя «сао», вместе с племенами сара, вадаи, банана, багирми, составляли древнее население берегов Чада на границе между Сахарой и Черной Африкой. Позднее они стали объектом захватнических набегов арабов, которые превращали их в рабов и вывозили в страны Среднего Востока. Чтобы спастись от поработителей, сао стали укрываться на плавучих островах и постепенно перешли к кочевому образу жизни на просторах Чада; там они чувствовали себя в безопасности.
Весьма необычна и социальная иерархия котоко. Их единоличным властителем является верховный вождь, объединяющий в своем лице функции целого кабинета министров: он одновременно и главный жрец, и верховный судья, и министр обороны и иностранных дел. Правда, официально он именуется куда скромнее: «Тот, кто следует за тем, кто был раньше, и предшествует тому, кто будет потом». Происхождение столь странного титула, по свидетельству французской исследовательницы Анни Лебеф, вызвано тем, что у котоко не существует ни имен собственных, ни географических названий в строгом смысле этого слова.
Резиденцией верховному вождю служит белый дворец из обожженной глины, стоящий на высоком месте и во время сезона дождей надежно защищенный от половодья. Впрочем, на всякий случай во дворе дворца на высоких козлах все же хранится пирога, которая никогда не должна касаться днищем земли, дабы не навлечь беду на котоко. Власть верховного вождя, несмотря на широкие прерогативы, вовсе не является абсолютной диктатурой. Она к тому же строго регламентируется множеством всяческих запретов: например, в течение всего своего правления верховный вождь не имеет права общаться не только с бывшими друзьями, но и с собственными родственниками; он не должен смотреть на восход и закат солнца и т. д. и т. п. Зато каждый поступок верховного правителя носит своего рода «директивный характер» и, в свою очередь, определяет многие стороны жизни котоко. Сменил, например, вождь верхнюю трапезную на нижнюю – значит, настало время резать лишних буйволов и вялить мясо. Повелел владыка принести для утреннего умывания воду из источника, а не из озера, – пришла пора готовить папирус для новых нземи.
Однако стоит верховному вождю ненароком нарушить традиционный этикет, и его власти приходит конец. Кто-нибудь из почтенных старцев глиняного городка на рассвете приходит ко входу во дворец, бросает на землю сплетенные из полосок папируса сандалии и провозглашает древнюю формулу: «Народ недоволен тобой!»
Так происходит бескровный переворот у народа котоко. Остается только пробить в стене дворца новую дверь – прежним выходом низвергнутый верховный вождь пользоваться уже не имеет права – и выбрать нового правителя. Прежний же властелин возвращается в свою общину и начинает снова вести жизнь простого кочевника на озере Чад.
Сергей Паверин
Вещественные доказательства?
Отрывок из статьи, посвященной связям между Старым и Новым Светом в древности.
В одной из майяских пирамид, в Чичен-Ице на Юкатане, была обнаружена внутренняя камера, стены и прямоугольные колонны которой были оштукатурены и расписаны цветными фресками, подобно королевским склепам Ниневии и Египта. Эти фрески, тщательно скопированные археологами Э. Моррисом, Дж. Шарло и А. Моррисом в 1931 году, впоследствии были уничтожены влагой и туристами. Одна из росписей повествует о битве в приморье с участием двух различных расовых типов. Люди одного типа (белокожие, с длинными желтыми волосами) находятся в лодках: море символически передано изображением голубых волн, крабов, скатов и других морских животных. Белые мореплаватели показаны либо обнаженными, либо одетыми в туники. У одного из них отчетливо видна борода. Моррис, Шарло и Моррис осторожно заключают, что внешность желтоволосых мореплавателей «...дает повод для весьма интересных догадок об их происхождении». Второй этнический тип – темнокожие люди в набедренных повязках, с головными уборами из перьев. Многие из светлокожих изображены как пленники, со связанными руками. На второй фреске белого пленника с длинными желтыми волосами приносят в жертву богам двое темнокожих. Другой белый, чья лодка опрокинулась, пытается спастись вплавь, и за ним гонятся хищные рыбы. На третьей фреске белый мореплаватель спокойно куда-то уходит, неся на спине свернутое в узел имущество; недалеко от берега стоит его лодка, она желтого цвета и загнутыми вверх носом и кормой очень напоминает камышовые лодки озера Титикака. Во времена вторжения испанцев в Америку камышовые лодки были в ходу и у индейцев Мексики, но не на Юкатане.
Судно, изображенное на фреске в майяской пирамиде, напоминает также лодки, применявшиеся до недавнего времени на атлантическом побережье Марокко (1 В книге, посвященной плаванию на «Ра», Т. Хейердал писал: «...Лодки Титикаки так похожи на чадские, что вполне могли бы выступить в роли зеркального отражения... Кадай – так будума (жители берегов Чада) называют свою лодку, которая с незапамятных времен составляет как бы основу их жизни, неразрывно связанной с озером. Никто не знает, когда и у кого они научились ее строить. Может быть, сами додумались. А может быть, их далекие предки пришли караванными тропами из долины Нила...»).
На сходных росписях в древнеегипетских гробницах можно увидеть серповидные папирусные лодки и сцены битв на Ниле.
А на одном рельефе из древней Ниневии показан морской бой с участием такого же рода месопотамских лодок. Бородатые люди с длинными волосами уходят в море, символически обозначенное, как и на фресках Чичен-Ицы, большими крабами и морскими рыбами. На других лодках находятся спасающиеся бегством мужчины и женщины с молитвенно воздетыми руками.
Надо думать, вражеское преследование, туманы и штормы часто заносили мореплавателей в неведомые воды. История повторяется, ведь в основном человек всюду одинаков. Сколько раз мореплаватели Малой Азии и Африки на заре цивилизации оказывались в таком же положении, как спасающиеся бегством солнцепоклонники на ниневийском рельефе!
Какая-то причина привела светловолосых людей из Африки и на Канарские острова. Из письменных отчетов об открытии Канарского архипелага (это произошло за несколько десятков лет до плаваний Колумба) нам известно, что он был заселен людьми неоднородного этнического состава, называемыми гуанчами. Одни островитяне были темнокожие, малорослые, негроидного типа; другие – высокие, белокожие, светловолосые. На акварели Торриани (1590 г.) мы видим шесть светлокожих и желтоволосых гуанчей. У одних длинная косматая борода, у других – острая, аккуратная; длинные желтые волосы свешиваются на спину, совсем как у светловолосых мореплавателей на фресках пирамид Юкатана.
Особенности языка и культуры связывают гуанчей с древними цивилизациями, распространенными от Месопотамии до атлантического побережья Марокко. Например, берберы Марокко – тоже народ сложного этнического состава, объединивший и малорослых негроидов, и высоких, светловолосых, голубоглазых людей, которые забредали в приморье с Атласских гор до прихода арабов. Часто допускают ошибку, связывая светлокожих блондинов только с Северной Европой: этот физический тип был представлен до исторических времен на всем пути от Малой Азии до Атласских гор. Коричневые, даже желтые волосы можно увидеть у богов и у обнаженных пассажиров папирусных лодок на фресках древнеегипетских гробниц.
Все следы строительства лодок на Канарах исчезли ко времени открытия архипелага европейцами. Но история и археология показывают, что задолго до нашей эры финикийцы из Малой Азии и Северной Африки учредили колонии на Канарских островах, служивших им базой для трудных плаваний в другие колонии, далеко от Марокко, вплоть до берегов нынешнего Сенегала. Не раз высказывались предположения, что финикийцы были светлокожими и желтоволосыми. Если это так, не представляет труда объяснить, кем были светлокожие, желтоволосые обитатели Канарских островов. Если это не так, значит, еще какие-то древние мореплаватели были доставлены на архипелаг мощным Канарским течением. Оказавшись в этом течении – как показывает двукратный пример плавания на «Ра», – вы словно ступаете на конвейер, который, если не покидать его, доставит вас к берегам тропической Америки. А ведь мы уже видели, что белокожие мореплаватели с длинными желтыми волосами, похожие на канарцев, были изображены на фресках майя на том самом полуострове, к которому подходит течение. Больше того, как майя, так и их мексиканские соседи ацтеки сохранили предания о белых бородатых людях, которые приплыли из-за океана, цивилизовали племена собирателей и ушли, обещав вернуться...
Перевел с английского Л. Жданов
Тур Хейердал
Кто хочет обжигать горшки?

Ветер бил с такой силой, что старика Лочехина бросало из стороны в сторону. Можно сказать, мы не шли, а плавали в снежной круговерти.
И все виноват я: кой черт дернул меня на эту авантюру! Хлипкий старик Лочехин на полусогнутых вышагивает; из больного глаза слеза сочится, созревая, – вот-вот скатится, – как немой укор моему глупому любопытству. Захотелось, видите ли, взглянуть, откуда берет он свою глину, и как ищет ее в земле, и как определяет, что пойдет в работу, а что нет.
– Ходи – похаживай, говори да приговаривай! – кричит мне в ухо Афанасий Егорович и ободряюще смеется. Наверное, вид мой внушает ему жалость. И ломик тянет из моих рук: чтобы полегче было.
Лочехина я знаю, можно сказать, давно, а вот встретился с ним час назад... Разные люди в разных деревнях Севера, подавая на стол жареную рыбу на глиняной посуде, нередко восклицали: «Скусна рыбка в такой ладке, ой и скусна!» Ладки, горшки, чашки были золотисто-коричневого цвета, они светились, будто облитые медом... Я спрашивал, где делают такую посуду и кто этим занимается сейчас, но всегда получал один и тот же ответ: были такие мастера на Мезени, баские гончары-искусники, но нынче, видать, никого уж не осталось – повымерли все. А которые и живы, добавляли с сожалением, то промысел наверняка забросили: на что их рукоделье, когда в магазинах своей посуды навалом? Неприбыльное это нынче дело – горшки обжигать...
«Все это так, – соглашался я, – но почему ж «рукоделье» не убывает? Почему в любом доме стоят эти золотисто-коричневые ладки, и не такие уж они старые? Не может же глина жить вечно?»
Выручила меня газета «Правда Севера». Она сообщила о крошечной мезенской деревеньке Тимощелье, о том, что в течение долгих лет (а может, и веков?) занимала деревня особое место в ряду северных селений – далеко была известна своим ремеслом. Жили в ней гончары.
Сообщалось также, что стоит деревенька на открытом угоре: семь домов – один к одному, как стая озябших птиц, и что живет там один-единственный на всю Мезень гончар Лочехин Афанасий Егорович с супругой Еленой Афанасьевной. От него, Лочехина, и расходился товар по северным весям. Выходит, я ел из его ладок, пил из его чашек, а свидеться пришлось только теперь.
...Стоило нам приблизиться к сосновому леску, как ветер утих. У развороченных ям, где снегу почти не было, Афанасий Егорович остановился.
– Вот здесь землица наша. Долби, коли напросился!
И я стал долбить мерзлую землю. Наверное, ее брали здесь не одну сотню лет. Сначала был дерн, потом пошел сырой песок, глина с песком – поместному креча: трудная была работа. Я долбил изо всех сил, старался, как мог, но, по-видимому, делал это неважно, потому что Лочехин отобрал у меня ломик и со словами: «Зелен горох – невкусен, молод человек – неискусен» – сам взялся за работу. И едва он ударил по каменистой почве, как слеза, не удержавшись на его щеке, слетела вниз, в яму... Из-под негодной породы показалась бурая слежавшаяся глина с красными и черными прожилками. Та самая, из которой выходят горшки и ладки.
– Перекур! – объявил Афанасий Егорович.
В деревню мы вернулись с полным мешком земли. Лочехин ссыпал ее в деревянное корыто и выставил на мороз: «Пусть тяжесть лишняя в воздух уйдет. Тяпать ее тогда легче будет».
И мы пошли в дом греться.
Горница светилась праздничным застольем. Это по случаю приезда сына Ивана – дрова привез старикам...
Стол ломился от разносолов: здесь и шаньги были, и моченая брусника, и грузди соленые, и треска, и поданная с пылу с жару картошка в сметане, и пиво. Большая бутыль густого янтарного пива.
– Такого небось никогда не пивали? – смеется Елена Афанасьевна.
Да, такого пива уже не встретишь, а узнать о нем можно только в былине. Помните, у Микулы Селянинрвича: «Пива наварю, гостей созову».
Я увлеченно стал записывать рецепт, который диктовала мне хозяйка: сколько нужно ржи и воды, куда это класть, в чем проращивать, где хранить и так далее, но вскоре понял всю бессмысленность своей затеи. Сварить такое пиво нелегко даже в деревне, нам же, горожанам, это просто не под силу. Не придуман еще такой умный универсальный агрегат, который мог бы заменить русскую печь... Пиво Елены Афанасьевны совсем не пьяное. Оно ядреное, холодное, приятное, но безалкогольное. По вкусу немного напоминает квас...
Внезапно зазвонил телефон. Лочехин взял трубку и, убрав с лица, застольное выражение, произнес чужим голосом: «Лочехин слушает»... Звонили из горрыбкоопа, интересовались, есть ли новая посуда и когда можно присылать машину, чтобы забрать товар. Старик долго молчал, что-то обдумывая; на том конце провода его ответа ждали с заискивающим вниманием.
– Денька через два присылайте, – милостиво разрешил он. – И чтоб тара была подходящая. И чтоб шофер того... как стеклышко. Знаю я вас!
Афанасий Егорович с достоинством положил трубку и вернулся к столу. Иван ругал туристов, которые охмуряют здешних старушек, вымаливая у них завалявшиеся иконки, но старик уже не слушал его. Взгляд Лочехина стал рассеян и суетлив. Какая-то невидимая пружина раскручивалась внутри его, не находя выхода, и только руки нервно теребили скатерть.
Не выдержав нашего застолья, старик Лочехин заспешил на улицу и внес с мороза полное корыто глины. Он расколол топориком смерзшиеся глыбы, дал им оттаять, а потом залил крутым кипятком. Движения его были на диво четки и слаженны.
– Скйдавай валенки, Иван! – приказал Афанасий Егорович. И, обращаясь ко мне, пояснил: – Сейчас глину валять будем. Присоединяйся, коли желаешь... Робим-то мы, вишь, босиком, так зимой уж и щекотно станет. Не обессудь!
Он разложил на полу фанерные щиты, вывалил на них глину, предварительно подсыпав в нее пеплу – для сухости, и мы стали топтать бурую массу. Вроде как вытанцовывали. Веселая была работенка, «щекотная». Особенно когда наступишь босой пяткой на нерастаявший лед или на камушек. Прежде чем выбросить такой камушек, старик долго протирал его сухими негнущимися пальцами, рассматривал на свету и даже нюхал...
Теплела глина под нашими ногами, становилась мягкой и податливой. И как только она превращалась в «полотно» – не толще двух-трех сантиметров, – мы сворачивали ее, как рулон, и снова топтали. Топтали до тех пор, пока бурое месиво не становилось похожим на тесто. Чтобы к рукам не прилипало.
– А я ведь в плену был, в первую германскую, – повернулся ко мне Лочехин, продолжая работать. – В городе Франкфурт-на-Майне, – сказал он по складам. – Слыхал? Три года на германа робил... У-у-у, сладкомордый! Он ить на мне пахал. Пять человек в плуг запрягет и погоняет. От сатана!
И он затопал ногами с неистовой силой.
...Наступил вечер, и Афанасий Егорович, обвязав себя кожаным фартуком, уселся за гончарный круг. Старик коснулся глины, и его пальцы, почуяв привычную сырость, вдруг забегали, как живые зрячие механизмы, и глина ответила им взаимностью. И сам он запел – о белой лебедушке, о далеком нежно-голубом море Хвалынском...
Лочехин сидел в полумраке, и только отсветы от керосиновой лампы ложились на его руки и глину. Он любил это освещение, привык к нему, как к древней песне, хотя при всех других делах предпочитал электричество. Наверное, этот полумрак и дрожащие тени помогали ему открыть в глине потаенную суть: ведь внутри она светлая и глубокая; но нужно дойти до этой глубины... Сырая глина податливо льнула к его рукам. Каждое движение было выверено годами: посуда рождалась на глазах, словно сама по себе.
Мерно вращался гончарный круг, левая рука мастера мяла, выдавливала глину, а правая ловко подхватывала ее, обтачивала деревянным ножом, шлифовала гребенкой, смачивала сырой тряпкой – горшок обретал форму. Так рождались сотни и тысячи лочехинских горшков; одни из них живут и поныне, а другие, состарившись, ушли в землю, чтобы стать глиной для новых горшков.
– Ну и убежал я из плена-то, – возобновил разговор Афанасий Егорович. – Четверо нас было, беглецов-то. Шли мы и шли. Восемь суток шли, и все по ночам. А на девятый дён попались. Да и как не попасться-то, голодно! Бывало, водицы попьешь, а бородой закусишь. Заскучали мы без еды-то, шибко заскучали... Ну и пошел один из нас в деревню – в Польше уж дело было, в Польше. Хотел хлеба спросить, а его уж заприметили: кто такой, откуда? За ним и нас всех переловили...
Тем временем Елена Афанасьевна пережигала в большом чугуне свинец. Что за горшок без свинца? Так, глина незрячая – ни виду, ни пользы. А если ее теплой смолой обмазать и свинцовой мукой обсыпать, да на огонь – знатная будет посуда, долгие годы прослужит.
Свинцовой муки сейчас нигде не достанешь, так Лочехины из дроби ее делают или из кабеля бросового. Стоит чугунок на маленьком огне, а в нем свинец плавится; долго мешать его требуется, пока он в муку не превратится. А как готова мука, ее через сито.
Глянул Афанасий Егорович на готовый порошок: «Светлая облива будет, баская. Спасибо, женушка!» – И снова за воспоминания:
– Поймали нас, значит, – и прямым ходом во Франкфурт. Снова землю пашем, на гермапа робим. «Революшьен! – шипит он на нас. – Рус-сише швайн!» И плюется, кащей семижильный, плюется, аки бес! Да и как ему не плюваться, когда революция в Петрограде. Знает, шельмец, что опять ходу дадим, потому и лютует, басалай чертовый. Да-а-а... Собрали мы тайком сухариков, одежду теплую. Ночку выбрали потемней – и домой. Границу перешли, а тут уж красные, товарищи наши советские. Снова воевал. Считай, десять лет на фронтах оттяпал. Мне уж восемьдесят один. Да-а-а...
Он закончил свою работу, и Елена Афанасьевна зажгла электрический свет. Стол был накрыт для ужина, вовсю пыхтел самовар.
– Теперь и закусить не грех, – бодро сказал Лочехин.
Рано утром Афанасий Егорович затопил «завод». Я еще спал, когда Лочехины снесли туда дрова и подсохшую за ночь посуду. Сквозь сон я слышал, как скрипели половицы в избе, как вкрадчиво шептались супруги, обсуждая текущие дела. Я понимал, что пора вставать, и немедленно, чтобы не прозевать самого интересного, но теплая печь так приворожила меня, что я засыпал прежде, чем принять это решение.
Помогло солнце: сквозь толстые оконные стекла оно подобралось к моему изголовью и пекло совсем не по-северному. Я. вскочил и, мигом одевшись, вышел во двор.
В сером войлоке облаков солнце прожгло дыру и оттуда пальнуло таким жаром, что стало больно глазам. Лучи забегали по земле, разбудили ее, и все, что вчера лишь угадывалось сквозь одноцветную сумеречную мглу, получило свою окраску и свои очертания.
Отсюда было видно далеко-далеко. Длиннющей санной улицей катилась белая Мезень. Богатырскими шеломами нависли над ней холмы. Поголубел воздух от мороза, поголубели дальние леса за рекой.
Цепочка свежих следов привела меня к «заводу». Он был похож на баню и сарай одновременно. Черный сажный дым реял из печной трубы.
Афанасий Егорович сидел на корточках и, не мигая, следил за огнем. В огромном зеве печи, обставленные грудой черепков и сосновыми полешками, стояли вчерашние горшки и ладки. Сейчас они выглядели черными и мутно-желтыми, невзрачными, и я неосторожно сказал об этом Лочехину.
– Ты погоди, погоди, – осадил меня гончар. – Дай огню силу набрать.
Прищурив здоровый глаз, он смотрел в печь на пляшущие язычки пламени и время от времени подкладывал новые поленья.
Елена Афанасьевна позвала нас обедать, но старик отказался – уходить от печи было нельзя. Мы закусили на скорую руку... Вот уже пять часов топился «завод», и все это время старик сидел в молчаливом напряжении, ожидая нужных ему красок. И они пришли: вот исчез, будто растворился дым, не стало красных язычков – один ровный светлый жар полыхал внутри. Посуда просвечивалась насквозь; пламя очищало глину – она наливалась то темно-красным, то бронзовым чистым светом.
Под вечер – печь уже остывала – Лочехин вынул из зева ближнюю ладку. Он держал ее ватными рукавицами, посуда, была еще горячая, с окалинами по краям. Щелкнув для пробы по дну, он приложил ее к уху: «Звенит... землица наша. А коли звенит, значит порядок». Лицо старика было розовым и молодым.
Мы вышли на улицу. Из трубы лочехинского «завода» струилось марево – оно отсвечивало тусклым перламутром.
...Прошло два месяца, и я решил позвонить в Тимощелье, узнать, как дела, а заодно поздравить стариков с весенними праздниками.
Архангельск включился сразу же, но потом грянул детский хор, и телефонистка, соединяя меня с Мезенью, долго пыталась перекричать местную радиопередачу. И как только я услышал знакомый скорострельный говорок: «Москва, говорите дак!» – я сразу представил себе стаю озябших домов на крутом угоре, и перламутровый дым из трубы, и дальние, поголубевшие от мороза леса...
– Лочехин слушает, – сказал Лочехин на фоне детских голосов.
Старик обрадовался моему звонку.
– Дело-то вишь какое, – объяснил он торопливо. – Здоровья уж у меня нет, и руки слабы. Робим мы, робим, а заробить не можем... Кликнул бы ты: есть, мол, такой Лочехин на Мезени, горшечник старый. Все про глину знает. Пусть идут ко мне – ремеслу учить буду, секреты открою. Глины-то у нас – ой сколько много!.. Слышь, что ли?
Олег Ларин








