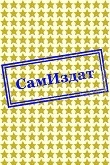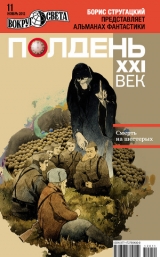
Текст книги "Полдень, XXI век (ноябрь 2012)"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
В самих по себе требованиях строить космические корабли или электромобили нет ничего плохого – можно сказать, это исключительно позитивные интенции. Проблема в том, что в контексте современной российской культуры эти требования носят полемический и даже разоблачительный характер. Требования начать грандиозные технические проекты иногда доходят до градуса истерики, и требуется некая жесткая власть, чтобы эти требования немедленно исполнить (ну, хотя бы власть президента Медведева, ставящего резолюцию на письме футуролога Максима Калашникова). И эти требования предполагают разоблачение тех, кто не понимает значение развития техники и предпочитает им какие-то менее достойные занятия. Тех ставит менеджмент и маркетинг выше инженерии и токарного дела. Эти же люди, в сущности, и СССР развалили. Потерявшие работу конструкторы ракет объявили беспощадную идейную войну маркетологам. В этой борьбе дискредитируются не просто отдельные люди, но целые профессии, психологические типы и политические мировоззрения. Говоря несколько утрированно, в ведущихся в Интернете и печати дискуссиях поклонники Гагарина считают своими врагами финансистов, журналистов и либералов. И в подоснове этого деления профессий на чистые и нечистые – еще одна доставшаяся нам в наследство от Советского Союза идеологическая концепция: о существовании правильного, настоящего, благородного труда и труда неправильного, недостойного, в сущности, и называться трудом.
Основа советской идеологии – культ труда. «Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают!» – провозглашает Ученый в финале шварцевской «Тени». С 1920-х годов на стене одного из московских зданий висит мемориальная доска с изображением мускулистого трудящегося и надписью: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Поскольку сам по себе культ труда никогда никем не критиковался, он продолжает подспудно жить в подсознании родившихся в советское время людей, вызывая тревогу и моральные муки, когда приходится сталкиваться с паразитизмом и неоплаченным трудом потреблением. Но эта «любовь к труду» в нашем случае усиливается еще и совсем старыми советскими представлениями о том, что полноценным человеком является лишь тот, кто занимается физическим трудом, а остальные – сидят на шее трудящегося. Соответственно, и полноценным трудом является лишь труд рабочего и крестьянина, в крайнем случае мастера-ремесленника, а все остальное – не труд, а малопочтенная игра. Возникший в 1960-х годах культ ученых не смог полностью убить превознесение «простого трудящегося»
Именно этим доходящим до стыда за себя почтением к тяжелому физическому труду и пронизаны чрезвычайно интересные и симптоматичные романы Андрея Рубанова «Хлорофилия» и «Живая земля». Романы о том, сколь губительно для души и бесперспективно для общества всеобщее увлечение всякими «постиндустриальными» и «креативными» профессиями вроде журналистики и менеджмента.
В «Хлорофилии» можно увидеть социально-философское исследование проблемы благ, достающихся без труда, – того, что называют «халявой». Роман этот, разумеется, остросовременный, его фон – идущий в Россию поток нефтяных денег, о развращающей силе которого не говорит только ленивый. Но в «Хлорофилии» реальные нефть и газ алхимически превращаются в образ стометровой травы, чей рост остановить невозможно и которую люди могут совершенно бесплатно есть и благодаря этому избавляться от потребности в пище, прекрасно и бодро себя чувствовать, однако постепенно терять интерес ко всему окружающему, а со временем и вообще превращаться в стебли травы.
Собственно говоря, таинственные стебли в «Хлорофилии» означают нефтяную «халяву» двояким образом: для читателя – как ее причудливая аллегория и для героев – как ее таинственный мистический спутник. Поскольку по сюжету романа таинственная трава начинает расти в Москве именно тогда, когда город начинает купаться в финансовой халяве, сдав Китаю Сибирь в аренду. Когда же арендатор прекращает платежи – трава начинает чахнуть. Бесплатная съедобная трава – это избыточное «счастье», казалось бы, ненужное при наличии денег, но неотвратимо их сопровождающее.
Любопытно смешение политических концептов современности в «Хлорофилии». Сегодня в России с тревогой смотрят на обогащающий страну поток нефтедолларов и боятся, что в будущем Китай может отторгнуть у нас Сибирь. В романе Рубанова нынешние радости, тревоги и страхи смешались в один образ: отторгнутая Сибирь превращается в аллегорию потока нефтедолларов (по сюжету – арендные платежи придут на смену нефтяным доходам после исчерпания нефти).
Подоснова «Хлорофилии» – российское (но прежде всего московское) беспокойство, что мы не можем оплачивать трудом своего существования, не можем заняться правильным, искупающим трудом. И это тоже тема современной литературы. Например, повесть Владимира Сорокина «Метель» рассказывает, в сущности, о невозможности честному труженику выполнить свой долг «в этой России». Главный герой, честный земский врач, всеми силами пытается попасть в область, охваченную эпидемией, чтобы доставить туда сыворотку, но препятствиями ему становятся то пурга, то женщины, то торговцы дурью, то китайцы. Взяться за дело в этой русской метели никак не возможно.
Хочется сопоставить «Хлорофилию» также с «Пандемом» Дяченко. В обоих романах рассказывается о внезапно накрывшей общество волне бесплатных, неоплаченных трудом благ. В обоих намекается, что эти блага вредны и «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». В «Пандеме» всемогущий сверхразум прекращает оказывать человечеству свои услуги, когда добивается от него создания межзвездной экспедиции, которая будет распространять разум по Вселенной. В «Хлорофилии» халява заканчивается, когда выясняется, что аренда Сибири была для Китая лишь экспериментом, на котором он отрабатывал колонизацию Луны. С началом реального освоения Луны сибирский проект свертывается. То есть в обоих романах Космос завершает эпоху Халявы. Следует ли тут делать реминисценцию к последним романам Вячеслава Рыбакова?
«Хлорофилия» – очень московский роман. Москва чувствует порочность своего богатства, достающегося ей без труда, лишь благодаря местоположению и связи с властью. Но в то же время она чувствует именно себя истинным лицом всей России. У Рубанова вся Россия переселяется в Москву – за МКАДом действительно уже ничего нет. Провинциалы могут ненавидеть Москву, они могут считать этот роман не относящимся к ним, но по Рубанову, Москва – это судьба России. Приезжайте к нам лет через 20 – и ничего не будет, будет одна Москва.
«Москва», «нефть» – это все образы реальности, где некие неправильные, бесплатные блага дискредитируют «настоящий» труд, позволяя всем пренебрегать как мускульными усилиями каменщиков, так и необходимостью строить звездолеты. Картина реабилитации «правильного» труда дана во второй части дилогии Андрея Рубанова – «Живой земле». В этом романе дана картина Москвы, лишившейся всех нефтяных и арендных доходов, наркотическая трава в ней зачахла, и в городе воцарилось общество, напоминающие времена НЭПа: да, буржуазия есть, но богатых и пользующихся предметами роскоши людей считают «гражданами второго сорта».
Главный герой «Живой земли» Андрея Рубанова – идеальный гражданин в новой Москве, молотобоец с мозолистыми руками, твердыми моральными принципами и презрением к роскоши, этакий выходец из старого советского искусства. Герой «Живой Земли» даже специально добивается, чтобы ни ему, ни его любимой девушке не представилась возможность получить интересную творческую работу в Нью-Москве – городе в Сибири, унаследовавшем всю праздность, роскошь и прочие грехи прежней столицы.
В «Живой земле» главный герой добровольно и с радостью занимается общественными работами – то есть тем, к чему других, не столько идеальных граждан приговаривают по суду за различные преступления. Это, кстати, фактически дает герою-добровольцу судебный иммунитет: никакой судебный приговор ему не страшен, любой возможный срок общественных работ он отработал еще до суда. Что любопытно, общественные работы в «Живой земле» заключаются в разрушении небоскребов – то есть дворцов праздности и роскоши, оставшихся в Москве с тех времен, когда этот проклятый город не трудился, а купался в праздности, продавая Китаю природные ресурсы, и население в ту эпоху не трудилось, а занималось всякими «креативными» специальностями. Которые, конечно, слова доброго не стоят.
Но еще важнее, что в личности главного героя «Живой земли» отражается двойственная природа труда: то, что для одних наказание за преступление, то для других идеальное состояние, причастность к полноценному бытию. Труд (пот и мозоли) – один и тот же у наказуемых преступников и добровольцев, различается лишь отношение к нему.
И это немаловажно.
В реальности, находящейся за пределами фантастических романов, культ труда всегда сталкивался с распространенным ощущением труда как чего-то мучительного, которое ориентировало и фантазии и реальное социальное поведение людей на поиск путей уклонения от «всеобщей трудовой повинности». Трудовая утопия – поздний продукт холодного интеллекта, куда понятнее и ближе человеческой натуре утопия для лодырей, где царит праздность и булки растут на деревьях.
Классовые битвы на ранних фазах индустриализации именно потому были так жестоки, что тот труд был невыносим ни за какую зарплату. Марксизм не знал или, может быть, скорее не решался сформулировать секрет собственного успеха, который заключался в том, что труд надо было определить не только как «затраты физической энергии», и не только как преобразование материи, но и как страдание, и именно в перенесении страдания в процессе труда и состоит суть «эксплуатации», а вовсе не в отчуждении произведенной стоимости, что само по себе если и обидно, то может быть переносимо. Успех революционных призывов происходит от того чувства облегчения, которое испытывает всякий трудящийся, когда можно прервать цепь борьбы за существование и прекратить повседневный труд.
Стремление избежать тяжести труда, убежать от нее управляет всем развитием человеческой и особенно западной цивилизации, причем это отражается не только на сфере труда – труд становится все более гигиеничным и физически легким, – но и на сфере образования, где идет множество экспериментов, пытающих сделать обучение детей менее напряженным, менее тяжелым, менее мучительным, более легким и естественным, – и, как выясняется, на этом пути развитые страны могут жертвовать даже качеством высшего образования.
Алхимическая проблема, которую пыталась решить советская культура и, можно сказать, вся советская цивилизация: как превратить тяжесть труда в радость труда? Как создать страну, в которой, как в одном фантастическом стихотворении Заболоцкого, «не видно тяжести труда, хоть все вокруг в движенье и работе»?
Витамин для утопииЕсли труд мучителен, но занимаются им добровольно и радостно, то занятие трудом есть именно то, что называется добровольным уходом на муки, – то есть «жертвование собой». Так тема труда переходит в тему самопожертвования, которая подвергнута самому тщательному исследованию в замечательном романе Ольги Славниковой «Легкая голова». Романе о том, как некие спецслужбы требуют от человека покончить с собой, поскольку в противном случае по неясным мистическим причинам Россию настигнут всякие бедствия, вроде масштабных терактов.
Главного героя «Легкой головы» невозможно назвать положительным. И профессия его далека от наших посконных трудовых идеалов – рекламный менеджер. Он эгоистичен, хитер и удивительно жаден до денег. Короче говоря, он воплощение «московских», «буржуазных» грехов. Однако читатели, которым этот герой не нравится, вместе со спецслужбами натыкаются в романе на пустяковую проблему – право этого сомнительного человечишки на жизнь. Очень мало каких-то правовых или моральных причин ему в этом праве отказать и от него эту жизнь потребовать. Жизнь, конечно, отнять можно, и очень легко, но вот побудить эгоистичного обывателя добровольно от нее отказаться очень трудно. Можно, конечно, апеллировать к самопожертвованию. Вспоминать о солдатах, отдающих жизнь на войне, о традициях служения родине. Если «Хлорофилия» Андрея Рубанова пронизана беспокойством от невозможности либо нежелания заняться трудом, то «Легкая голова» Славниковой – беспокойством, порожденным невозможностью или нежеланием жертвовать собой. Но как бы там ни было, никакой красивой картинки, никакой утопии, никакого нового мира свободного труда уже не получится, а будет лишь кровавая история про травлю несчастного человека спецслужбами. В итоге добиться «самопожертвования» от главного героя удается лишь обманом, убив его жену.
Когда у писательницы Айн Ренд спросили, а что же плохого в самопожертвовании, она ответила: «А что плохого в доведении до самоубийства?»
Добровольного самоубийства государство требует от своих граждан и в романе Анны Старобинец «Живущий», в котором, наряду с прочим, также исследуются извечные русские вопросы: каковы пределы «долга» человека перед обществом, и как далеко можно заходить в требовании самопожертвования. Согласно аннотации, согласно заголовку, а также согласно некой принятой в романе идеологии, «Живущий» – роман о том, как «человечество превратилось в единый, постоянно воспроизводящий себя организм». Но при внимательном чтении выясняется: на самом деле единый общечеловеческий организм – Живущий – вовсе и не существует. То есть и автор, и герои уверяют, что он есть, и даже в конце герои слышат стоны умирающего Живущего, – но в чем заключается его существование, помимо стонов, остается совершенно неясным. Во всяком случае, все люди в изображенном в «Живущем» мире являются совершенно самостоятельными личностями, обладающими свободой воли и возможностью взбунтоваться против социального целого. Таким образом, Анна Старобинец на самом деле написала роман совсем о другом. Прежде всего, в «Живущем» изображено общество, в котором реинкарнация (переселение душ) объявлена официальной доктриной, и более того – налажен онлайновый автоматизированный учет того, когда и где возрождается только что умерший человек. Всем «переселяющимся душам» присвоен идентификационный код, число душ постоянно (3 млрд.), между смертью и новым рождением души в нормальном случае проходит 5 секунд, поэтому смерть называется «5 секунд тьмы». Старбинец делает безусловно логичные выводы о том, какими свойствами должно обладать такое общество.
Во-первых, в нем отсутствует забота о стариках, поскольку нет смысла длить мучительную дряхлость, если есть возможность переродиться молодым. Всех достигших 65 лет убивают, а до этого рекомендуют лишить себя жизни добровольно.
Во-вторых, падает любовь к детям, поскольку истинным наследником человека является его собственное перевоплощение. Всех детей, достигших 7 лет, отдают в интернат, материнская любовь считается преступлением.
И вообще ценность индивидуальной жизни падает, поскольку бессмертие души в реинкарнациях все равно гарантировано. Можно сказать, что идеология тоталитарного суперорганизма является всего лишь идеологическим прикрытием для дискредитации индивидуальности. А теория переселения душ – лишь идеология, позволяющая обществу требовать от граждан любого самопожертвования, вплоть до самоубийства. Коллективное существо «Живущий» оказывается коллективным лишь до тех пор, пока люди добровольно соблюдают правила. Но когда человек вспоминает про свою индивидуальность, выясняется, что «Живущий» – это внешняя тираническая сила, у которой есть тюрьмы и полиция.
Добровольность – вот та энергия, от дефицита которой умирали все утопии.
В «Легкой голове» Славниковой верующие христиане убеждают главного героя: способность к самопожертвованию – величайшее достоинство человека, но самопожертвование может быть только добровольным; государство, заставляя человека пожертвовать собой, совершает грех.
В работах современного историка Сергея Эрлиха говорится, что важнейшим поворотом в истории западной цивилизации был переход от кровавой жертвы, приносимой богам, к самопожертвованию – символом которого является добровольная смерть Христа. Как известно, Христа сравнивают с жертвенным агнцем, но это был первый агнец в истории, сам пошедший на жертву. И этот пример – жертвы не другими, но собой – открыл дорогу европейскому гуманизму.
Важнейший вопрос, который ставится «фантастикой мирного труда», – это вопрос о добровольности принятия людьми некоей жизненной стратегии. Готовы они добровольно и с радостью трудиться, дробя камни молотом, – как в «Живой земле» Рубанова? Готовы ли они добровольно уходить из жизни во имя демографической стабильности – как в «Живущем» Старобинец (а еще раньше в «Часе быка» Ефремова)? Готовы ли они добровольно жертвовать собой ради предотвращения терактов – как в «Легкой голове» Славниковой? Готовы ли они посвящать жизнь бескорыстному служению обществу? Готовы ли они отдавать все время и силы некоему перспективному и сулящему путь к звездам научно-техническому проекту?
Если да – то мир наполняется светом и радостью, и мы шагаем прямо в утопию.
Но если нет – то труд, самопожертвование и звездные корабли поворачиваются к нам своей другой стороной.
Тогда труд становится общественными работами по приговору суда.
Тогда – как в «Легкой голове» Славниковой – самопожертвование превращается в доведение до самоубийства.
Тогда – как в «Живущем» Старобинец – общество, которому служишь, оказывается кибернетическим чудовищем, считающим, что твоя жизнь и твоя индивидуальность не имеют значения.
Тогда – как в финале «СССР ™» Идиатуллина – директора заводов обвиняют рабочих в предательстве – за то, что те думают только о жилье и зарплате. Будь у директоров возможность, они бы, чего доброго, и отомстили за предательство.
Тогда и мирный космос может рассматриваться как «государева забава», транжирящая народные деньги.
Валерий Окулов «Имажинативная социомеханика»
(Был ли Логик фантастом?)
На фантконвенте Еврокон-78 в Брюсселе приз за лучший НФ-роман был присуждён Александру Зиновьеву, бывшему советскому учёному, жившему тогда в Мюнхене, – за книгу «Зияющие высоты», опубликованную в 1976 году в Лозанне (Швейцария) и принёсшую автору мировую известность. Непростую книгу, многослойную и разноплановую, но ни в коей мере не «научно-фантастическую»! Такие дела. При выдумывании её «автору никто не помогал. Никто не читал. Никто не высказывал ценных критических замечаний. И автор всем благодарен за это» был от души.
Сатирико-социологический анализ фундаментальных законов общественного бытия с НФ сближает разве что пояснение к нему: «Книга составлена из обрывков рукописи, найденных случайно». Сравните с подзаголовком («Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах») повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», опубликованной в том же 1976-м.
Конечно, книга Зиновьева о перипетиях жизни разнообразных Ибановых в Ибанске, где все мероприятия исторические, предоставляет богатые возможности для её трактовки. Во-первых, как сатиры на советское общество, и эта трактовка до 1991 года была наиболее востребованной, благо сатиры там хоть отбавляй! Даже «злопыхательства», как предпочитали говорить в восьмидесятые. Примеров этого в книге масса.
«Социзм есть вымышленный строй общества, который сложился бы, если бы в обществе индивиды совершали поступки исключительно по социальным законам, но который невозможен в силу ложности исходных допущений. Социзм имеет свою ошибочную теорию и неправильную практику, но что здесь есть теория и что есть практика, установить невозможно как теоретически, так и практически..» К полному «изму» – путь по спирали, высшие витки которой опускаются ниже низших, за счёт чего и достигается поступательное движение вперёд.
В семисотстраничной книге множество сатирических картинок и портретов. К примеру: некто был знаком «с достижениями болтовни по поводу открытий современной физики», другие «вели дискуссию по всем канонам научной дискуссии: каждый кричал своё и не слушал другого». Там много всего… Наша реальность не может быть описана ни в какой теории, легче построить атомный реактор, чем хорошее хранилище для картошки. А народ в этой реальности должен вести себя так, как будто начальство на самом деле не смешное, а умное, доброе, справедливое…
Вот суждения о власти, науке, искусстве. Сама власть есть главное дело. Воспроизводство власти есть часть этого дела. Ибанское общество – весьма сложная дифференцированная и иерархически структуризованная система привилегий… И не важно, что некто не может «отличить Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля, кобеля от Гоголя…»
Ибанскую науку Зиновьев рисует только в гротескном ключе: «В науку пробрались несколько настоящих ученых»! «Ураган научных открытий нашего времени в значительной мере есть социальный ветер, а не ветер познания… Лет через сто узнаем, кто был настоящий учёный…» Ещё примечательное: «Матореализм как высшая стадия материализма до возникновения диамата. Мат – универсальный сверхязык, на котором можно обращаться даже к внеземным цивилизациям»… А в ибанском искусстве закон один: чем выше зад, который удаётся вылизать художнику, тем крупнее художник!
Второй, и более важный слой книги – социологическое исследование «механизмов» общества, социомеханика Зиновьева: «социальные законы одни и те же всегда и везде, где образуются достаточно большие скопления социальных индивидуумов, позволяющие говорить об обществе».
Подобными исследованиями учёный занимался ещё с пятидесятых годов, разрабатывая логическую онтологию, но в СССР они поддержки не нашли. Потому и состоят «Зияющие высоты» на треть из социологических «кусков», рассматривающих основные аспекты социальной организации: коммунальный, деловой, ментали-тетный. Впоследствии, выбрав эти куски и скомпоновав их иначе, Зиновьев получил книгу «Коммунизм как реальность», за которую был даже отмечен премией Токвиля по социологии. Хотя подавляющая часть профессиональной социологической среды его сразу чуть ли не возненавидела.
В итоге Зиновьев разработал социологическую теорию для любых социальных объектов, с конкретизацией – для коммунистической, западнистской, постсоветской систем. Эту теорию (которая сама по себе метод) он сначала называл «социомеханикой», затем «логической социологией» – чтобы отделиться от того, что сочиняют социологи обычные. Сам Логик считал их разными науками, как химию и алхимию…
О «социомеханике» взамен мейерхольдовского принципа «биомеханики» упоминал ещё А. В. Луначарский за полвека до Зиновьева. Но по его рассуждениям, рассматривающим человека как клетку в большом социальном механизме, изучая и изображая человека в его социальной среде, можно было создать (всего лишь) полнокровный жизненный образ в театре.
Зиновьев задачу ставил гораздо сложнее. Чувствуя «моральный долг не перед людьми, а перед самим собой», он пытался создать «точную науку про общество».
«Принято думать, что человеческое общество есть одно из самых сложных явлений, и по этой причине его изучение сопряжено с необычайными трудностями. На самом деле… общество есть наиболее лёгкое для изучения явление, а законы общества примитивны и общедоступны» (!). Далее в своём «плотном» (особенно вначале) тексте философ и Логик это и пытается показать. Ниже следует компендиум основных положений.