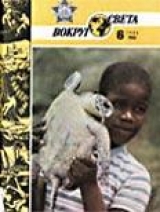
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Этой ночью прискачет Янис

Янис скачет по небу на невидимом черном коне, так что заметны только его сверкающий меч, светящийся пояс да звездный хомут. Народные поверья издавна связывают Яниса с созвездием Ориона. Из глубин Вселенной и веков едет Янис, чтобы прибыть на Землю в ночь летнего солнцеворота, в макушку лета. Лиго, или Янова ночь, издавна называли ее латыши; Ивана, или Янко Купала,– славяне. В эту ночь жгут костры, прыгают через них, спускают с гор огненное колесо-солнце и состязаются в песнях и плясках.
– А еще в Янову ночь и накануне варят пиво и делают сыр, рвут Янову траву и плетут венки из полевых цветов и дубовых веток, украшают дома и дворы березками и зеленью, величают песнями Лиго соседей, чтобы жили счастливо и в достатке, коров и овец – чтобы давали больше молока, сады и поля – чтобы лучше плодоносили, луга – чтобы сочной росла трава...– Виктор Александрович Гравитис готов рассказывать о Лиго бесконечно. Сам он, геолог и палеонтолог по профессии, всем складом своего характера больше тяготеет к истории науки и народного искусства, верований, традиций, обычаев. Частые командировки в разные уголки Латвии дают ему возможность пополнять свой дневник сведениями из народной астрономии, песнями Лиго, записывать обряды. В результате ему удалось детально восстановить сложную драматургию двухнедельной подготовки и проведения народного праздника латышей, который празднуется и по сей день.
Гравитис готов был познакомить меня со всеми разделами своего сценария, но до «появления» Яниса оставалось совсем мало времени – полтора дня, а нам еще предстояла дорога. Поэтому мы спешно едем с Виктором Александровичем на Центральный рынок Риги, добрая половина которого в эти дни отдана цветам. Выставленные на высоких прилавках, они образуют сплошной огромный букет. Наконец находим то, что нам нужно: одна из продавщиц ловко плетет дубовые венки, прихватывая ветви черными нитками к каркасу. Мы становимся счастливыми обладателями зеленых шапок – теперь встретим Яниса как положено!

Еще нужно купить сыр, вкусный и свежий, настоящий деревенский сыр с тмином – самый популярный у латышей. Потом спешим в булочную – за ароматным ржаным «крестьянским» хлебом, выпечку которого не так давно возобновили рижские пекарни. А с третьим, строго обязательным угощением – пивом, как уверяет меня Гравитис, все будет по правилам, и беспокоиться тут не о чем: его уже должны сварить по старым рецептам друзья, с которыми мы будем встречать Лиго.
До хутора в местечке Друсти, где живет летом с семьей друг Гравитиса Оярс Родс, два часа езды по Псковскому шоссе, и Виктор Александрович рассказывает мне в пути об одной из своих находок.
...Его давно занимала мысль, как определяли люди в давние времена день летнего солнцеворота. Ведь единственный способ, каким можно точно определить день в году,– астрономический. Старики рассказывали Гравитису, как раньше, наблюдая летом за заходящим солнцем из определенного места, скажем с крыльца дома, замечали точку, дальше которой оно уже не шло, а начинало вновь отступать. В этой точке делали зарубку на дереве или камне. Это и был самый длинный день в году – день Яниса. Виктор Александрович обнаружил три таких астрономических камня с высеченными на них линиями азимутов летнего солнцестояния – в местечке Салькане близ Резекне, на возвышенности в районе Алуксне и в Гребине, причем на последнем имеются также отметки весеннего и осеннего равноденствий.
Представления древних балтов о дневном и ночном пути Солнца, которые вырисовываются из латышских народных песен, очень архаичны и напоминают представления египтян и древних греков. Поэтому Гравитис считает, что космогонические воззрения древних латышей складывались примерно две с половиной тысячи лет назад. И он уверен, что находит подтверждение своей гипотезы в истории астрономии. Окружающая Землю река, или океан, называется в латышских народных песнях Тропой Солнца или Даугавой, как и самая полноводная река Латвии, до которой дошли когда-то двигавшиеся с юга на север балты. Ошеломленные, видимо, ее величием, они решили, что река достойна того же названия. Между тем Орион, с появлением которого на небосводе принято связывать приезд Яниса, на самом деле становится видимым в ночном небе, а значит, проходит вблизи Тропы Солнца не в период летнего солнцеворота, а значительно позже. Когда же в таком случае «небесный косарь», как называют в песнях Яниса, появлялся на широте Латвии вблизи солнечной эклиптики в ночь середины лета? Расчеты Гравитиса, сделанные с помощью астрономов рижского планетария, показывают, что это происходило... в первом тысячелетии до нашей эры, то есть именно тогда, когда, по его гипотезе, в сознании древних балтов складывалась картина мироздания. По дороге мы нарвали букет из «настоящей травы Яниса» – то были иван-да-марья и подмаренник с мелкими белыми цветами.
Заслышав шум мотора, Роде вышел встречать гостей.
– Я дарю свой венок папе Яниса,
Я дарю свой венок маме Яниса,
Лигуо! Лигуо! —
поем мы с Виктором Александровичем, надев свои дубовые венки, и подносим Оярсу и его жене Неллии букет цветов. На длинном струганом столе уже накрыт ужин, и в пузатых глиняных кружках дымится душистый чай из трав Яниса. За столом друзья и коллеги Оярса по работе – физики из института твердых сплавов при Латвийском государственном университете и молодые девушки в просторных льняных вышитых блузах – участницы фольклорного ансамбля, которым руководит Родс Оярс: студентки Айя Целма, Инга Гринфелде, Лиена Васильева, школьница Дита Путнергле.

За столом почти не умолкают ритмичные мелодии Лиго, незаметно возникающие тихим распевом из негромкой задушевной беседы, чтобы взлететь сдержанно-торжественным и тут же, при повторе, протяжным восторженно-ликующим: «Лигуо! Лигуо!»
Все крестьянские хлопоты по подготовке к празднику: и вспашка земли под пары, и прополка огородов, с которыми нельзя запоздать ко дню Яниса, и украшение дома зеленью, и защита его, по старинному поверью, от ведьм веткой рябины, которая укрепляется на двери, и плетение венков, и заготовка традиционных угощений – нашли свое отражение в песнях.
Далекая розовая полоска заката тает вместе с угасающим днем. Что пытаются пробудить в памяти мелодии, в основе которых, как считает латышский музыковед А. Юрьян, лежат древнегреческие лады?
...От Дня трав нас отделяет теперь лишь ночь. И вот, потревоженные первыми лучами солнца, заворочались белые клубы тумана в низине, холодно блеснула под холмом излучина Гауи, которая здесь, в самых верховьях, течет прозрачным ручьем под низко нависшими ивами.
Девушки, оказывается, уже на лугу. Собирают цветы, плетут венки, гирлянды из дубовых веток и песней призывают нас начать косьбу.
По росе наточенная коса ходит легко, с хрустом, оставляя за собой рядки душистого разнотравья и щекоча ноздри острым запахом срезанных стеблей клевера, шалфея, ромашки, мяты, валерианы, зверобоя. Недаром Лиго называли и Днем трав. Именно в это время травы достигают пика зрелости. Целебные травы тоже заведено собирать в день Яниса, но только обязательно вечером, чтобы дольше сохранялись высушенными. В Старой Риге на берегу Даугавы был специальный базар, где торговали этими травами, и рижские аптекари закупали их там в эти дни на весь год.
Накошенную траву пучками развешиваем по стенам, бросаем на пол, украшаем ею стол. Срубленная молодая березка поставлена возле двери. Утро прибавило новых гостей Яниса, а вместе с ними рабочих рук. Оярс повел всех на самый высокий в округе холм, где состоятся главные события следующей ночи. Туда нужно затащить тяжелые бревна для большого костра, которому гореть до рассвета; на вершине врыть высокий столб со смоленой бочкой наверху, а по склонам отметить березками два азимута – на заход и на восход солнца в ночь Яниса.
В доме женщины пекут сладкие пироги, крошечные пирожки со шкварками, сырное печенье с тмином, делают множество маленьких бутербродов. Все это они выносят вместе с кувшинами домашнего пива на длинный стол, утопающий в зеленых гирляндах и венках.
В шесть вечера мы идем встречать последних гостей, приехавших поездом из Риги. Со скрипками, волынками, рожками, колокольчиками, в национальных костюмах они идут по насыпи, приветствуя нас дружными «Лигуо! Лигуо!». Бородатого гиганта в очках и широкополой соломенной шляпе нельзя не узнать и издали – это Дайнис Сталтс, руководитель самого популярного в Латвии фольклорного ансамбля «Скандинеки» – при музее этнографии под открытым небом. Скрипачка рядом с ним – участница его ансамбля Илга Рейзниеце, тоже имеющая свой фольклорный коллектив при районном Дворце культуры. А стройный парень в черной фетровой шляпе с волынкой – руководитель фольклорного ансамбля Рижского университета «Дандары» Эрнест Спиче. У нас в гостях весь цвет латышской фольклористики – то-то будет песен и танцев!
И вот мы все с венками на головах ведем хоровод вокруг стоящего возле дома огромного развесистого дуба, похожего на увеличенный раз в двадцать круглый декоративный куст, который садовник не ленится подрезать каждое утро. Мы поем, хлопаем в ладоши, величая «косаря» и его «родителей» в лице Оярса и Неллии, затем чьи-то руки выхватывают из хоровода двух парней-именинников: Янисам сегодня особый почет и уважение.
Настала пора следующего момента праздника: надо опеть – «облиговать», как говорят здесь, и дом, и двор, и поля вокруг, ну и конечно, всех жителей соседней деревни.
Подходя к одному из домов, Оярс стучит в барабан, его поддерживают труба и незнакомый мне инструмент в виде посоха со множеством подвешенных наподобие бубенчиков металлических треугольных пластинок. Все дружно поют:
Не спи, не спи, хозяйка,
Я звоню в волшебный колокольчик.
Добрый вечер, мама Яна,
Разве ты не ждала детей, Яна?
Выходи на улицу, встречай гостей!

Вместо «мамы» в дверях появляется высокий парень и с улыбкой предлагает нам смело заходить во двор и растоптать в огороде все сорняки. Как?! Янис пришел с проверкой, а у хозяев не прополот огород? Мы вправе потребовать с нерадивых крестьян сыра и пива. Парень, однако, отлично знает, что торопиться с угощением не следует. Он сетует на то, что как раз накануне Янова дня волк унес козленка, а ячмень съели зайцы.
В конце концов парень несет кувшин со сладким пивом и сыр. Мы уже благодарим «папу» Яна за угощение, но тут в разговоре выясняется, что он пока не женат. Теперь дело за нами – заходим к нему в дом и кидаем на постель пучки травы – чтобы осенью играть хозяину свадьбу. А это кто там спит как сурок в ночь Яниса – брат? Брату под одеяло летит крапивная плеть: кто спит в Янову ночь, тот останется холостым.
Вообще мотив будущей свадьбы часто повторяется как в песнях, так и во всем ритуале Лиго. Чтобы узнать, ожидает ли ее скорое замужество, девушка ставит в канун Яновой ночи около постели цветок мелколепестника и утром смотрит, раскрылся ли на нем бутон, предвещая свадьбу. Гадают и по-другому. Бросают на дуб правой рукой через левое плечо венок: если тот останется в ветвях, в этом году девушка выйдет замуж; пускают по реке два венка: если они сойдутся, быть в этом году свадьбе. Но это к слову, а у нас дело серьезное: ведь обход владений Яниса – не пустая забава. Стоит только заметить какую-либо неряшливость в крестьянских работах, наши куплеты, как русские частушки, становятся колючими – крестьяне всегда очень ревностно относились к своим обязанностям и строго следили за тем, чтобы не нарушались календарные сельскохозяйственные порядки. Поэтому критика в песнях лишний раз доказывает аграрное, так сказать, происхождение Лиго.
На Друсти опускается вечер. Наш путь лежал теперь на вершину большого холма, где высился столб с бочкой наверху. Один из ребят половчее влез с факелом на столб и в тот момент, когда на горизонте угасал последний луч солнца, поджег бочонок. Сильный ветер быстро раздул пламя, и сполохи Янова огня рванулись в небо. Всю ночь, пока не появится утреннее солнце, мы будем хранить огонь. Быстро набирает силу и огромный костер из толстых березовых кругляшей, вокруг которого мы поведем свои хороводы, будем танцевать сурманес («мельницу») и иные танцы Яновой ночи. Далеко во тьме вспыхивают другие костры...
«Лигуо! Лигуо!» – колоколом бьется завораживающее таинственное слово, смысл и происхождение которого не вполне ясны. В латышском языке первоначальное значение этого древнего слова – «плавное движение». С языка ливов его можно перевести восклицанием «Да будет!», что, пожалуй, ближе ритуальной песне.
Целый день уже звучат песни Лиго из неисчерпаемой кладовой народной поэзии и музыки, их могло бы хватить не на одну ночь, а на целый год, ведь до нас дошло более сорока тысяч текстов на тысячу с лишним мелодий! Дошло, несмотря на то, что церковь усиленно боролась с ними. Но народ никогда не терял надежды, что придет время, когда он сможет петь их радостно и свободно, как и праздновать Лиго, день труженика земли, знаменующий расцвет сил природы и ставший в ходе многовековой борьбы с иноземными завоевателями символом бессмертия творческих сил народа.
Веселье между тем в разгаре. Разбившись на отдельные группы, девушки и парни по традиции устраивают шуточное соревнование – кто кого перепоет. Потом уже целые ансамбли стараются перепеть друг друга одновременно.
Отсветы огненного столба падают к подножию холма, где в мшистой низине, в подлеске раскинул лапы папоротник, который, по поверью, цветет в купальскую ночь, но злые духи неусыпно сторожат этот момент. В полночь цветок зацветет и тут же сгорает. Надо успеть взять его в ладонь, и тогда исполнится любое желание, счастливец будет посвящен в тайны языка зверей и птиц. Стоит чуть замешкаться – и ждать такого случая придется еще год.
...Рвется пламя из смоляной бочки в неспокойное небо, где-то гремит далекий гром и полыхают зарницы. Не топот ли это Янова коня? Ведь он вот-вот должен приехать...
– Это произойдет через две минуты в самый темный момент самой краткой летней ночи – в два часа двадцать минут по местному меридиональному времени,– уточняет пунктуальный Гравитис, всматриваясь в циферблат часов. Мы подкатываем к огненному столбу обмотанное соломой и вымазанное дегтем колесо от старой телеги, поджигаем его факелом от костра и спускаем с горы в сторону заката. Прочертив огненной кометой черноту ночи и подскакивая на буграх, наше самодельное солнце, шипя, исчезает в воде. С этого мига и светило, достигнув летнего зенита, пойдет на убыль, пока не скатится до точки зимнего солнцестояния.
Вот и приехал наш долгожданный гость. Девушки, чтобы стать еще краше, ладонями собирают с травы росу Яниса и умываются ею. Грудой красных углей рассыпался костер, но Янова роса уже заискрилась в первых проблесках нового дня.
Увидите утром Яна,
Как солнце играет –
То голубое, то зеленое,
То чисто-серебристое.
Лиго! Лиго!
Александр Миловский
Тайны знакомых названий

Откуда пошли географические названия – Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия? Как родились химические термины – рутений, галлий, гафний, стронций? О происхождении топонимов и вторжении топонимических производных в разные отрасли языка написано много книг, существуют толковые словари, этимологические справочники. Часто разгадка лежит на поверхности – достаточно лишь сравнить корни слов в различных языках, но во многих случаях ответ, найденный в словаре, порождает лишь новые вопросы: это означает, что к единому мнению специалисты так и не пришли. Попробуем свести воедино разные версии и в очередной раз поломаем голову над «детскими вопросами». Они ведь только называются «детскими», чаще всего за ними скрываются глубины истории и «белые пятна» на карте знаний.
Итак, почему «Америка», а не «Веспуччия»? Этот вопрос в течение уже нескольких столетий задают ученые и просто любознательные люди, интересующиеся историей географии. Впрочем, есть ли здесь тайна? «Советский энциклопедический словарь» (М., 1981) сообщает, что флорентиец Америго Веспуччи, «участник нескольких испанских и португальских экспедиций (1499—1504) к берегам Южной Америки, названной им Новым Светом», «впервые высказал предположение, что эти земли – новая часть света, которую лотарингский картограф М. Вальдземюллер назвал (1507) в честь Америго Веспуччи Америкой». Все правильно. Мы нисколько не оспариваем информацию, сообщенную в солидном издании, однако ответа на вопрос, почему «Америка», а не «Веспуччия», оно не дает.
Здесь уместно вспомнить заметку, опубликованную в журнале «Вокруг света» почти столетие назад – в 1890 году:
Происхождение названия Америки
Учебники географии нас учили, и вообще принято мнение, что материк, открытый Христофором Колумбом, получил свое название Америки по имени флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, который первый составил подробное описание открытого Колумбом материка в своих известных письмах 1507 года под заглавием «Quatuor navigationes». Веспуччи был выставлен в предисловии к этим письмам первым мореплавателем, ему даже приписана честь открытия нового материка. Впоследствии это название возбудило споры. Бразильские историки доказывали, что название «Америка» чисто местное, от слова «Марока» (верховное божество у древних обитателей Бразилии); американский геолог Марку доказывал, что слово это происходит от названия жителей туземного происхождения (los Ameriques), и т. д. Словом, все они доказывали, что Америка получила свое название от чисто местного, туземного слова. По словам «Revue Scientifique», французско-американский ученый Ламбер-де-Сен-Бри рядом неопровержимых данных доказал, что описанный Веспуччи материк носил уже в то время поныне сохранившееся название. Наименования «Амарака», «Америокапана», «Амеракапана» и т.п. встречаются давно: испанский историк Херрес говорит, что мореплаватели Охед и Веспуччи нашли в 1499 году на берегу нынешней Венесуэлы порт Маракапан, который английским мореплавателем Рэлеем, посетившим Америку в 1584 году, назван в своих донесениях Америокапана...
Стефан Цвейг назвал эту историю «комедией ошибок». Писал об этой проблеме великий Александр Гумбольдт, а также Вашингтон Ирвинг в своем четырехтомном «Открытии Америки». Как правило, все исследователи вопроса ссылаются на картографа Вальдземюллера. Однако не надо забывать, что сам Мартин Вальдземюллер в 1513 году выпустил карту, на которой не было никакой Америки. Распространению названия «Америка» способствовало то, что в середине XVI века центр европейской картографии переместился в Германию. Молодой Вальдземюллер – ему было не более 32 лет – обессмертил свое имя, приписав части Бразилии, считавшейся тогда островом, имя Америго Веспуччи.
Тут возникает всегда очень много вопросов. Считается, что кружок гуманистов в лотарингском городке Сен-Дье, расположенном неподалеку от Страсбурга, познакомился с письмами Америго в латинском переводе. Но по-латыни имя «Америго» передавалось как «Альберик». Почему же тогда Вальдземюллер вернулся к итальянскому имени мореплавателя? Почему вообще немецкий картограф позволил себе назвать новооткрытый участок суши первым именем, а не фамилией путешественника? Первыми именами называли земли только в честь коронованных особ! Ответов на эти вопросы до сих пор никто не дал.
Интересно, что сами испанцы (да и англичане) очень долгое время не соглашались называть Америку Америкой. Даже в 1627 году, то есть через 135 лет после открытия Колумба, испанские чиновники требовали запретить пользование «любой картой, на которой начертано имя «Америка»!».
Лишь к концу XVII века испанцы согласились переименовать свои «Западные Индии» в «Америку». А до этого весь Южноамериканский континент назывался «Перу» или «Пиру» – «Страной золота». Это название дал ему человек, открывший Южное море – Тихий океан,– испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа. На портрете Магеллана написано по-латыни: «Фердинандус Магелланус – открыватель водного прохода в южной Перувианской земле».
Англичане тоже очень долго именовали Америку просто Новым Светом, а «американцами» в последней четверти XVI века они стали называть индейцев. До той поры индейцы в глазах европейцев были просто «натуралами» – «детьми природы».
Но если все же правы энциклопедии, то что означает имя «Америго», вокруг которого кипит столько страстей? Тут соединились два готских слова: «амала» и «рейке». «Амал» означало «трудолюбивый, усердный, работающий на благо других». Известен король остготов Амал. В VI веке в Испании правил Амаларих – внук короля остготов Теодориха Великого.
Слово «рик», «рейке» имело много значений: «сильный», «мощный», «властный», «царь». Для сравнения можно привести латинское «реке», немецкое «рейх». Таким образом, Амальрик означало – «герой, вождь, царь». В Италии после вторжения готов это имя стало звучать несколько иначе. Итальянский язык не признает соседство «л» и «р», поэтому «лр» переделали в «рр». Веспуччи подписывался именно с двумя «р»: Амерриго Веспуччи.
Вернемся к Вальдземюллеру. Почему все же картограф назвал новую землю лишь первым именем мореплавателя? Некоторые исследователи объясняют это тем, что в Испании подобное итальянское имя было крайне редким: мол, Веспуччи был на испанской службе, других флорентийцев с таким именем в самом начале XVI века там не было,– вот все его и звали запросто: Америго (довольно интересный тезис: оказывается, немного нужно было, чтобы иностранца приравняли по значимости к коронованным особам!). Впрочем, довод самого Вальдземюллера был не лучше. Он писал, что поскольку Азия и Европа названы именами женщин, то давайте Новый Свет назовем в честь мужчины (?!).
«Веспуччиевская» версия трещала еще в прошлом веке. Александр Гумбольдт доказал, что Веспуччи не совершал всех своих четырех путешествий в Новый Свет. А в начале 70-х годов этим вопросом занялся француз Жюль Марку (ошибочно названный в давнишнем номере «Вокруг света» «американским геологом»). Он выдвинул собственную версию, по которой название «Америка» следовало производить от названия индейского племени «амерриков», еще в конце XIX века проживавших у озера Никарагуа. Мол, дело обстояло так. В 1502 году Христофор Колумб достиг «Москитного берега» – никарагуанского побережья. Когда во время обмена с индейцами испанцы стали спрашивать, откуда у тех золото, аборигены показывали на запад и говорили: «Америкос», имея в виду тех, кто продавал им золото. Именно так возникла легенда о сказочной золотоносной стране «Америке», легенда, которая очень быстро облетела Европу. Ведь индейцы, которых допрашивал Бальбоа, тоже говорили о «Стране золота», «Эльдорадо»: они показывали на юг, за горы, и говорили: «Виру». Такое происхождение названия Перу ни у кого не вызывает сомнений. Почему же не предположить, что именно так родилось название Америки, и не допустить, что «повинен» в этом Колумб?!
Жюль Марку привел очень убедительные данные, подтверждающие его версию. Впрочем, споры продолжаются и по сей день. Ясно лишь одно: если происхождение слова «Америка» допускает много толкований, то в вопросе, откуда пошел химический термин «америций», тумана нет вовсе: этот элемент назван по месту открытия, а открыт он был в Америке...
Элемент европий назван в честь Европейского континента. Но само слово «Европа» пришло из Азии.
На территории нынешнего Ливана жил когда-то народ отважных мореплавателей. Эти люди вели торговлю со всем Средиземноморьем, даже обогнули за три года Африку. Греки именовали их «фойны», римляне исказили название, превратив его в «пуни», нам же этот народ известен как «финикийцы».
Популярная легенда гласит следующее. У финикийского царя Агенора была прекрасная дочь по имени Европа. В нее с первого взгляда влюбился всемогущий Зевс. Верховный бог обратился в белого быка, похитил девушку и перенес ее на остров Крит. Там-то Европа и ступила впервые на землю другого континента, который получил имя в ее честь.
Некоторые исследователи считают, что имя Европа означает «широкоглазая» – в древности это прилагательное было эпитетом Луны, а, как известно, Луна широко почиталась в древней Финикии.
Интересно, что Геродот в V веке до нашей эры под Европой понимал лишь континентальную Грецию. В том же веке Эсхил различал уже Европу и Азию, но к грекам это разграничение пришло от ассирийцев. В III веке до нашей эры древнегреческий ученый Эратосфен Киренский включал в Европу все известные в ту пору территории северной Азии. Средневековые географы считали границей Европы Днепр (греческое название Борисфен), а затем Дон (Танаис). И только к 40-м годам XVIII века границу между Европой и Азией окончательно провели по Уралу.
Итак, Азия...
Земли, раскинувшиеся к востоку от Эгейского моря, греки называли разными именами: Иония, Галатия, Каппадокия, Ликия, Памфилия, Киликия... Была среди этих провинций и Азия (или Асия).
Однако само слово «Азия» не греческое. Оно встречается в ассирийских надписях. Писалось это слово «асцу» или «асу» и означало «восход солнца». Некоторые ученые видят связь названия «Азия» с еще более древним словом – санскритским «ушас» («узас»), что означало «рассвет», «заря».
Страбон называл «азиями, азианами» скифские племена, обитавшие за Каспием, которые воевали с правителями Греко-Бактрийского царства. Потом азианами стали называть жителей ионических городов римской провинции Азиа Минор. Хотя в переводе это означает Малая Азия, тем не менее провинция занимала лишь небольшую часть нынешней Малой Азии.
В греческой мифологии Азия была одной из многочисленных дочерей бога-титана Океана. Именно она, по некоторым вариантам, родила Прометея, подарившего людям огонь. Сам Океан был сыном Урана и Геи и обитал в реке Океан, которая окружала земную твердь. На карте Тосканелли, которой пользовался Колумб, Атлантический океан назывался «Маре Океанум».
Азию обычно изображали женщиной, восседающей на верблюде. В одной руке она держала ящичек с восточными пряностями, а в другой – щит.
Впрочем, было время, и относительно недавно, когда никакой Азии на картах не значилось. Например, в XIII веке знаменитый венецианец Марко Поло путешествовал вовсе не в Азию, а в «Катай» – так он называл Китай. Но потом, в эпоху Великих географических открытий, пришлось вспомнить старое греческое название для обозначения востока, поскольку аналогичное латинское слово «ориент» (сравним: ориентация – обращение лицом к востоку, выбор страны света) к тому времени прочно закрепилось за мусульманским Востоком.
Теперь перейдем к Африке. Это тем более логично, что по одной из версий название «Африка» семантически, то есть по смыслу, связано с Азией. Однако об этом чуть позже.
«Отец истории» Геродот в V веке до нашей эры именовал Африку Ливией или Лувией, производя это слово из названия племен «лбу» («рбу»), обитавших на южном побережье Средиземного моря. С сопротивлением этих племен греки столкнулись, когда в VII веке до нашей эры стали основывать колонию в Киренаике. Гораздо позже римляне стали называть местные народности «либами» или «ливами».
Так или иначе, Ливией называлась территория Северной Африки, прилегающая к Средиземному морю и расположенная к западу от дельты Нила. Все, что находилось южнее греческой Ливии и Египта, называлось Эфиопией.
«Африка» как географическое название появилось во II веке до нашей эры, и важную роль здесь сыграли Пунические войны. Одержав победу над врагом и разрушив Карфаген в 146 году до нашей эры, римляне основали на захваченной территории (в районе современного города Тунис) колонию. Она и получила название Африка – здесь прослеживается явная связь с воинственными племенами афариками или авригами (африканами), обитавшими на большой территории, вплоть до Гибралтара. Кстати, на северо-востоке Эфиопии до сих пор существует народность афары, а в Джибути это одна из двух основных национальностей, населяющих страну.
Названия «Ливия» и «Эфиопия» долго обозначали огромные области Африки, эти топонимы «побывали» даже в краях, лежащих южнее Сахары. Вплоть до XVIII века Гвинейский залив называли Эфиопским морем или Эфиопским океаном. Еще в не столь отдаленную от нас эпоху люди верили, что вода в этих местах кипит от солнечного жара, а люди становятся черными, потому что кожа их обугливается, как у негров.
Все это хорошо известно, широко представлено в различных словарях и энциклопедиях. Но вот что можно прочитать в книге Льва Африканского «Африка – третья часть света», вышедшей в 1983 году в русском переводе в Ленинграде: «Африка – по-арабски «Ифрикия». Название происходит от арабского слова «фарака», означающего то же, что по-итальянски «дивиде» (разделять, отделять)».
Так в XVI веке писал арабский мыслитель Мухаммед аль-Вазан, попавший в Италию в юношеском возрасте и получивший прозвище Льва Африканского. Возможно, что он-то и был ближе всего к истине, и тогда «Африка» означает «отделенная». От чего и чем? Разумеется, от Азии (Аравии) и, бесспорно, Красным морем, которое было хорошо известно географам и историкам древности.
С названием пятой части света дело обстоит совсем просто. На латыни «аустралис» означает «южный».
Европейцы давно догадывались о загадочном континенте на юге, старые картографы называли его «Терра инкогнита аустралис», то есть «Южная неизвестная земля». Птолемей Александрийский считал, что Африканский континент на далеком юге естественным образом переходит в гигантский материк, который занимает всю южную оконечность Земли.
Об Австралии в нынешнем понимании имели сведения, по-видимому, еще средневековые арабские ученые. В X веке знаменитый историк и путешественник Масуди описывал «животное, которое 7 лет живет в утробе матери и выходит оттуда только для добывания пищи». Очевидно, имелось в виду кенгуру.
Впервые загадочной «Южной земли» достиг в 1606 году голландский мореплаватель Биллем Янсзон. Название «Новая Голландия» продержалось за новым континентом на отдельных картах вплоть до конца XIX века!
А название «Австралия» предложил в 1814 году английский исследователь Мэтью Флиндерс. Его еще называют «отцом австралийской гидрографии».
В 1801 году он впервые обогнул всю Австралию. Через два года по пути на родину его захватили на Маврикии французы и освободили только в 1810 году. Здоровье Флиндерса было подорвано, но все же ученый успел написать книгу «Путешествие к Терра Аустралис», которая увидела свет 19 июля 1814 года – в день смерти отважного капитана.
Интересно, что в Европе в свое время была Австразия! Так в VI—VII веках называлась восточная часть франкского государства Меровингов, временами обособлявшаяся в самостоятельное королевство. Оно располагалось по берегам рек Мозель, Маас и Рейн.








