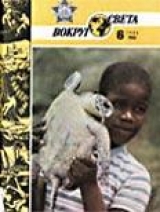
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1985 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Нет тишины в тихой Швабии

Зеленые горбы Швабского Альба. Извилистая дорога тянется все выше. Птицы щебечут в кустах, дети смеются и кричат заливисто, как птицы. Колоннами высятся светло-серые буки. Синее небо, желтые завалы сухих листьев.
Дорога утомляет. Садимся на прогретые камни. Только пятилетней Анике не сидится на месте. Беру ее за руку:
– Баловница ты, Анике.
Слово ей нравится, она вырывается, отбегает и повторяет на свой лад:
– Баляница! Баляница!
Хорст-Хенинг Гротхер, отец девчушки, вдруг спрашивает:
– У вас нет ощущения, что вы в стране, которая...
И словно солнце заходит за набежавшую тучу.
«Никто не забыт, и ничто не забыто»,– говорим мы. Нельзя забывать зло, но мы знаем, что не бывает виноват народ. И когда говорим так, имеем в виду враждебные народам политические силы. Однако за совершенные этими силами темные дела и по сей день многие здесь, в Западной Германии, ощущают почти личную ответственность...

Вчера приходил в гости к Гротхерам пастор Хартсштайн с женой Белитой. Фрау Белита – тоже пастор. Она рассказала, что ее отец состоял в нацистской партии, а два брата в гитлерюгенде. И спросила меня, не чувствую ли я, что нахожусь в стране недавних врагов? Вопрос для нее полон был особого смысла: ощущение вины заставило ее уйти в религию. Вновь и вновь возникает естественное желание взвесить тяжесть этой вины, проверить и ощутить – нет, не полегчала страшная ноша со временем...
– Так как вы себя чувствуете в нашей стране? – снова спрашивает Хорст-Хенинг.
– С вами мне хорошо,– говорю я. Я не лицемерю, не стараюсь подладиться к гостеприимным хозяевам. И вчера и позавчера были у нас разговоры и о личных судьбах, и о большой политике. Разговоры, но не споры. О чем было спорить, когда все мы желали мира и процветания своим народам, друг другу, личного и общественного благополучия. Мои знакомые – активные члены партии «зеленых». Несколько лет назад она возникла на политическом горизонте ФРГ и удивляет многих ростом популярности.
Впрочем, так ли уж неожиданна ее популярность? Возникновение в ФРГ партии «зеленых», политического движения, провозгласившего главной своей задачей заботу о мирном будущем Земли, можно рассматривать как реакцию жителей Западной Германии на возросшую опасность новой мировой войны.
Наши общие знакомые, активные сторонники развития дружественных контактов между нашими народами, познакомили меня с семьей Гротхер: – Ты хотел познакомиться с «зелеными»? Лучшее знакомство – не понаслышке...
В первый же вечер за их семейным столом, за кружками пива, и пошел разговор о «зеленых». Начался он с общеизвестного: над миром нависла угроза экологической катастрофы, природные ресурсы планеты не безграничны, мы обязаны думать о судьбе будущих поколений. И конечно, говорили о войне и мире, об угрозе ядерного самоуничтожения человечества.
– Политические фантасты порой, как сирены, завораживают наш слух сладостным пением. Нас уверяют в безграничных возможностях техники, успокаивают видениями космических поселений,– горячо говорил Хорст.– Словом, грабь природные богатства, разрушай биосферу, круши землю. А дальше что? Переселимся на другие планеты? Наука к тому времени, мол, все сможет?
Способность человека к биологической адаптации небезгранична, и мечта о превращении биосферы в техносферу – самообольщение, если не прямой обман. Надо всеми силами стараться сохранить ту среду, в которой мы живем. И прежде всего надо сохранить мир, избавить человечество от угрозы ядерной смерти...
...Так Хорст говорил вчера, а сейчас мы сидим у руин средневекового замка на прогретых солнцем камнях. Ветер шумит в кустах, узкой белой полосой искрится водопад. В зеленой долине пасется табун лошадей, движется, словно облако перетекает, отара овец. Скользит по холмам бесшумная тень планера... Тихо.
А ведь там, за зелеными увалами идиллических гор Швабского Альба, стоят теперь американские «першинги».

Здесь в октябре 1983 года состоялась невиданная по массовости антиракетная демонстрация. Четыреста тысяч человек, взявшись за руки, перегородили тогда эти горы живой стеной длиной в 108 километров – от Штутгарта до Ульма. В тот октябрьский день западногерманские сторонники мира продемонстрировали свое отношение к американским ракетам...
Солнце над горами. Внизу широко разлегся по долине город. Пестро-красный ковер крыш, шпили кирх и костелов.
Ветер шумит в пустых окнах. Дети убежали в темные переходы старого замка. Эльке Гротхер пошла присмотреть за ними. А мы с Хорстом-Хенингом продолжаем давно начатый разговор.
– Мы призываем к борьбе за сохранение природы,– твердо повторяет он, словно читает лекцию.– Воздух, вода, животный и растительный мир, без чего человек жить не может, сейчас уничтожаются индустрией. Европейское экономическое сообщество в существующей форме не только не позволяет сохранять природу, а во многом лишь ухудшает положение. «Зеленые» требуют радикального изменения ситуации. Необходимо экологическое единство. Это, на наш взгляд, означает: на первом месте должно быть обеспечение нормальных условий существования людей, животного мира, всей природы. Экологическая политика только тогда будет успешной, когда каждый будет ощущать ответственность за жизнь, за будущее Земли как космического тела.
Разговор начался не сегодня, и он не кончается здесь, на руинах старого замка. И на обратном пути, не отрывая взгляда от дороги,– скорости автомобилей на загородных шоссе тут редко опускаются ниже ста километров в час,– Хорст-Хенинг продолжает рассказ о задачах, которые ставят перед собой «зеленые».
– Экологическая политика, по нашему мнению,– это прежде всего политика мира. Необходимо ликвидировать военные блоки, порожденные «холодной войной». В Европейском парламенте комиссию по вооружению необходимо превратить в комиссию по разоружению. Мы требуем отказа от разработок новых систем вооружения... Мы против эксплуатации и всяческого насилия... Мы хотим убедить отдельных людей, организации, учреждения не забывать о совести...

Теперь я начинаю понимать, почему крайне правые Западной Германии заявляют: «зеленые» – это все равно что «красные». Правда, очень сомнительно, что призывами к совестливости можно чего-то добиться в ожесточенной классовой борьбе, ибо социальной справедливости можно достичь лишь на пути, которым настойчиво и последовательно идет Германская коммунистическая партия. В программном заявлении ГКП в качестве главной задачи на ближайший период провозглашалась борьба за демократическое обновление государства и общества, ограничение власти монополий, ликвидацию неонацизма и преодоление милитаризма, за достижение единства действий рабочего класса.
Многие, с кем сводил меня случай в этой поездке по Западной Германии, говорили, что они сочувствуют «зеленым». И я уже не удивлялся быстрому росту популярности этой партии. В Штутгарте, к примеру, «зеленых» всего 700 человек, но на выборах в марте 1984 года они получили 12 процентов голосов избирателей. Такой же успех сопутствовал им в Баден-Вюртемберге, где «зеленые» увеличили свое представительство в земельном правительстве сразу на треть. А в городе Тюбингене за них проголосовала пятая часть избирателей...
Тюбинген – уютный, кажущийся игрушечным, городок. Тихая река разрезает город. Во многих местах набережных нет, и стены домов уходят прямо в воду. Синева окон вбирает, отражает синеву реки. Плавают утки, а глаз так и ищет в окне и на балконах рыболовов с удочками. Но окна закрыты, город выглядит малолюдным: суббота, ясный весенний день. Кто усидит дома?
Мы поднимаемся в гору по гладкой, отполированной столетиями брусчатке. Глубоко под ногами – ущелья старых улочек. В Тюбингене, как и в Других здешних городах, дома стоят веками. В Урахе я видел аптеку, существующую с 1479 года. Старые дома здесь не просто памятники старины, в них и поныне живут люди, в них магазины и кафе.
В субботу в Тюбингене закрыты магазины, зато кафе распахнуты настежь. На улицах преимущественно молодежь, студенты: здесь находится один из старейших и крупнейших университетов страны. Группы юношей и девушек стоят возле магазинных витрин, сидят за столиками кафе, выставленными прямо на улицу, пьют пиво, беседуют, присаживаются или лежат на прогретых камнях. Звучит музыка: играют небольшие студенческие ансамбли, то ли для заработка, то ли для развлечения. Кое-где раскинуты лотки, продают брошюры, собирают пожертвования и подписи под требованиями усилить внимание к охране окружающей среды.

Подходим к одному из таких лотков. Юноши и девушки с молодой энергией принимаются внушать нам, как это опасно, если нынешняя индустриальная экспансия против природы не будет ограничена. На стенде и прямо на серой церковной стене – плакаты, обращающие внимание на плачевное состояние горных лесов, на отравленные промышленными отходами реки, на загрязнение Мирового океана. Смотрю на большую цветную фотографию – берег тропического острова, устланный умирающими морскими черепахами. Снимок страшный.
– Вы что же, «зеленые»? – спрашиваю я.
– Сочувствующие.
К партии «зеленых», как к кристаллу в перенасыщенном растворе, стягиваются симпатии десятков тысяч людей.
Снова дорога, теперь в Штутгарт. И снова Хорст-Хенинг обращается к волнующей его теме:
– Мы требуем конституционного закрепления прав человека на жизнь, достойную работу, гарантированный минимальный доход. Мы выступаем за реальное равенство мужчин и женщин в политике, культуре, на работе и в семье. Рабочее время должно быть организовано так, чтобы родители имели возможность быть со своими детьми, воспитывать их...
Дом Гротхеры купили лет пятнадцать назад, когда Дегерлох был еще деревенской окраиной Штутгарта. Купили и переделали снизу доверху, надстроив целый этаж. И все – своими руками. Делать по возможности все самому, как уверяет Хорст-Хенинг, один из принципов «зеленых».
У них нет телевизора; тоже из принципиальных соображений. Они считают, что гармоничному развитию каждого члена семьи, особенно детей, современное телевидение явно не способствует. Зато в детской комнате полно игрушек, стимулирующих в детях активное начало в отличие от телевизионного, созерцательного.
В подвале мне показали полиэтиленовые мешки с алюминиевой фольгой: ответ на один из призывов «зеленых» активнее использовать вторичное сырье. Производство алюминия требует огромных расходов энергии, воды, воздуха. И потому фольгу тут собирают всюду. На улицах установлены пластмассовые баки, и над ними – плакаты, разъясняющие, почему это надо делать. Вероятно, многие понимают, что такие сборы не так уж много и экономят. Но воспитательная роль этой акции для всех несомненна.

Хорст-Хенинг построил на крыше своего дома солнечный нагреватель: ведь «зеленые» ратуют за более широкое использование экологически безвредных источников энергии, в частности солнечной. Горячая вода стекает в подвал, в котлы, покрытые толстым слоем пенопласта, и дальше используется для домашних нужд. Выгодно? Пока нет: солнечный нагреватель при нормальном беспрерывном функционировании окупится лет через... тридцать-сорок. Но Гротхеры и в этом показывают пример соседям, жителям района. И прежде всего своим детям, которые, несомненно, вырастут «экологически ориентированными...».
Каждое утро Хорст садится на велосипед и едет за пять километров на работу в научный институт. Двухколесная машина тоже веяние времени: «зеленые» – за безвредный и бесшумный транспорт. Хорст говорит, что вовсе не насилует себя во имя идеи. Велосипед для него еще и удовольствие. Действительно, я вижу, что вечером он возвращается с работы бодрым и спокойным.
Иду к центру города. Сегодня мой маршрут на Кёнигштрассе – Королевскую улицу. Возле зазывных витрин вспоминаю Гротхеров: они учат своих детей не заглядываться на рекламу. Безудержные покупки вызывают безудержное производство ненужных вещей. И во имя этого ненужного, без чего вполне можно обойтись, расходуется сырье, энергия. Может быть, в таком подходе к экологическому кризису краски несколько сгущены, но все же...
Кёнигштрассе людна и шумна. В развалах дешевых товаров копаются люди, одетые попроще,– преимущественно иностранные рабочие. Посреди улицы ансамбль молодых людей оглушает гитарно-ударными ритмами. Чуть дальше ползает по асфальту уличный художник – рисует цветными мелками портрет какой-то знаменитости. На перекрестке маленькая женщина исполняет медленный восточный танец с долгими статичными позами. Ставит ногу на пятку, медленно шевелит ступней, делает быстрый поворот, снова застывает в красивом изгибе, поднимает руку, потом другую, разворачивает ладони... Плавно, с бесстрастным лицом. Возле – жестянка для монет с надписью «Покой – основа мира».
То и дело на глаза попадаются плакаты, призывающие участвовать в марше протеста к американской военной базе Мутланген. «Зеленые», я знаю, собираются самым активным образом участвовать в предстоящем марше.
Вспоминаю фразу, вычитанную недавно в газете: «Командованию НАТО поручено теперь всеми силами расправляться с антивоенным движением. В январе 1984 года генерал Роджерс дал приказ в случае чего «открывать огонь по демонстрантам» вблизи американской военной базы в Мутлангене в ФРГ, где уже приведены в состояние боевой готовности первые «першинги-2».
Мутланген. Это слово часто звучало в доме Гротхеров. Вся семья пойдет туда: участие в марше мира прямо соответствует их воззрениям.
Накануне вечером Гротхеры собрались на очередную встречу. На окраине города возле большого костра – человек двести, в основном молодежь. Ораторы бросают гневные слова, протестуют против американских ракет на западногерманской земле. Отблески пламени мечутся по суровым, без улыбок, лицам. Из рук в руки передают листки с текстами песни, и люди, встав в круг, поют хором:
Маршируем на Восток? Нет!
Маршируем на Запад? Нет!
Маршируем во имя мира без оружия...
До чего мощно звучит это «Нет!». Строки повторяются, заражают всех четким ритмом.
Костер окопан канавкой, чтобы огонь не распространился по полю. Вокруг ходит человек с повязкой «распорядитель» на рукаве, поправляет головешки. В стороне – туда не доходят отблески костра – синеет лампочка полицейской машины. На всякий случай. Протестовать тут можно, но не нарушая порядка.
На другой день Гротхеры спозаранку спешат на поезд. А за мной заезжает на машине один из «сочувствующих», школьный учитель Фред Бюлер.
Улицы городка Швебиш-Гмюнд, что в пятидесяти километрах от Штутгарта, переполнены демонстрантами, собравшимися со всей округи. На центральной площади над плотной стеной людей – плакаты, транспаранты, протестующие против американских ракет. И кресты, кресты – большие и малые, белые, только что вытесанные, черные, словно обуглившиеся на пожаре. Приглядевшись, понимаю: кресты символизируют отнюдь не религиозные чувства собравшихся; на каждом – надпись, название города, городка или района и цифра со многими нулями, указывающая число возможных жертв ядерной войны. От таких символов мороз пробегает по коже, хотя в небе жаркое солнце и воздух прогрет едва не до духоты...
Ораторы сменяют друг друга. Огромная толпа взрывается возгласами, затихает, слушая очередную гневную тираду. Потом вся эта масса народа – тогда я еще не знал, что на демонстрацию вышло свыше сорока тысяч человек, а по всей стране в маршах протеста в этот день участвовали миллионы,– втягивается в улицы, взбирается по крутой дороге в гору.
Дорогу преграждают колючие стальные спирали, одна на другой, образующие неодолимый вал. Возле проволоки, шагах в пятнадцати-двадцати один от другого, стоят полицейские. Молодые парни в новых, словно на праздник, мундирах, бесстрастно глядят на людей, отмалчиваются, когда раздаются реплики в их адрес. За проволокой, на лесистом склоне – американские военные патрули. Солдаты в маскхалатах, с засученными рукавами, с автоматами на груди.
Кто-то кричит в мегафон, чтобы люди шли по возможности поровну, направо и налево.
Колонны все идут, обтекают военную базу с двух сторон. Люди останавливаются, вешают на проволоку транспаранты, втыкают в колючую проволоку черные и белые кресты и, взявшись за руки, образуют сплошную цепь. Иногда по этой цепи прокатывается гневный выкрик, набегает издали штормовой волной и уносится, затихает в лесу: «Долой!»
Лес кончается, проволочный забор выбегает в поле. Здесь демонстрантов встречают конные полицейские. Они стоят в стороне, наблюдают...
Холодно поблескивая на солнце, забор из колючих спиралей поворачивает налево. Там уже не цепь людей, а многотысячная толпа.
Ворота базы в осаде, и полицейским пришлось ретироваться за проволоку. Позади полицейских – американские армейские грузовики, один возле другого. На кабинах, свесив ноги, тоже сидят солдаты.
От самых ворот доносятся гневные выкрики: кто-то из демонстрантов произносит речь, снова и снова требуя вывода американских ракет с территории ФРГ.
За колючим забором – чистое поле, лес и в ряд высокие бараки или ангары. Там «першинги», этот ядерный запал агрессии.
...Идут и идут тысячи людей. И цепь их все не редеет, не прерывается. Даже там, где забор нависает над крутым обрывом, люди двигаются вдоль него по узкой кромке земли, цепляясь за кустарник, за корни деревьев. Я смотрю на людей, взявших в плотное кольцо военную базу, и верю: эти не отступятся.
И не будет покоя маньякам ядерной смерти, пока они не уберутся отсюда...
Штутгарт – Мутланген – Москва
Владимир Рыбин, наш спец. корр.
Добро пожаловать, бьенвенидос, друзья

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Гаване летом 1978 года, вспоминается мне как гигантская манифестация молодежи, как демонстрация ее возросшего влияния на события, происходящие в мире. Эта встреча послужила укреплению сплоченности, дружбы юного поколения разных стран и народов. И для Кубы она имела большое политическое значение. Потерпев провал в попытках расправиться с Революцией прямой военной интервенцией, блокадой, диверсиями, политикой шантажа и угроз, американский империализм стал вести психологическую войну против кубинского народа.
Поэтому XI фестиваль – на него прибыли восемнадцать с половиной тысяч делегатов из 145 стран – дал нам прекрасную возможность продемонстрировать всему миру лживость американской пропаганды. А тем, кто еще сомневался в успехах Кубы, показать, как живет и трудится ее народ, какие огромные изменения произошли в стране после победы Революции.
Кубинцы начали готовиться к фестивалю задолго.
Меня включили в группу переводчиков. Было очень интересно, но и трудно. Ведь собеседники – народ молодой, темпераментный, и часто во время выступления или в пылу горячей беседы, диспута все настолько увлекались, что забывали о том, что нужно оставлять время для перевода. Но мы успевали.
Уже в первых беседах с представителями иностранных делегаций возникали интересные ситуации: одни, например, спрашивали, будут ли во время фестиваля какие-либо ограничения в темах разговоров, закрытая программа, строго определенные маршруты. И велико же было их удивление, когда им отвечали, что ехать они могут куда угодно и разговаривать обо всем с кем захотят...
Настал долгожданный день. 28 июля одиннадцать артиллерийских залпов возвестили об открытии XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. С перекрестка главных улиц Гаваны делегаты направились на Латиноамериканский стадион. Там состоялось его торжественное открытие.
По традиции парад открыла делегация страны – хозяйки предыдущего фестиваля; это были представители Германской Демократической Республики. Замыкала праздничное шествие наша колонна. Многие делегаты были в национальных костюмах, другие – в специально сшитой к фестивалю одежде. Вот и самый торжественный момент. Зазвучали фанфары, и на дорожку стадиона выехали одиннадцать всадников в форме бойцов армии освобождения Кубы XIX века – мамби. В руках они держали флаги стран, которые принимали у себя всемирные форумы молодежи. Четыре с половиной тысячи юношей и девушек на трибуне в это время сложили из флажков цветную надпись «Бьенвенидос!» – «Добро пожаловать!».
Посланцы ГДР, как эстафету, передали флаг фестиваля своим кубинским друзьям. Завершился праздник «Гимном демократической молодежи» – его пели десятки тысяч молодых голосов – и ослепительным фейерверком.
На следующее утро начались фестивальные трудовые... будни. Именно трудовые, ведь фестиваль – это не только песни и танцы, выступления художественной самодеятельности и оркестров. Большое место в нем занимала политическая программа, включавшая проведение встреч и заседаний, собраний и дискуссий, на которых делегаты могли
обменяться мнениями, обсудить актуальные вопросы, принять совместные решения. В те дни в Гаване можно было встретить молодых коммунистов, социалистов, христианских демократов, мусульман, христиан, буддистов, представителей профсоюзных, женских, студенческих, крестьянских, общественных и спортивных организаций, одним словом – посланцев самых различных организаций, объединяющих молодежь нашей планеты. В Гаване работало пять постоянных центров политических дискуссий, на заседаниях которых ежедневно присутствовало около двух тысяч делегатов. Темы, обсуждавшиеся там, охватывали практически всю сложную многогранную панораму жизни и борьбы современной молодежи. Главный разговор шел о ее роли в борьбе за прекращение гонки вооружений, за мир, разрядку, безопасность народов и международное сотрудничество.
В здании Академии наук Кубы был открыт Международной центр антиимпериалистической солидарности. В Международный трибунал «Молодежь обвиняет империализм» вошли видные юристы, прогрессивные политические и общественные деятели многих стран. И все время, пока шли его заседания, зал был переполнен – сотни молодых людей вели большую и скрупулезную работу по расследованию преступлений империализма. Единодушный приговор трибунала гласил, что империализм виновен по всем предъявленным ему обвинениям.
Я работала с советской делегацией, в которую входили представители молодежи всех союзных республик. На Латиноамериканском стадионе советских делегатов встретила самая продолжительная овация. И все пятьдесят пять тысяч человек стоя приветствовали посланцев страны великого Ленина.
И сейчас вспоминаешь особо добрые отношения между советскими и кубинскими друзьями. Часто наши встречи затягивались до утра: после рабочего дня хотелось и посидеть вместе, и спеть под гитару только что разученные песни, и потанцевать. А наутро снова нас ждала работа...
Каждый день фестиваля был днем солидарности с народами определенного географического региона. И вот в День Кубы делегаты получили возможность познакомиться с деятельностью и встретиться с членами Комитетов защиты революции. Советские товарищи поехали в Аламар – город-спутник Гаваны. Там жители прямо на улицы вынесли стулья, накрыли столы. И на них выставили блюда – не из ресторанов, заранее приготовленные, а что у кого было, от души, все домашнее, очень вкусное. За столами и потекла беседа.

Затаив дыхание слушали делегаты рассказы о прошлом Кубы и ее сегодняшнем дне. У нас сейчас много знают о Советском Союзе, и тем интереснее было лично познакомиться с советскими юношами и девушками.
Русский кубинцы изучают очень серьезно. Тут мне придется рассказать о своей семье. Я родилась недалеко от города Сьенфуэгос. Там, в маленьком поселке при сахарном заводе, где работал отец, прошло детство. Вся Куба тогда начала учиться; мы, подростки, отправлялись в горные районы, занимались там с пожилыми и взрослыми людьми, лишь после Революции начавшими постигать грамоту.
О Советском Союзе я знала тогда мало. И уж никак не думала, что буду заниматься русским языком. В Гаване я два года училась русскому языку в Институте имени Горького. А потом – на целых пять лет – моим вторым домом стал Киевский университет, где я занималась на филологическом факультете. В Киеве родился мой первенец, сын Александр. Муж закончил аспирантуру в Москве, Александр учится сейчас в Союзе – хочет стать летчиком. Дочки-близнецы Дегра и Норма тоже изучают русский. Словом, в семье нашей – два родных языка.
С русским языком у меня связана почти вся трудовая жизнь: преподавала на подготовительном факультете Гаванского университета, в Институте имени Горького, работала инспектором в Министерстве образования Кубы. А с 1977 года, когда в Гаване открылся филиал Института русского языка имени Пушкина, стала его директором.
На XI фестивале я еще раз убедилась, что русский стал языком международным, языком межнационального общения. Примеров тому много, приведу лишь один.
Я возвращалась домой из фестивальной «деревни». В автобусе оказался студент из Индии. Он не знал, как доехать до площади Революции. Все пытались ему объяснить, но тщетно. И тут я его спросила, не знает ли он русский. И он по-русски ответил, что учится в Москве, в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Так мы и проговорили всю дорогу, пока он не доехал до нужной остановки.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов в латиноамериканской стране стал, несомненно, крупным успехом в деле претворения в жизнь идеалов антиимпериалистической солидарности, мира и дружбы между народами.
И вот встреча в Советском Союзе...
Особенно знаменательно, что юноши и девушки из разных уголков земного шара соберутся в год 40-летия Великой Победы в Москве, столице страны, народ которой внес наибольший вклад в разгром германского фашизма и японского милитаризма. Символично, что молодежь первого в мире социалистического государства примет эстафету мира и дружбы из рук молодежи первой социалистической страны в западном полушарии, героической Кубы.
Вся молодежь мира с особым нетерпением ждет XII фестиваля в Москве еще и потому, что Советский Союз идет в авангарде борьбы за мир, за прекращение гонки вооружений.
Готовятся к фестивалю и у нас, на Кубе. Быть его делегатом – очень большая честь, и боролись за это право все юноши и девушки нашей страны. На Кубе давно создан Национальный подготовительный комитет фестиваля. Кубинская молодежь активно участвует в вечерах интернациональной дружбы, конкурсах политической песни. В прошлом году многие наши студенты трудились в строительных отрядах и заработанные средства перечислили в фонд подготовительного комитета.
У своих советских друзей в Москве и Киеве я часто вижу бережно сохраняемые сувениры – шляпы-сомбреро и мачете, которым рубят сахарный тростник, куколок в традиционных костюмах, ракушки и цветы с моего острова...
И я знаю, нас, кубинцев, как и всех тех, кто побывает в Москве, ждет гостеприимное «Добро пожаловать!».
Гавана – Москва
Ана Кубрейра Кансела
Рассказ записал корреспондент АПН Андрей Чернощек – специально для «Вокруг света».








