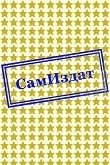Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №05 за 1962 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Не споткнись о Полярный круг

Две желтые папки
Песня была знакомая: «Много разных кладов зарыто под северным льдом, не споткнись о Полярный круг, добираясь до них».
Алексей вполголоса бубнил слова старой экспедиционной песни. Черт бы побрал, меня даже это раздражало. Мы совсем не ложились спать в эту ночь. Мы решали сейчас наше сугубо личное дело, и я не помню, с каких пор повелось так, что каждый раз, прежде чем принять важное решение, мы уходили на наше особое место. Было такое удобное место невдалеке от поселка, там, где береговой обрыв переходил в кочковатую россыпь тундры и море плескалось в десяти метрах от входа в избушку.
– Так что будем делать? – в двухтысячный раз спросил меня Старик. Алексея все почему-то звали Стариком, и это подходило к нему лучше любого имени.
– Давай будем думать, – ответил я в две тысячи первый раз.
Перед тем как спуститься к дому, Старик остановился поправить крепление на лыже. Несколько куропаток, обладавших при жизни замедленной реакцией, коченели в связке. Вечер делал снег синим, а камень на вершине – черным. Старик достал бутерброды. Они были завернуты в цветные оттиски фотографий из какого-то журнала. На фотографиях были пальмы, черные большеглазые ребятишки, лодки-сампаны. Мы долго рассматривали их, фотографии наводили на всякие мысли.
– А знаешь... – сказал Старик.
– Знаю, – ответил я.
И мы начали разговор, который долго уже обдумывали каждый отдельно. Мы живем на Чукотке. Я геолог, то есть бродяга по профессии, Старик – бродяга по увлечению. Геологи видят мир – это лицевая сторона медали, но они не всегда идут гуда, куда хочется. План есть план, и маршруты заранее жестко проложены по карте. Будет отпуск, и мы обязательно закрутим маршрут «поперек Чукотки», такой, какой нам захочется. Из всех синих сопок мы выберем самые синие, из голубых рек – самые нехоженые. У нас будет медаль без оборотной стороны.
Только потом я понял, что в тот вечер мы рассуждали как наивные младенцы. «Брести куда глаза глядят». Мы энергично разрабатывали варианты. Один был лучше другого, и все походили на перевернутые косточки домино: угадай, который нужнее. Нужна была цель. Наша идея стала здорово напоминать мыльный пузырь. Она отливала всеми цветами радуги и... висела в воздухе. Трагическая судьба мыльных пузырей была нам известна еще по опыту далекого детства.
...Две желтые папки попались мне на глаза случайно. Я прочел их содержимое взахлеб и, только перевернув последнюю страницу, заметил с удивлением, что переплеты у папок не из потемневшей кожи с бронзой, а из обыкновенных скоросшивателей и что нет в них истлевших пергаментов и карт с нарисованными от руки человечками. Вторая половина XX века неумолимо смотрела на меня входящими номерами писем и загогулинами резолюций. Содержание папок, однако, искупало все. «Дело №» – было напечатано на желтом картоне, а поперек шли карандашные надписи: «Переписка с заявителем Уваровым В. Ф.» на одной и «Переписка с заявителем Баскиным С. И.» – на другой. Стало до чертиков ясно, что именно в этих папках лежит плоть и кровь нашей идеи. Эпоха мыльных пузырей кончилась.
Мы изучали содержимое папок днем и ночью. Особенно приятно было изучать их ночью, когда снег переставал скрипеть за окнами и мыши начинали нагло шебаршить за обоями. Настольная лампа с понимающим видом заглядывала в бумаги, двустволки на стене хранили безучастное молчание... Переписка с заявителем Баскиным и переписка с заявителем Уваровым. Очень все это было интересно.
Две невероятные история
Папка с «делом Уварова» старшая по возрасту. Основу ее составляет первое объемистое письмо Уварова, все остальное только дополняет, уточняет и... запутывает.
В 1930 году Василий Федорович Уваров приехал на Чукотку в качестве одного из уполномоченных акционерного Камчатского общества. Должность его звучала для Чукотки несколько иронически – «лесозаготовитель». В погоне за редкими островными лесами Уварову приходилось довольно много ездить по Анадырю и его притокам и постоянно сталкиваться с местным населением. Необходимо помнить, что это были годы, когда советизация полуострова практически еще только начиналась. Вдоль берегов беспрепятственно бродили контрабандные шхуны с американскими товарами, кулаки все еще хозяйничали в тундре. Область к востоку от Колымы на всех картах считалась если не «белым», то уж во всяком случае достаточно «серым» пятном. В одну из поездок Уваров услышал легенду о том, что среди хребтов Анадырского нагорья имеется гора, почти сплошь состоящая из самородного серебра. Гора находится на небольшой речке Поповда, имеет незначительные размеры и носит название Пилахуэрти Нейка. Речка Поповда находится где-то в узле, сводящем вместе верховья Анадыря, Анюя и Чауна. Уваров дал телеграмму в Москву начальнику Геолкома и получил ответ: «Достаньте образцы на наш счет». Однако предпринятая Уваровым экспедиция окончилась неудачей: в пургу он отбился от каюров, потерял снежные очки и чуть не ослеп. Позднее Уваров отказался лично участвовать в экспедиции и, выдав проводникам подарки, попросил их привезти образцы в Анадырь. Оленеводы обещали приурочить посещение горы к сезонному циклу перекочевок, однако ко времени их возвращения Уваров вынужден был покинуть Чукотку и больше туда не возвращался.
Письмо было составлено как увлекательная кладоискательская история, с легким запахом блаженных времен кольтов, квадратных челюстей и таинственных злодеев в масках. Уваров собрал сведения о том, как при Александре III была сделана попытка заплатить чукотским серебром ясак, в письме фигурируют «чукотский король» Шитиков (кстати, историческая личность), канадец Шмидт, пытавшийся добывать серебро в компании с одной американкой, и много других, не менее экзотических личностей. В целом оставалось впечатление заманчивой, но малодостоверной истории. Правда, мы знали, что указанный Уваровым район и по настоящее время был охвачен лишь рекогносцировочной геологической съемкой, при которой даже «валяющееся на поверхности» месторождение могло, вообще говоря, остаться незамеченным. Но вряд ли это было так. Скорее всего, основанием для возникновения легенды послужило одно из месторождений отдаленно похожих на серебро минералов: антимонита или галенита. Они, кажется, встречались в указанном Уваровым районе довольно часто. Остальное же можно было отнести за счет времени и воображения.
Но тут на сцену выступает вторая папка. Кандидат исторических наук Баскин обратил внимание на часто упоминаемые в записках землепроходцев слухи о серебре где-то к востоку от Колымы.
Это была уже своя, не менее увлекательная для любителей старины повесть. Знаменитые землепроходцы Елисей Буза и Лавр Кайгородец, Посничка Иванов и Иван Ерастов. Таинственное племя наттов, неизвестные сейчас названия рек, показания аманатов князца Шенкодея и шаманов Порочи и Билгея, племя «писаных рож», то есть людей с татуированными лицами, рассказы о неведомом яре, откуда серебро свисает «соплями», а сбивают его стрелами с костяными наконечниками. Все это было когда-то задокументировано, и мы сами могли убедиться в этом, достав сборник с опубликованными актами времен землепроходцев. Очевидно, удалым покорителям Сибири не пришлось в свое время найти серебро, и слухи о нем были забыты. Баскин не пожалел трудов и заново собрал и сгруппировал все древние сведения. По его мнению, серебро должно находиться в долине реки Баранихи, расположенной между Чауном и Колымой. Однако отправленный по этой заявке отряд не нашел ни грамма серебра.
Для нас важно было другое. Важно было то, что это было второе и независимое упоминание о залежах серебра в месте, близком к указанному Уваровым, и то, что здесь уже речь шла о реальном, увиденном в ушах и на одежде юкагиров серебре. Трудно поверить, чтобы землепроходцы спутали этот металл с каким-то другим.
Итак, снова серебро и снова в том же районе. Два независимых источника.
«Не тот ноне пошел романтик...»
А ведь раньше люди тоже слегка привирали, – сказал Старик.
– Даже больше, чем теперь, – тоненько поддакнул я.
Итогом прогулочной сессии явился конкретный план экспедиции. Мы понимали: одно только содержимое папок, давность времени, неизбежные искажения в передаче информации, разноголосица старых и современных названий рек – все это может привести к далеко ошибочным выводам.
Мы обратили внимание на то, что в качестве ориентира, близкого к горе, Уваров указывает озеро, «постоянно покрытое какой-то нетающей окисью». Возможно, Уваров просто не понял, что в данном случае речь шла об озере, постоянно покрытом льдом. Тогда это, несомненно, Эльгытгын, высокогорное нетающее озеро, как раз расположенное там, где сходятся верховья Анадыря, Чауна, Анюя и Баранихи, то есть всех связанных с серебряной загадкой рек.
Мы учли также, что трудно самодеятельной группе рассчитывать за короткое время обследовать обширный, в тысячи квадратных километров, горный район. Гораздо целесообразнее на первом этапе уделить время расспросу населения. Из нашего поселка вверх по Чауну, потом в район озера Эльгытгын, потом вниз по Анадырю – таков и будет маршрут «поперек всей Чукотки».
Личный состав экспедиции сформировался с подозрительной быстротой. Были два журналиста, призванные увековечить наши дела на страницах центральной и местной прессы, был старый товарищ по работе в геологических партиях, был знающий чукотский язык работник из красной яранги, но самой колоритной фигурой, конечно, оставался Старик. Он действительно был старше всех нас по возрасту. Зимовал на Тикси, был снайпером во времена Халхин-Гола, семь лет бродил по степям Монголии, остальное время делил между Москвой и Памиром, пока тревожный ветер приключений не занес его на Чукотку. Старик – кадровый военный, вторая его специальность – охота. Мы потихоньку завидовали его ста восьмидесяти сантиметрам и прямой, как лыжная палка, фигуре.
Вокруг центральной группы, как это бывает всегда и везде, крутилась легковесная оболочка болельщиков. Они давали советы, иронизировали и, разумеется, по долгу службы, играли в прокаленных жизнью скептиков. Это была старая как мир форма замаскированной зависти.
Мы сидели с картами и логарифмическими линейками. Цифры и бормотание висели в прокуренном воздухе. Все очень напоминало бухгалтерию в священные дни годового баланса. Только вместо сальдо и дебета фигурировали граммы масла, количество портянок и патронов, километры, пачки сухого спирта и неясные предпосылки типа «кто сколько-упрет на спине».
Однако объективная реальность, как всемогущий ревизор-контролер, быстро вмешалась в нашу бухгалтерию. Один из журналистов круто пошел вверх по службе, но с условием, что» он и заикаться не будет об отпуске, другой безнадежно застрял с экзаменами в далеком Хабаровске. Работнику красной яранги жена решила подарить сына именно в намеченное для экспедиции время, старый «боевой товарищ» неожиданно оказался на Колыме и там продолжал служить геологии. Между прочим, именно он должен был привезти из Магадана часть груза, в том числе и необходимые резиновые лодки. Был май. К концу июня телеграммы на Колыму стали составлять главную часть наших расходов. В начале июля стало ясно, что ждать больше нет смысла. И снова, одинокие, мы побрели в нашу избушку, чтобы взвесить создавшееся положение.
Было совершенно ясно, что осилить вдвоем такой маршрут по Чукотке будет невозможно. Мы не Геркулесы, и больше чем по тридцать килограммов нам не унести.
Самым разумным было купить лодку, добраться на ней до устья Чауна и по мере сил – своих и мотора – подняться вверх, а там уже пешком идти на озеро Эльгытгын. Полный же маршрут оставить до более удачных времен.
...Разыскать лодку оказалось не так просто, хотя, правда, бесчисленный любительский флот прямо-таки усеивал берега Чаунской губы. Моторы с марками всех заводов мира ревели в бухте днем и ночью. Топоры стучали на самодельных верфях. Однако в большинстве случаев это были легкоходные и ненадежные плоскодонки, а нам нужна была, лодка более солидная и недорогая.
«Солидная шхуна» нашлась лишь на пятый день. Корпус ее был, увы, сделан из фанеры и промасленного брезента, зато в основании лежали настоящие морские шпангоуты, снятые с разбитой шлюпки, и при одном взгляде на ее обводы хотелось писать стихи. Был у «шхуны» и мотор. К сожалению, после первого осмотра стало ясно, что эта проржавевшая смесь велосипеда, самовара и тракторного дизеля годится только на якорь.
Пустив в ход самые невероятные связи, Старик раздобыл совсем новый стационарный моторчик с одним цилиндром. Залихватский вид «малыша» сразу же внушал симпатию, а толстая пачка инструкций – и уважение.
– Стационарные моторы лучше подвесных, они здорово тянут, – сказал Старик.
– А знаешь, как их удобно ремонтировать дорогой, – сказал я.
Потом мы стали листать инструкции. В первый же вечер мы познакомились с бывшими до этого вне сферы нашего сознания понятиями: «жесткий фундамент», «вынос винта», «центровка вала».
Корабли приходили в поселок один за другим. По временам светило солнце, временами шел снег, штили сменялись штормами, а мы сутками копались на морском берегу, подгоняя центровку вала, соображая, как и где поместить выхлопную трубу, как сделать на фанере и брезенте «жесткий фундамент». Я молча тосковал по знакомым, капризным, но все равно милым подвесным моторам.
Никогда бы не подумал, что в одном поселке может быть столько досужих специалистов по центровке вала и установке стационарных двигателей. Говорят, что Эрик Бишоп, доведенный болельщиками до отчаяния, повесит над верфью, где сооружался его знаменитый плот, плакат: «Не тратьте время, пытаясь убедить нас, что мы сумасшедшие. Мы сами это знаем». Мне хотелось вывесить табличку с другим воплем: «Не покупайте стационарных моторов!»
Великий Чаун
Чаунская губа похожа на зазубрину, выбитую в широком клине Чукотского полуострова. С востока губу обрезают скалы Шелагского мыса, на западе отделяет ее от моря приплюснутый блин острова Айон. Названия эти знакомы еще со студенческих лет по книгам о полярных путешествиях. Хмурые берега Чаунской губы видели гибель первого из дежневских кочей и смерть Никиты Шалаурова, собачьи упряжки Биллингса и Врангеля, зимовавшую здесь шхуну Амундсена.
С юга к губе примыкает Чаунская долина. Она прорезана реками, забита мерзлотными холмами, озерами, кочками и пологими глыбами увалов. Чаунская долина – это заполярный рай для птиц, оленей и комаров. На линию морского побережья редкими четками нанизаны землянки охотников и рыбаков.
Наша лодка называется ласково и просто – «Чукчанка». Когда во всем поселке не спали только шоферы да крановщики, когда болельщики, обдумав на сон грядущий утренние остроты по нашему адресу, уткнулись в подушки, мы наконец-то взяли курс на юг. Любопытные от безделья, обожравшиеся чайки кружили над нами.
Я с удовольствием наблюдаю за Стариком. Старик – бывалый морской волк, вот кто он такой. Тельняшка выглядывает из-под полушубка, меж колен стоит готовая отразить нападение любого агрессора винтовка. Старик ведет лодку, Старик «озирает» в бинокль пейзажи, при помощи мокрого пальца Старик делает прогнозы погоды и ветров на ближайшее полугодие. Для полноты мироощущения ему явно не хватает лоции, секстанта и черных пиратских парусов на горизонте. Желтое чукотское солнце с благодушной иронией смотрит на нас, на западе светлыми миражами белеют льды. От нечего делать я копаюсь в мешках со снаряжением, шью парус (мачту мы прихватили с собой) и, чертыхнувшись по адресу сдавших окопы журналистов, заполняю дневник. Для потомков.
Гоняем чаи. Чукчи-зверобои обычно оборудуют на своих вельботах закрытое от ветра место для примуса. У нас примуса нет. Выход находится так: поперек лодки кладется весло, на весло вешается ведро, до половины наполненное морской водой, в ведре плавает банка с бензином, сверху к этому сооружению подвешивается чайник. Прежде чем войти в устье Чауна, нам надо побывать у старого приятеля Василия Тумлука.
Тумлук – охотник. Два года назад я проходил под его руководством курс вождения собачьей упряжки и курс весенней охоты на гусей. На это лето Тумлуку присвоен почетный титул поставщика кухлянок и меховых штанов для экспедиции. Это вместо полушубков и спальных мешков, вместо плащей и телогреек. Мне всегда нравилась тумлуковская манера встречать гостей. Строгости ритуала при этом мог бы позавидовать английский королевский Двор.
Вася с независимым видом прогуливается по берегу и пинает полегоньку всякую плавниковую мелочь. На нем торжественно пламенеет новая кухлянка, и специальная, «выходная», двустволка висит за спиной. Будто человек вышел прогуляться по улице Горького «при фотоаппарате». Стук мотора он услышал, конечно, за час до нашего появления, но теперь Вася словно не слышит и не видит нашей лодки. Он смотрит на горизонт, на небо, себе под ноги, куда угодно, только не на лодку. Так уж положено по ритуалу. И только когда лодочный нос врезается в песок в нескольких метрах от него, он с удивлением оглядывается на приезжих: «А, это вы!» Ей-богу, квартирного соседа мы встречаем по утрам с большим удивлением. После этого положено поговорить на всякие посторонние темы, и лишь потом Вася между делом предлагает пройти к избушке и выпить чаю.
До избушки сто метров, и мы знаем, что чай давно уже стоит на столе, что хлеб нарезан и куски всевозможной рыбы лежат рядом. Но ритуал есть ритуал.
Я много раз описывал Старику эту церемонию и побаивался, как бы бес непостоянства не овладел на этот раз старым чукотским охотником.
Ритуал благополучно завершен. Темы о запуске человека в космос, о прогнозах песцовой охоты и семейном положении общих знакомых исчерпаны полностью. Преисполненные торжественной важности, мы шагаем к избушке.
За столом до отвала наелись гусей и уничтожили страшное количество рыбы. Вяленый голец – фирменное блюдо этой земли. Кирпичный чай темным выдержанным янтарем разливается в чашки. Хорошо лежать на шкуре прямо на улице. Собаки по очереди деликатно подходят, чтобы отрекомендоваться и лизнуть щеку. Светлые вечерние сумерки придвигают к нам синюю громаду Нейтлина.
Вася рассказывает легенду о корякском воине Нейтлине, в честь которого названа гора. Мы слушаем с удовольствием.
«За горой Нейтлин идут красные холмы Мараунай. Они красны от крови погибших там воинов. Олени и сейчас щиплют ягель и спотыкаются о человеческие кости...»
Холмы Мараунай красны от цвета слагающих их эффузивов. Но что из того? Зачем мешать людям выдумывать легенды...
В Старике, однако, просыпается кадровый военный.
– Неужто правда и сейчас кости?
– Правда.
– А луки, шлемы, всякие там панцири?
– Панцири надевают только трусы. Так говорили чукчи.
А ну их с этими войнами! Мирным холодом дышит на нас чукотская земля. Бормочут утки. Нейтлин покрыт темными морщинами ложбин, манит к себе пропитанная миром зелень склонов. Там бродят медведи, бродят дикие олени, там просто растут незабудки.
Утром мы уходим. Старик похож на закованного в олений мех рыцаря Севера. Вася кидает в лодку рыбьи пластины.
«Чукчанка» выходит в море, и волны милостиво принимают ее на сморщенные рябью ладони. Крохотная фигурка долго маячит на берегу. У меня чуть сжимается сердце. Это надо видеть и надо понять. Берег, закиданный плавником и водорослями, одинокая фигура человека, утки, избушка, собаки. Ласковая рыбья и птичья земля.
Утки со свистом режут воздух. Ажурное дерево маяка на фоне белесого неба. Темные поплавки нерпичьих голов. Мы входим в устье Чауна. Две косы, заходящие одна за другую, как огромные челюсти змеи, скрывают его от моря.
...Здесь водится розовая чайка. Вероятно, каждый живший в Арктике слыхал об этой необычной птице. Мечта каждого полярника – хоть раз в жизни увидеть розовую чайку. Долгое время эта птица была загадкой для орнитологов. О ней писала почти каждая полярная экспедиция, но никто не видал и не знал мест ее гнездовий. Только в 1902 году С.А. Батурлину удалось отыскать гнездовья розовой чайки в непроходимой Нижнеколымской низменности. Эти гиблые места во всех орнитологических справочниках упоминаются как единственное место гнездовий удивительной птицы. Но розовая чайка есть и на Чукотке.
Целый вечер мы бродили по усть-чаунским озерам. Мягко чавкала под ногами болотистая тундра, все так же близко стоял темный массив Нейтлина, ветер наносил запах гниющей осоки, водорослей и сырости. Маленькие острокрылые птицы метались вокруг нас с неуверенным криком. У розовой чайки робкий, изломанный, как у бабочки капустницы, полет, тихий голос. Определить ее окраску с воздуха довольно трудно, для этого надо чайку убить. Год назад мы так и сделали. Я смотрел на удивительный, розовый, как заря в Кара-Кумах, цвет перьев на груди, карминный клюв и лапки, темное кольцо на шее, голубые тени на спине и под крыльями, смотрел, как с тихим криком мечутся вокруг нас оставшиеся в живых, и дал себе слово никогда больше не стрелять в этих птиц. Хорошо иметь на письменном столе чучело розовой чайки, но лучшей памятью об Арктике будет та птица, что гнездится до сих пор на озерах Усть-Чауна.
Земля куликов, проток и мамонтов
На мясорубке, что ли, эту реку крутили? – ворчит Старик, в очередной раз перекладывая руль. Река петляет, как пуганый заяц. Уже около часа мы крутимся около одного и того же мерзлотного холма. Холм поворачивается к нам то одним, то другим боком, как кокетливая манекенщица, но упорно не желает удаляться.
Идиллическое плавание по стоячей воде кончилось. Мотор с трудом тянет против течения, река бросает навстречу перекаты, быстрины, кружит голову бесчисленными поворотами. Зеленая лента кустарника затопила Чаун.
Мы отдыхаем на галечниковых косах. Ощущение времени и пространства давно уже утеряно. Иногда кажется, что мы пристали к коренному берегу. Мы продираемся сквозь кустарник, чертыхаемся, ползем на четвереньках, и все для того, чтобы снова увидеть впереди воду. Остров! На той стороне тоже кусты, можно перейти протоку, пройти кусты и снова увидеть воду, и снова кусты на той стороне – так будет до тех пор, пока не появится опасение, что ты забыл обратную дорогу к лодке. Острова усыпаны заячьим пометом, искрещены птичьими лапами. Печальные крики невидимых журавлей висят в воздухе.
– Рыба! – кричит иногда Старик, и лодка утыкается носом в берег. Патентованное стальное удилище и бесчисленное количество мушек извлекаются на свет. Уговаривать его плыть дальше бесполезно – у Старика трясутся руки и стекленеют глаза. Я ухожу осматривать очередной остров. Кулики встречают и провожают меня на отмелях. Я люблю этих хозяйственных и гостеприимных птах. Кулик пищит, крутится под ногами, пока не передаст меня с клюва на клюв хозяину следующего участка косы. После этого кулик замолкает и долго, стоя на одной лапке, смотрит вслед темным круглым глазом: уж не обидел ли я человека своим криком?
Старика можно разыскать только по торчащему из кустов удилищу. Я смотрю на предсмертную дрожь пойманных хариусов и деликатно напоминаю Старику, что у нас только два живота и не более шестидесяти зубов на двоих. В ответ слышится лишь легкий рык. Старик полон пафоса охоты. Приходится чуть не за шиворот уводить зарвавшегося рыболова.
Еще день. И этот этап плавания «приходит к логическому концу», как говорит Старик. Мы измотались на перекатах: «малыш» уже не жалуется, а просто плачет с надсадным воем, постоянно приходится пускать в ход шесты, встречное течение упруго пытается развернуть лодку, и надо прыгать в воду, чтобы удержать ее, винт стучит о камни. Уже осточертело выливать воду из сапог и выжимать штаны. Мы делаем последний переход.
Старик не спорит. Старик рвется «в пампасы», плыть с черепашьей скоростью ему тоже надоело. После ужина склоняемся над картой. Мы дошли до холмов Чаанай, скоро уже начнутся предгорья, до озера Эльгытгын около ста тридцати километров.
Перед тем как лечь спать, мы делаем короткую прогулку по холмам. Темным хрупким щебнем усыпаны их вершины. Ягель, бессильная травка, камень. Замшелыми холмиками оленьих рогов маячат могилы оленеводов. Оленевод должен быть похоронен наверху, чтобы видно было всю прорезанную жилами рек равнину. Багровым диском падает солнце... Комары, тишина, птичьи крики.
Мы засыпаем под ласковое похлопывание палаточного брезента. Последняя комфортабельная ночь. Вспоминаются книги людей, бродивших по этим местам до нас. Биллингс, Калинников, Сергей Владимирович Обручев. Хорошие были времена, когда быть путешественником являлось профессией. Два столетия назад людей здесь все изумляло: и «удивительной бесплодности и шероховатости земля», и кости мамонтов, которые не иначе «как жестокого естества были», потому как жили их владельцы на этой неуютной окраине земли.
Утром мы видим снег вперемешку с дождем. Вспоминаются слова одного небритого любителя афоризмов: «Погода на Чукотке что лотерейный выигрыш: номер совпал – серия не та; серия есть – номер не вышел».
Мокрые кусты безнадежно машут ветками, у корней синие полоски снега. Это Север, каким его любят кинорежиссеры и авторы приключенческих романов «с колоритом».
Мы уходим, согнувшись под рюкзаками, как невиданные горбатые птицы. Серая вода смотрит угрюмым затравленным волком. «Чукчанка» сиротливо темнеет в кустах. Среди галечниковых кос, мокрых веток и оловянной воды она кажется нам сразу и гостиной со стильными рижскими «мебелями», и теплой кухней со всякими никелированными штучками, и ласковым мамкиным диваном.
Север, север! Только с этой минуты мы начинаем настоящий поход к серебряной горе.
«Много разных кладов зарыто под северным льдом, не споткнись о Полярный круг, добираясь до них...»
Споткнуться о Полярный круг – это значит просто сплоховать.
Кусты, пересохшие протоки, протоки с водой, кусты, острова... Острова временами похожи на запущенные футбольные поля. Вода Чауна, блуждая во время паводков, выгладила их.
Стиль переправ через протоки древен, как первобытный коллективизм. Мы обманываем судьбу ровно на пятьдесят процентов; раздеваемся и переносим друг друга по очереди.
Мы спим, втянув руки внутрь кухлянок и тесно прижавшись друг к другу. Светлая полярная ночь еще в силе. Огромной туманной змеей уходит на юг Чаун. Старик слегка похрапывает, я лежу с открытыми глазами.
– Пи-и, пи-и, – тоненько тянет в кустах птица. Я отлично знаю ее голос, ее зовут «птицей одиночек». Говорят, она является только в сумерки и только одиноким людям. Тонким равнодушным голосом толкует она человеку, что все на свете трын-трава и всякие другие штучки о бренности бытия.
С утра снова бредем по заросшим пушицей берегам. Белые головки пушицы делают тундру похожей на неряшливо убранное поле хлопка. Ноги проваливаются между кочками. Осклизлые линзы льда торчат в береговых обрывах. Там, где вода выела лед, над рекой нависают темные беззубые пасти пещер, трещины будущих обвалов змеятся между кочек. Любопытства ради в прежнее время мы заплывали в эти пещеры. Вода темными клубами уходит куда-то в промозглую ледяную сырость. Однажды на наших глазах рухнул такой многотонный потолок, чуть не прихлопнув резиновую лодку. С тех пор мы не рисковали заплывать в пещеры.
Линные гуаи, отчаянно работая лапами, разбегаются по озерам или падают за кочки, наивно прикрыв глаза. Старик поднимает обветшавший мамонтовый клык. Клыки и окаменевшие стволы деревьев, как напоминание о временах давно минувших, могилы оленеводов, как памятник тоже минувших, но более близких времен, остатки костров, как следы совсем уж недавних дней. Мы шагаем как бы по старинной колыбели жизни.
Анадырское нагорье встречает нас мягкими очертаниями предгорных увалов. Синие, зеленые, красные потоки лавы, промытые ручьями, лежат дремотно и молчаливо, как огромные глыбы материи на огромном прилавке дяденьки бога. Древними замками громоздятся кекуры. Мы в последний раз оглядываемся на разбрызнувшийся в веере проток Чаун. В тихой дымке лежит плоский мир оленей, гусей, куликов и комаров. Мы входим в горы, и широкая долина Угаткына равнодушно проглатывает нас. Здесь нет гусей, мало зайцев. Чтобы вскипятить чай, приходится вдвоем собирать редкие веточки плавника.
Евражки отдают нам честь, стоя по команде «смирно». Я не биолог и не знаю, какие миграционные волны занесли сюда этих симпатичных зверюшек. Евражка гораздо меньше своего собрата – степного суслика – и живее характером*. Пестрая глянцевитая шкурка и косые очаровательные глаза. Зверьки стоят, как крохотные неподвижные изваяния, и только нервное подергивание хвоста выдает, что эти изваяния все же здорово трусят.
Мы располагаемся пить чай у сухого откоса. Из соседней норы выползает очередной косоглазый засоня. Несколько минут он верещит на всю долину, потом умолкает. Потом начинает меланхолично почесывать живот и голову, потом просто начинает грызть ближайшую травинку. После сна, знаете ли, неплохо закусить... Валяй, братуха, кушай!
Друг Кимка с разными глазами
Вот оно! Оленье стадо разбрелось по склонам и издали похоже на драный черно-белый ковер. Легконогие темнолицые люди выходят нам навстречу. Мы радуемся встрече с людьми не меньше Робинзона.
Булькает в кастрюле суп из оленьего мяса. Разговор немногословен. Редкие камни фраз падают в гулкий омут молчания. Приходит бригадир. Он стар, угловат, морщинист. Голова по традиции выстрижена на макушке.
– Пилахуэрти Нейка? Нет, не слыхал. Молчание.
– А знаете, есть такая речка Кувет? – это уже к нам вопрос.
– Знаем, но это далеко, это не в ту сторону.
– Так вот там есть гора Пильгурти Кувейти Нейка. Это значит – горка, стоящая между трех речек, впадающих в реку Кувет. Понимаешь, три речки впадают в Кувет, а между ними одна горка. Ясно? Пастухи так объясняют друг другу.
Мы задумываемся. Созвучие полное и ясный перевод. У пастухов больше терминов для обозначения-рельефа, чем у самых завзятых геоморфологов. Пильгурти Кувейти Нейка. Это далеко не в той стороне, но, может быть, около Эльгытгына есть своя речка Кувет? Куветов на Чукотке много.
В стаде какое-то событие. Пастухи уходят один за другим. С нами остается только пес Кимка.
Из всего великого многообразия собачьих пород я раз и навсегда отдал свое сердце чукотской оленегонной лайке. Для Старика тоже не существует других псов, будь они величиной со среднего льва или с крупную мышь. Маленькие остромордые черно-белые лайки. У них крупные головы мыслителей и большие грустные глаза. У Кимки глаза почему-то разного цвета: один голубой, другой коричневый. Я даю ему кусок мяса. Кимка признательно смотрит на меня голубым глазом и деликатно берет мясо из рук. Кимка не убегает, чтобы жадно давиться им в одиночестве, совсем нет. Он кладет мясо рядом на траву и не спеша съедает его маленькими кусочками. У него вид обедневшего аристократа, которого угостили устрицами с шампанским. Покончив с мясом, Кимка долго и с осуждением смотрит коричневым глазом на Старика, который не дал ему ничего.