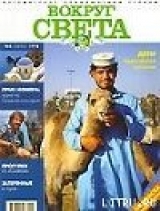
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №5 за 1998 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Земля людей: Путеводная глаголица

Все началось с названия острова. Я часто слышала его, путешествуя по Хорватии, и оно запомнилось – видимо, своим непривычным для русского уха звучанием: Крк. Остров Крк. Было в этом сочетании согласных что-то царапающее и тревожное...
Римляне называли этот остров Курикорум (Curicorum) – по имени давно исчезнувшего средиземноморского народа. Греки именем богини Керкиры нарекли лежащий неподалеку остров, который сейчас известен как Корфу. Курикорум, Керкира, Крк – и тут и там одинаковые скребущие звуки. Что бы это значило?
При первой же возможности я отправилась на остров Крк, чтобы попытаться разрешить эту лингвистическую загадку. Но судьбе было угодно подбросить мне совсем иной сюжет...
Дорога бежала по берегу моря (остров лежит в северной Адриатике), спускаясь от города Риеки на юг, к увалу Скотта, напротив которого и находится остров. Когда-то на берегу залива («увал» по-хорватски и значит «залив») жил брат знаменитого Вальтера Скотта – Александр Скотт. Он разводил лошадей и тем оставил по себе добрую память. В его честь и назвали залив.
Остров Крк походил на громадное морское животное: бело-желтые бока береговых гор и мощный зеленый загривок. Казалось, оно всплыло на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, оглядеть морскую синь, близкий берег, усеянный домами и людьми, – и снова уйти на глубину, в свой мир тишины и покоя. Но люди привязали его к берегу стальной ниткой моста.
Я спустилась к воде, ближе к мосту, чтобы лучше рассмотреть его. Изящные дуги-опоры, перекинутые через пролив, упирались посередине в скальное тело маленького островка, лежащего между материком и Крком. Над опорами, поддерживаемая металлическими конструкциями, летела стрела моста. Вспомнились акведуки римских времен: такая же плавность и совершенство линий... Римляне захватили остров, когда на нем жило племя либурнов. Они строили отличные корабли, и римляне, переняв их мастерство, стали называть свои корабли «либурнами». Флотилии либурнов доставляли на остров оружие и продовольствие для римских легионеров...

Так было когда-то. А сейчас поток машин пересекал пролив. Мост, длиной в полтора километра, построили в 1980 году; по нему проходят и нитка водопровода (на острове одна – единственная речка), и нитка нефтепровода. Зимой мост для машин закрывают: здесь часто дует северный ветер-бора со скоростью 120 км/час. И Крк, как и в прежние времена, оказывается отрезанным от материка, правда, не совсем: на острове есть аэродром, аэропорт.
Уплатив положенную «цистарину» (проезд платный), наш автобус въехал на мост и скоро уткнулся в береговые скалы, обтянутые зеленой сеткой. Проскочили мимо них, и вот он, остров Крк – четыреста восемь квадратных километров серо-зеленых холмистых просторов, залитых осенним солнцем...
Я проехала его насквозь – от самой северной точки до самой южной, и ощущение простора, вольности, ветра, относительной и счастливой изолированности от мира не покидало меня. Казалось, здесь люди должны были жить по-другому...
Городок Омишаль был первым на моем пути. Типичный средневековый приморский город: высокая башня – и вокруг нее море черепичных красных крыш, выросших на камнях, помнивших давние времена; узкие тихие улочки, которые, как и плошадь перед башней, наполняются светом, музыкой, веселой толпой во время летних музыкальных фестивалей. Вот тогда-то и можно увидеть «сопело» -старинный музыкальный инструмент хорватов, напоминающий длинную дудку. А вокруг городка – кольцо зелени, мысы, вдающиеся далеко в море, заливы, разноцветные яхты...
Во всей этой живописной картине меня особенно тронула одна деталь: церковь – Благовещения Марии, в фасадную стену которой была врезана каменная доска с надписью. Надпись – ее относят к XV веку – сделана глаголицей. С трудом различала я сложные и красивые по рисунку буквы: соединенные в фигуры прямые палочки, петельки, кружочки, трапеции...
Какую давнюю страницу истории хорватов приоткрывали эти полустершиеся знаки! Ведь глаголица – одна из древних славянских азбук, распространенная в X – XI веках в основном у юго-западных славян, но бытовавшая и у наших предков. Как известно, хорваты – потомки тех славян, которые пришли на эти земли в VI – VII веках, потеснили здешних романизированных жителей и много веков – уже будучи верными католиками – отстаивали тем не менее свою глаголическую письменность.
Хорваты держались за нее дольше всех – как за знак своей самобытности. Даже в XIX веке некий Иван Берчич издал глаголическую Библию в отрывках. Хотя, надо признать, это была сложная и не очень удобная письменность, поэтому и вытеснила ее у православных славян кириллица, а у католиков – латиница.
Омишаль был известен как важный центр грамотности и глаголического письма. Однако и в других городах острова Крк я находила следы прошлого хорватов.
В городе Крк, например, на центральной площади вмонтирован в стену камень с надписью, начинающейся знакомым славянским оборотом: «Пресветлый город Крк...» Как странно читать эти слова на площади, которую именуют Форум, в городе, где на аллее расставлены «таши» (слово турецкое!), каменные колеса, которыми римляне давили оливки, где главные здания – Кафедральный собор Девы Марии и крепость принадлежали могущественным хорватским князьям Франкопани, которые столько сил потратили на то, чтобы придать своей фамилии сходство с родовым именем римских патрициев...

Все смешалось на острове Крк: либурны, римляне, хорваты... Каждый новый шаг истории давался кровью. Об этом помнит земля острова, это сохранили предания. И в последней войне, бушевавшей на территории бывшей Югославии, остров Крк не остался в стороне: на его аэродром садились самолеты с гуманитарной помощью. Увы, несмотря на свою островную изолированность остров Крк все века жил так же, как все человечество...
Дорога серпантином поднимается в гору и ведет в город Башка, что лежит на южной оконечности острова. Неосторожный олень перебегает шоссе – рядом с городом Крк охотничьи угодья. Склоны холмов исполосованы выложенными из камней стенками, это – «громами», они огораживают пригодную для посевов землю. Старая мельница, чудом сохранившаяся, ловит крыльями ветер.
С последнего поворота дороги, с высшей точки ее открылась панорама долины. Город Башка со стрелой колокольни лежал внизу, в зеленых распадках гор пестрели крыши деревень, на склонах паслись стада овец (говорят, баранину с острова Крк подавали еще к столу Нерона). Стога сена, оливковые рощи, виноградники, белое свечение камня в траве... За кудрявыми от листвы невысокими горами поднимались серые, голые, вылизанные ветром вершины. Бора прилетает с моря, с его безбрежных просторов и не щадит ни маленькие острова, что виднеются у берегов острова Крк, ни сам Крк...
Неподалеку от Башки, в Юран-дворе, находится церковь св. Люции. Она вновь возвращает меня к «глаголическим памятникам». Это ранняя романская церковь, построенная на развалинах римской виллы примерно в 1100 году. Землю под ее строительство подарил хорватским отцам-бенедиктиниам хорватский король Звонимир.
Так бы и существовать этой церкви в безвестности, если бы в середине прошлого века местный священник Петар Дорчич не обнаружил в полу церкви известняковую плиту, покрытую глаголическим письмом; поверху доски тянулась полоска орнамента из листьев. В 1865 году плита была частично прочитана кркским каноником Иваном Црнчичем, а спустя столетие – уже полностью – доктором Франё Рачки.
Оказалось: надпись повествовала о строительстве церкви св. Люции и восхваляла короля Звонимира за щедрый подарок. 13 строк глаголических букв и орнамент вырезал безвестный мастер на плите размером почти два метра на метр.
«Башчанская надпись» – документ хорватской глаголической культуры, самый древний хорватский литературный памятник. В 1934 году плиту перевезли в Загреб, в Хорватскую Академию искусств и наук, а для церкви св. Люции сделали гипсовую копию.
...Поздно вечером, прогуливаясь по тихим улочкам Башки, освещенных огнями уличных кафе, я вышла к пирсу. Он далеко вдавался в море, и я шла и шла по нему, до красного
огонька, горевшего на краю.
Неподалеку мерцал зеленый свет маяка, но до него было не добраться: нас разделяло море, темное, молчаливое, словно поглотившее все прошедшие века с их борьбой и страстями, выпавшими на долю острова. Но одна страничка его истории мне все же приоткрылась...
А само название острова в переводе с хорватского, как выяснилось, не таило в себе никакой тайны и означало «горло» или «загривок». Наверно, остров многим напоминал громадное морское животное, выплывшее из глубины, чтобы посмотреть на белый свет.
Владимир Лобыцын / фото автора
О. Крк, Хорватия
Земля людей: Забытый в горах Кетш

На этот раз судьба забросила меня в село Хыналыг, затерянное в горах Азербайджана. Целых три дня я бродил по его улочкам, словно выплывшим из средневековья, видел живьем людей, о предках которых писали Страбон и Плиний, слышал язык их, на котором могли говорить внуки Ноя и дети Яфета... А доехал до этих чудес я на стареньком газике, который мне дали в Кубе, районном центре на севере республики.
С Хыналыга, с истоков его истории, и потечет мой рассказ.
Я начну с Библии:
«И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских.»
«И вышел Ной и сыновья его, и жена его и жены сынов его с ним; все звери и (весь скот, и) все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега.»
«И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (и обладайте ею).»
«На всей земле был один язык и одно наречие.»
Дважды я посещал Хыналыг, не зная, что слышал в селе этот самый язык или одно из его наречий... Первый раз – лет тридцать назад. Дороги в Хыналыг тогда еще не было. Она обрывалась у последнего азербайджанского села Кали-Худат. Пока к нему ехали, горы ползли, как гигантские волны, и газик нырял в них, как Ноев Ковчег во время всемирного потопа. Вот и Кали-Худат позади. Дальше вели в Хыналыг лошадиные тропы, обтекая белые валуны, скатившиеся с вершин. И наш газик пополз по ним, цепляясь за травянистые склоны всеми четырьмя колесами. Попал в туман. Он оказался облаком, налезающим на перевал.
С перевала открывался немой и торжественный вид: горы словно висели вокруг, как дым, их вершины сияли снегом, а в ущельях чернели ручьи, будто трещины.
– Вон Шахдаг, – показал мне рукой водитель.
Я вгляделся: купол великой горы был прозрачен. Он таял вдали, как невидимый бог, на которого можно молиться. А потом мы съезжали в пропасть. Особенно страшно было на осыпях: все камни на склонах были живые; чуть тронутые колесами, они текли вниз, таща за собой машину. Ничего, обошлось. Только к вечеру мы добрались до реки. До той черной трещины. На вершинах теснин горел закат, а река Кара-су – Черная вода – струилась по гальке в сумраке.
И вдруг за ее излучиной возник перед нами холм, крутой и высокий. Кара-су огибала его подошву. А на вершине холма – Хыналыг в виде слипшейся груды кристаллов. Кристаллами были его дома с плоскими крышами, тесно прижатые друг к другу. Они нависали над холмом, как шапка. Улиц не было, были крыши. По крышам возвращались с пастбищ коровы, на крышах орали ослы, суетились люди. Кончался день, и Хыналыг гудел, как улей.
И наш Ноев ковчежек, именуемый газиком, тихо всплыл из глубин времен и пристал на Холме хыналыгском...
...Что мне, однако, было о них известно? Какие воспоминания оставили об этих людях античные историки Страбон и Плиний?
«...Много разных племен обитает на Кавказе, скрываясь в высоких горах, как внутри осажденной крепости. Зимой из-за снежных заносов проникнуть туда невозможно. А летом они сами спускаются с гор вместе со своей кладью, лежа на шкурах и скользя по льду.

А сходят они на равнину за солью. Это дикие, воинственные и самобытные люди, однако при деловом общении честные и не обманщики. Не зная числа больше ста, они занимаются лишь меновой торговлей. От жителей низменных мест они отличаются красотой и высоким ростом. Их одежда – войлочная шапка, хитон с длинными рукавами и шерстяные штаны. Они любовно разрисовывают ее изображениями животных.
Закончив дела на равнине, они снова уходят в горы, подвязывая к ногам из-за снега и льда широкие куски сыромятной бычьей кожи, утыканные шипами и по форме своей напоминающие литавры...»
...И пропадают в этих горах на два тысячелетия. Чтобы снова предстать предо мною, спускаясь к машине со всех хыналыгских крыш! Они окружают меня оживленной толпой, их силуэты маячат на фоне гор, а их непонятная речь течет в темноте, как поток Кара-су, с запинками и придыханиями. И как старого друга, они приглашают меня в свой дом.

За тридцать лет здесь ничего не изменилось. Я иду в каменный, сложенный как бы из огромных зерен дом, поднимаюсь по лестнице вслед за хозяином, который топчет ступени ее такой же обувью, о которой писали Страбон и Плиний. Это куски сыромятной бычьей кожи, стянутые шнуровкой. Хозяин разувается у дверей. И входит в комнату в шерстяных носках, на которых яркими нитками вывязаны стилизованные изображения животных.
Как тепло и уютно пройтись по коврам, сознавая, что тебя окружают холодные снежные горы. Я сажусь на подушки, набросанные у стены. Коврами завешаны стены, покрыты полы. Окон нет. Вместо них – круглое отверстие в потолке. И глубокие ниши, в которых лежат одеяла, подушки, матрасы, паласы и те же ковры. Ковры – основное богатство дома. От них красота и тепло, и уют. В углу на широком подносе шумит самовар, от него поднимается сизый дым и ароматною мглою разливается под потолком, покидая комнату через отверстие в нем. Хозяин садится на корточки и, разламывая кизяки, сует их в самоварную трубу.
– Видишь, как воздуху мало? – говорит он. – Еле горит. Здесь у нас ничего не растет. Кроме этой травы...
Он сжимает кизяк в кулаке и показывает эту труху мне:
– От нее – хыналыгская жизнь.
И я вспоминаю, как началось наше знакомство. Рагиму Алхасу тогда, в мой первый приезд было всего тридцать лет. ...Высокий, поджарый мужчина с резкими морщинами волевого лица. Он работает в Сумгаите, а учится в университете в Баку.
– На каком факультете? – спрашиваю я.
– На филфаке. Но пепел Клааса стучит в мое сердце. Поэтому, как только отпуск, я возвращаюсь сюда, в Кетш, – он показывает пальцем в пол.
– В какой Кетш? – недоумеваю я.
– В наше селение – Кетш. Наш народ – кетшский, и язык тоже кетшский. А Хыналыг – это тюрское слово. Нас называют так.
– Мне в Кубе говорили – от слова хна – вспоминаю я.
– Разве может в этих горах расти хна? – усмехается Рагим Алхас. – Это растение влажных субтропиков. А здесь восемь месяцев в году дождь, снег. Две тысячи триста над уровнем моря. Какая хна?
– Может, тогда Хунна-лыг? То есть от слова «гунны»?
– Нет, нет, – отмахивается и от этой идеи Алхас. – С гуннами мы это не связываем. Потому что, думается, раньше гуннов мы здесь жили. – Волнуясь, Рагим начинает говорить по-русски хуже. – Когда еще был Туфан Нуха. Туфан Нуха знаешь?
– Это всемирный потоп? – догадываюсь я. – Нух ведь – Ной...
– Ну да. Все основные люди жили тогда в горах. У Нуха, как ты помнишь, было три сына: Сим, Хам и Яфет. После потопа они все разъехались. Сим поехал туда, Хам поехал сюда... И только Яфет с сыновьями остался. От него зародился кавказский народ, И Россия, Европа, Америка тоже. Этот Яфет говорил на своем языке. Он похож на хыналыгский.
– Почему ты так думаешь?
– В прошлом году в Хыналыг приезжал известный ученый-лингвист Александр Евгеньевич Кибрик. И тринадцать сотрудников Московского университета. Они изучали грамматику хыналыгского языка. Я работал у них переводчиком. Хыналыгский язык, сказал Кибрик, отделился от общего праязыка всех народов Кавказа на самом первом уровне. А теперь посмотри, – заключил Алхас. – Если Яфет – праотец всех народов Кавказа, то мы говорим на его языке. Яфетическом...
– Ты вернулся совсем? – спрашиваю постаревшего Алхаса.
– Я уже не уезжаю из Кетша, – отвечает он. – Здесь в школе учу.
– Вот ты говоришь: Плиний, Плиний... – сказал мне наутро Алхас. – А хочешь увидеть такое, о чем еще не писал никто? Ни Геродот, ни Страбон, ни Плиний. Пойдем, покажу тебе нашу письменность.

Мы вышли из дома и по каменным лестницам, едва различимым в густых утренних сумерках, хватая ртом холодный воздух, стали взбираться на хыналыгский холм. Подъем оборвался у мрачных стен. Предо мною был угол соборной мечети. Еще светила луна, и от темных камней ее шел металлический блеск. Рагим наклонился к стене, пытаясь что-то разглядеть.
– Нет, – наконец сказал он. – Еще рано. Пойдем, посидим наверху.
Мы поднялись на крышу мечети. Подо мной лежал Хыналыг. Его холм одиноко стоял в котловине. И только с ближайшей горы к селу протянулась узкая насыпь, похожая на мост. Она как бы связывала Хыналыг с остальным миром. По этому перешейку двигалось сейчас стадо коров, уходя на пастбище. Пастух шел за ними. Какая-то старая женщина подбирала с земли коровьи лепешки. Она была черная, как священный скарабей. Слепила из лепешек целый ком, величиной с арбуз, и побрела с ним в селение. Я следил за ней. Старуха села на ступеньки своего дома и замесила в навоз пук травы. И вновь разорвала его на лепешки. Трава была в них для крепости. А потом с размаху стала нашлепывать эти лепешки на стену. Рядом на крыше стояли холмики уже сухих кизяков, точь-в-точь, как на севере стога.

Хыналыг оживал, просыпался. Из круглых отверстий на крышах струился дымок, подсвеченный столбиком света из комнат. Эти отверстия в крышах на ночь закрывали медными подносами. Чтоб не выветривалось тепло. Все крыши в селении были плоскими, земляными, и на каждой из них я заметил каменные валики величиною с полено. Ими земляные крыши укатывали, чтобы не проникала вода. На таком же сидел сейчас Алхас.
Кое-где на веревках сушилось мясо, схваченное прищепками. Оно было бурым, как грязные тряпки. Кроме этого сушеного мяса зимой ели сушеный сыр, твердый как галька, горный мед и пили молоко низкорослых местных коров.
Зимой в Хыналыге народу мало. Одни старики, старухи и маленькие дети. Все взрослые – с баранами на равнине. У пастухов там кишлак на реке Пирсагат. Этот кишлак трудно, конечно, назвать селом. Просто несколько домов-кубиков.
– А вот раньше там жили в шатрах, – вспоминает Рагим Алхас. – Еще до советской власти. И время считали тогда по-другому... По стаду овец.
– То есть как?
– Ну вот, например, я родился, когда в Хыналыге было семьдесят тысяч овец. А при деде моем – сто тысяч.
«Странное летоисчисление, – подумал я, – Хотя, с другой стороны, как вообще люди считают время? От какого-то важного для жизни события. От потопа, от сотворения мира, от рождения Христа... Для Хыналыга баран – это жизнь. Значит – время».
– Когда говоришь, ты родился? – спросил я с улыбкой. – При поголовье в семьдесят тысяч овец? Это какой же год в переводе на нашу эру?
– Тысяча девятьсот тридцать седьмой.
– А сейчас какой год?
– Двадцать тысяч овец... Значит, гол тысяча девятьсот девяносто седьмой.
Из-за края хребта показалось солнце. Я обернулся. Вокруг Хыналыга теснились горы, и сияющий воздух накрыл котловину, постепенно спускаясь вниз. По склонам ее, испещренным оврагами, ползли лучи, и уже засветлели торчащие всюду могильные камни. Тени от них шевелились, как души умерших людей. Казалось, сейчас просыпалась вся жизнь Хыналыга – от Ноя до наших дней.
Сквозь эту вечную жизнь, обтекая надгробья, двигалось стадо овец, пощипывая свою траву и ничего, кроме этой травы, не чуя. Ступали неслышно собаки. А лучи все ползли и ползли по шершавой земле, оживляя могилы. Их были тысячи, этих могил, густо усеявших склоны гор. Я стоял как бы в центре гигантской воронки, стенки которой шли вверх. Сколько жизней всосала в себя эта гигантская воронка? Хыналыг как модель мироздания: в нем зарождается жизнь и, раскрутившись, ложится на эти склоны. Чтобы снова взойти травой, которую щиплют овцы. Каждый росток – как зеленая звездочка. Листья распластаны по земле. Греются...

В нашей котловине. Это один падеж. Второй падеж: внутри заполненного сплошного пространства. Допустим, что мост утонул в тумане. Третий падеж: мост на внешней поверхности склона горы. Четвертый падеж: мост примыкает вплотную к селу. Можно двигаться по направлению к мосту. Можно двигаться через мост. И все это разные падежи. У вас, например, одинаково: женщину видеть, мужчину, животное или предмет. Вы говорите: я вижу, и все. А у нас по-другому. На каждого свой глагол.
«Как объяснить все это? – думал я. – Хыналышы живут в каком-то ином пространстве. Может быть, действительно в послепотопном? Все тогда быстро менялось, вода спадала, и возрождалась жизнь. Мир был очень неустойчив. Вот и потребовалось семнадцать падежей. Так история народа спряталась в его языке...»
...Я попал в это послепотопное время, нагнав пастуха, который утром шел через кладбище. Теперь он стоял, прислонившись спиной к валуну, нагретому солнцем. Вокруг этого валуна паслись его овцы, пощипывая траву. Там и сям между ними белели камни, скатившиеся с вершин. Эти камни и овцы сливались в единое стадо: одно неподвижно стояло, а другое текло... – А это наш предок Уста Дегот, – пастух погладил валун у себя за спиной. – От этого камня пошел наш род.
Я решил, что под этим камнем на пастбище-яйлаге лежит его предок. Однако пастух имел ввиду именно камень.
– Вот послушай, что я тебе расскажу... Говорят, сразу после Туфан Нуха село Кетш на плече Кетш-горы находился. По воле Аллаха там было землетрясение. Ни один кетшский дом на ногах не стоял, все упали. Крыши людей задавили. Умирающий умер, живой кричал. Кетш-гора словно мокрый собака трясся. Камень, как дождь, на людей бросал. Нигде человеку места не было. Тот, кто остался, реку перейдя, на маленький холм поднялся. Народ, как стадо, целую ночь на вершине стоял. Так Хыналыг получился. С той поры хыналыгский народ на четыре семьи делится. У каждой семьи – свое кладбище. У каждой семьи – свой яйлаг, – обвел он рукою, все то, что видел. – Как-то в полдень наш предок Уста Дегот на этом яйлаге обедать сел. Овец собрал, молоко подоил, в миску хлеб накрошил, начал есть. В это время к нему старуха подошла.
– Милый сынок, в эту посудину, молока подоив, хоть каплю старухе дай!
Наш предок доил когда, в эту посуду овечий помет попал. А он не видел. И молоко с пометом старухе дал. Эта колдунья пила когда, в миске овечий помет увидела. И нашему предку проклятие сделала:
– Чтобы ты камнем стал!
И пастух со своими баранами камнем стал.
– А как вы узнали об этом? – спросил я.
– Пошли искать. Уста Дегота нигде нет. Потом видим – камни. Один большой, а вокруг, как овцы, маленькие. Их раньше не было. Откуда взялись?
– Может, сверху упали? – намекнул осторожно я. Пастух сокрушенно вздохнул.
– Мы тоже так думали. А теперь посчитай, сколько этих камней.
– Пятнадцать...
– И столько же было баранов.
Что я мог на это возразить? В этом мире случайностей не было. Как в грамматике хыналыгского языка. Во всем просвечивал замысел Всевышнего. Всему находилось свое объяснение. После потопа человек должен был встать на твердь. И обрести устойчивость.

Я погладил рукой валун. Пастух ревниво следил за мной. Еще бы! Для него этот камень был живым. В нем обитала душа его предка Уста Дегота. Валун весь, как перстень, играл слюдой. Как будто сотней фасеточных глаз он следил за мною. Воистину, это Уста Дегот! Как седые короткие волосы покрывает камень лишай. Зимой жгут морозы. Вот трещина. Откуда она? Давно ли валун раскололся?
– Давно, – отвечал пастух. – Лет через сто, как он камнем стал. В это время у нас в Хыналыге жили два друга. У первого были дурные глаза, а у второго еще хуже. Один говорит другому:
– Пойдем пастуха посмотрим, который камнем стал. Не верю, что люди рассказывают.
Пришли, посчитали овец – все точно. Пятнадцать. Потом к валуну подошли. Один говорит:
– Какой ты красивый, камень! Только он это сказал, валун лопнул. Второй говорит первому:
– Какие у тебя сильные глаза!
Только он это сказал, как у первого друга глаза прямо на камень выпали. Понимаешь, зачем?
– Не очень, – пожал я плечами.
– Потому что нельзя не верить.
После этого я уже не сомневался: только так и можно выжить в этих горах. Построив здесь свой, невидимый мир. И войти в него, твердо веруя, что живешь не среди равнодушных камней, а в семейном кругу валунов, где обитает душа твоего предка Уста Дегота...
...За день до отъезда меня приглашают на пир. Кавалькада, гарцуя, выезжает из села и по насыпи, как по мосту, скачет прочь. Мужчины все в бурках – плавно, как волны, взлетают они на спинах коней и вновь опадают на стременах. Едем шагом, цепочкой, по узкой тропе. Воздух чист и разрежен. Моя лошадь дышит, раздувая бока, как меха. Я оглядываюсь на Хыналыг.

Незаметно, скачком, пронеслись тридцать лет. Почти никаких изменений. Правда, сам Хыналыг стал чуть больше. Внизу, у подошвы холма появились дома из кубика. Это школа, правление и магазин. И с другой стороны, у ручья, кучка домиков. Выселки. Уже не встретишь на улочках женщин в домотканых штанах. Не ткут больше в селении и здешние ковры, которые назывались по-хыналыгски «бцы», больше похожие на шкуру медведя или волка – такой длинный был у них ворс. Но зато появились телевизоры и антенны на крышах. Вот и все изменения.
Рагиму Алхасу сейчас шестьдесят. Он поэт, член Союза писателей, ашугов и журналистов. Все эти годы работал директором школы. Теперь изучается в ней хыналыгский язык. Рагим перевел на него Низами, Физули. Выпустил на хыналыгском языке две книги своих– стихов. Он изменил и алфавит. В основе его теперь латинский шрифт. Для родного села он стал чем-то вроде Кирилла и Мефодия. Читает мне свои стихи, переведенные на русский с хыналыгского:
Я Алхас, сумгаитский рабочий,
Мои мускулистые руки
Пусть не изящны очень.
Но молоды и упруги...
И я опять вспоминаю свой первый приезд в Хыналыг...
Так же вот едем по горной тропе втроем: я, Рагим и Сабир.
– Какая здесь высота? – спрашиваю я молодого Рагима.
– Три тысячи метров над уровнем моря.
– Врет он! – смеясь белозубой улыбкой, оглядывается на нас Сабир. – Нет здесь никакого моря! – И задорно пускает лошадь вскачь. Вдруг навстречу ему, из-за поворота, выплывает стог сена. Из стога видна лишь – мотается – лошадиная голова. Это такая большая копна, что не видно даже ног лошади, а лишь бахромою висит трава. Конь Сабира всхрапывает и становится от испуга на дыбы. Из-за стога появляется человек.
Сабир, который едва не вывалился из седла, в ярости направляет на него коня. И кричит по-хыналыгски что-то вроде:
– Ай сукин сын! Убью!
Конь храпит, лезет грудью, сметая мужчину и лошадь, груженую стогом, с тропы.
– Стой! – кричу я.
– Не вмешивайся! хватает меня за рукав Рагим.
– Этой дорогой идущие только нашего рода есть! – кричит мне в запальчивости Сабир. – А этот Габиль – сукин сын! Где он сено косил? – в ярости обращается он к Рагиму.
Тот пожимает плечами.
– На нашем яйлаге, нет?
Мужчина еле стоит на склоне. Молча ждет, когда мы проедем. И еще подпирает лошадь, тоже сброшенную с тропы. Чарыки Га-биля скользят по траве, а мелкие камешки сыпятся вниз.
Проводив угрожающим взглядом виновного, Сабир, а за ним и мы, скрываемся за поворотом.
Сабир объясняет мне:
– Если один человек из другого рода один человек из моего рода убивал или даже толкал, то мой человек тоже его толкал. Понятно?
– Больше половины.
Сабир нетерпеливо машет головой:
– Этот собачий сын один из другого рода есть. Понятно? В этих горах у него свой дорога.
– Ты едешь дорогой нашего рода, – терпеливо внушает мне Рагим. – Ты не должен его защищать. Понятно?
– А я могу стать членом вашего рода? – спрашиваю я.
– Приехавшим гостям уважение делать наш долг есть, -улыбается мне Сабир своей белозубой улыбкой.
– А могу я жениться на девушке вашего рода?
– В нашей местности дядин сын на другого дяди дочери жениться может.
Рагим уточняет:
– Род может принять в свой состав безродного. А Сабир подхватывает:
– Какую надо помощь – все сделаем. Жену найдем. Свадьбу сыграем. Дом будем строить. Камни от Кара-су до селения друг другу передадим. Ковры подарим.
И дорога опять, сделав круг, открывает мне Хыналыг с какой-то другой стороны. Тот человек с копною входит уже в село. Слава Богу, что все обошлось. Но я вздыхаю:
– Если все время так жить, тогда от хыналыгских родов ничего не останется.
– Нет, – возражает Алхас. – Если бы все было общее, каждый бы жил, как хотел. От этих бы гор ничего не осталось. И Хыналыг бы исчез.
... Хыналыг и вправду исчез. Он был задвинут куда-то за гору, в какое-то более раннее время. А мы приехали на Атешгях. На тот самый доисторический пир. Я стою в окружении снежных гор, а на ровной площадке у ног пылает газ. Красные ленты его лижут раскаленные плиты, высовываясь из-под них со всех сторон. И щеки так чувствуют жар. Днем и ночью, зимой и летом здесь постоянно тепло. Если в горах вдруг повалит снег, разыграется вьюга, я сяду поближе к огню и накроюсь буркой. Пир мне не даст умереть. И это ль не чудо?
– Сейчас отдадим пиру жертву, – говорит мне Сабир. Он подтаскивает к огню связанного барана. – Вот, учись. Барана свалив, его голову в южную сторону заставив смотреть, режем. Там Мекка! Надо резать лицом к ней. Туда не заставив смотреть если, мясо барана чистым не будет. Атешгях эту жертву не примет. Пользы не принесет.
Мы садимся вокруг раскаленных плит. Рвем на куски чуреки. Разливаем в стаканы водку. Палочками переворачиваем мясо на раскаленных плитах. От священного пира валит ароматный и белый дым... И Сабир вдруг кричит, показав на небо:
– Пахо! Посмотри, что он делает! Из-за края горы вылетает вертолет.
– Это наш падишах о нас думает, – объясняет кто-то из мужчин, кажется, Вахаб.
– Какой падишах? – не понимаю я.
– Власти, да! – поясняет Алхас. – У нас в языке нет таких слов: президент, правительство. – Он смотрит на вертолет. – Это геологи железо ищут.
– Иншалла, – говорит Сабир. – Пусть вертолет летает. Хорошие залежи чтоб искать. Может, в рабочие нас позовут? Дорогу строить. Деньги дадут. Хыналыг в хорошем настроении будет. Не как прошлой зимой.
И, повернувшись ко мне, рассказывает:
– Прошлого года зима посмотрев, ты бы на небо поднимался! Января десятого после снег пошел. Ночью сильный мороз упал. Тридцать градусов! Народ еле терпел. Хыналыгскую печку знаешь? – тендир в полу, яма, да! На нее одеяло накинули. Ноги засунув, сидим. Шубы, ковры, бурки – на плечах держим. Если б не этот тендир, наши бы дети из рук ушли. Утром перед домом, который имеем, снег высотою в два стула был! Скот замерз. Корма нет. Что делать? С мясом кувшин нашли. Плов из снежной воды сварили. Мужчины собрались, в Кали-Худат пошли. Идем. Горы белые. Человеку идущему места нет. Снег на дороге до пояса. Ночью пришли в дом председателя Кадыра. Кадыр каждому по два мешка зерна насыпал. Угощение предлагал. Мы не остались. Утром опять в Хыналыг пошли.








