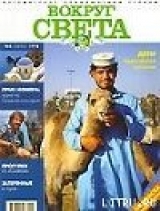
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №5 за 1998 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Кают-компания: Андрей Макаревич: Меня интересует все, что я не видел

Когда в прошлом году журнал проводил анкетирование читательской аудитории, выяснилось, что очень многие подписчики хотели бы видеть на страницах «Вокруг света» диалоги с известными всей стране людьми. Но это должны быть не просто «звезды», а звезды путешествующие, одержимые той же страстью познания окружающего мира и стран неведомых, как и все герои вокругсветовских публикаций.
Первое интервью – с человеком, который не нуждается в каком-то особом представлении. В кают-компании «Вокруг света» – композитор и певец Андрей Макаревич, руководитель группы «Машина времени».

– Скажи, пожалуйста, как случилось, что несколько лет назад параллельно Андрею Макаровичу, признанному музыканту и поэту, неожиданно для многих, возник образ «путешественника Андрея Макаревича»?
– На самом деле все не совсем так. Путешественник ниоткуда неожиданно не возникал. Вообще, я всегда стремился заниматься только тем, что мне было интересно. А путешествия, как и музыка, интересовали меня с раннего детства. В свое время я прочитал массу книжек – полковника Фосетта, натуралистов-писателей Дарелла, Сетона Томсона. Другое дело, я прекрасно понимал, что это всего лишь неосуществимые мечты, и это, конечно, лишь усиливало мой интерес, а то, что многое все же осуществилось, – просто здорово.
– То есть, насколько я понимаю, телевизионный проект «Эх, дороги» не задумывался как коммерческое мероприятие?
– Да оно и сейчас не коммерческое. Коммерческий проект, это тот проект, который приносит прибыль, а я хочу, чтобы он хотя бы сам себя окупал.
– Андрей, а ты помнишь свое первое путешествие?
– Да, конечно. Это было, наверное, в году семьдесят третьем. Я прочитал в каком-то журнале, может быть, «Вокруг света», об абсолютно пустынной части Карелии, крае заброшенных деревень. Туда-то, наугад, мы и двинули, и все оказалось действительно так. Мы еще несколько раз ходили в те места. Вдвоем или втроем, взяв с собою лишь самое необходимое. Это были абсолютно замечательные походы. Добирались на попутках, а дальше шли пешком.
– Какое место на земле тебе интересно сегодня?
– Меня на самом деле интересует все, что я не видел, где не был, А я не был много где. Я не был в Китае, я не был в Индии и Индонезии, я не был в Южной Африке, я не был в Латинской Америке, я не был в Австралии...
– Но ты, кажется, был в Перу?
– Да, да.., в Перу я действительно был, и в Чили... Но я не был в Бразилии, я не был в Венесуэле, в Колумбии. А потом, Перу и Чили были лишь промежуточными этапами к острову Пасхи. Поэтому мы там провели буквально по два дня, и несмотря на то, что Тур Хейердал расписал каждую минуту, и мы сумели увидеть очень многое, конечно, этих дней было мало.
– Андрей, какой способ передвижения в путешествиях ты предпочитаешь?
– Это в первую очередь зависит от того, где ты находишься и какие задачи перед тобой стоят. В общем-то я в этом плане достаточно "всеяден»: все способы передвижения хороши – от длинных пеших переходов до коротких авиаперелетов. А наиболее неприятные впечатления оставили поездки по русским северным дорогам в кузове грузовика...
– Зимою?
– Да даже летом неприятно. Такое ощущение, что едешь на деревянной спине бешеного слона...
– По какому принципу ты выбираешь людей, которые отправляются с тобою в путь?
– Если речь идет о передаче, мы выбираем тех, кто будет интересен зрителям. А если для себя... Последнее время для себя как-то не получается... Но в принципе, если я еду к морю, например, погружаться с аквалангом, то глупо, конечно, брать человека, который этим не занимается. Он же все время просидит на берегу... – Конечно, сегодня я в состоянии поехать куда угодно, когда и с кем мне хочется, но у меня просто нет на это времени. Раньше время было, но не было средств...
– Гитара входит в число твоих спутников?
– Нет...
– Ты имеешь в виду последнее время?
– Да я и раньше ее никогда не брал. Это же не пикник с девочками у костра... Стараюсь брать только самое необходимое. Я очень не люблю таскать на себе тяжелую, и, главное, бесполезную поклажу.
– Но дело же не только в весе?
– Конечно, я просто не испытываю в ней потребности. Гитара мне нужна в студии. В путешествии мне нужен спиннинг, ружье, хорошие сапоги или надувная лодка. Это гораздо важнее.
– Ты можешь нарисовать психологический портрет Андрея Макаревича, находящегося вдали от благ цивилизации...
– Нет. (Смеется.) Боюсь, что мое мнение о самом себе сильно расходится с тем, что происходит на самом деле. Об этом надо спросить у тех, кто был со мною рядом...
– Андрей, что влечет тебя в далекие края: возможность познакомиться с народами, населяющими нашу землю, с их культурой, памятниками архитектуры, или тебя манит перспектива окунуться в мир дикой природы?
– Несомненно, интересно все, но для меня на первом месте все-таки природа. Мне приходится общаться с людьми несколько больше, чем хочется – природа возвращает мне силы. Причем это в равной степени относится к рыбалке на берегу подмосковного пруда и к далеким странствиям по экзотическим местам.
– Сегодня становится доступной почти любая точка земного шара. Не вызывает ли это у тебя, как у путешественника, некоторого разочарования?
– Ну, во-первых, глупо переживать по тому поводу, который от тебя совершенно не зависит. Это все равно, что расстраиваться на предмет плохой погоды. Она от этого не улучшится. С другой стороны, не все так страшно. Даже когда летишь в самолете над нашей страной, от Урала до Дальнего Востока, то очень хорошо видно, какая незначительная часть земли исхожена и обжита.
– Случалось ли тебе во время странствий попадать в ситуации, связанные с риском для жизни?
– С серьезной опасностью... Думаю, что нет. Так, по мелочи. Однажды в Карелии в одном из первых походов к нам забрел медведь, правда, как мне показалось, он испугался гораздо больше, чем мы... Несколько раз были проблемы под водою. Начинал я сам по себе, и мое оборудование для погружения было настолько чудовищно, что годилось разве что для самоубийц... А лет восемь назад, на Онежском озере, мы на стареньком баржевом буксире попали в неожиданный и очень сильный шторм. И все бы ничего, если бы не оказалось, что вся эта акватория уставлена рыболовными сетями, которые были растянуты буквально через каждые сто метров. Дело происходило ночью, и мы понимали, что если мы сейчас на винт намотаем сеть и потеряем ход, то дело кончится очень плохо. Берега там скалистые. В результате один, пристегнувшись карабином, с фонарем в руках, висел на носу и смотрел вперед. Если он замечал сеть, то начинал орать нечеловеческим голосом, поскольку из-за ветра ничего не было слышно, и мы давали полный назад. Лишь чудом все закончилось благополучно. А вот достаточно свежий пример. Когда мы, как я уже говорил, летали на остров Пасхи, у нашего самолета заклинило двигатель, слава Богу, что он не загорелся.

– А двигатель был один?
– Нет, двигателей было два, но это был очень дряхлый самолетик пятидесятых годов. Каким-то чудом летчик все же смог его посадить, и только на земле, когда нас окружили пожарные и медицинские машины, мы поняли, что все было вполне серьезно. Да нет, пожалуй, ничего особо опасного не припоминается. Так.мелочи...
– Но что-то забавное, смешное наверняка же происходило?
– Понимаешь, здесь все зависит от точки зрения. Взять хотя бы ситуацию, когда у самолета мотор отказал и кто как на это реагировал... Ужасно смешно. Да и с буксиром тоже... Вообще смешного обычно бывает гораздо больше, чем грустного, и это правильно. Никогда не забуду, когда мы пришли в одну из брошенных деревень в Карелии, там жил всего один человек – пастух, и ему на полуостров свозили стадо с разных деревень. Такой ковбой, в шляпе, с трубкой. А у нас с собою было ружье и снасти, мы вообще старались находиться исключительно на подножном корму. Ну и как-то под вечер увидели низко пролетающего гуся. Не удержались, шлепнули, приготовили его с грибами и моментально слопали... А я когда ел, все думал: должен же здесь быть егерь, ну не может такого быть, чтоб здесь егеря не было. Вечером пришел пастух, а он каждый день заходил на стаканчик, и говорит:
– Стреляли здесь неподалеку.
– Да не слышали мы ничего. А скажи, – спрашиваю я, – егерь тут есть?
Он так задумался и говорит:
– А как не быть, есть конечно.
– А кто?
Он еще немного подумал.
– А я, наверное, и буду... Вы что ли стреляли? Да стреляйте на здоровье...
Но попугал маленько.
– «Мне дорог в путешествии отъезд»?
– Я не люблю возвращаться, Обычно у меня за день до возвращения портится настроение. Я уже начинаю думать о делах, накопившихся в Москве. Ненавижу возвращаться... Если бы была возможность, я бы двинулся вокруг света, годика так на полтора.
– На чем?
– Да на чем угодно. К сожалению, для меня это абсолютно нереально. Я не могу на полтора года оставить ни группу «Машина времени», ни свою телевизионную компанию.
– Андрей, наверно, традиционный для тебя вопрос. Любишь ли ты готовить в походных условиях?
– Люблю я или нет... Сваливается все равно на меня. Остальные просто не умеют этого делать. Правда, у меня есть одна особенность, которая меня сильно выручает. Дело в том, что я совершенно спокойно могу есть жутко горячую пищу, и когда общий котел снимается с огня и остальные дуют на ложки, я успеваю вычерпать мясо...
– Насколько я понял, в семидесятых годах Андрея Макаревича не пугали ни пешие переходы, ни подножный корм, ни палатка посреди дремучего леса. Но скажи, положа руку на сердце, не предпочтет ли господин Макаревич конца девяностых всему этому беспроблемный комфорт пятизвездочного отеля?
– Одно другого совершенно не исключает. Почему либо одно, либо другое? Все зависит от места. А что касается палатки, то действительно, даже в диких местах, я стараюсь ею не пользоваться. Обычно мне достаточно гамака...
– Ты уже много лет чувствуешь на себе, что такое быть всеми узнаваемым человеком. И вдруг ты оказываешься в мире, в котором тебя никто не знает?
– Кстати, это еще одна причина, по которой я люблю путешествовать. Можно отключить эту постоянную защиту, от которой действительно здорово устаешь.
– Андрей, несколько слов о будущих путешествиях.
– К сожалению, сегодня, когда выходившая в течение последних двух лет на российском канале программа «Эх, дороги» с Максом Леонидовым не выходит в эфир, у меня образовалась вынужденная пауза в путешествиях, потому что у меня нет возможности просто взять и выключиться из работы да и поехать куда-нибудь. Но я очень надеюсь, что ближе к лету мы эту проблему решим. Найдем место в эфире. На мой взгляд, программа этого заслуживает. И тогда поедем снова. Ведь в мире еще столько интересного...
Беседовал Андрей Куприн
Via est vita: Дал, Анчар, Манасбал

Наш постоянный автор архимандрит Августин (в миру Дмитрий Никитин) на этот раз отправился на север Индии, в штат Кашмир. Он совершил путешествие, которое когда-то было доступно многим, но сегодня мало кто рискнет пройти по трем озерам, названия которых звучат как стихотворная строка – Дал, Анчар и Манасбал...
Кашмирская кругосветка
Разворачиваю туристическую карту Кашмира, изданную лет 10 назад. Здесь обозначено много заманчивых маршрутов, особенно горных и водных. Но за эти годы карта безнадежно устарела: мусульманские сепаратисты превратили Кашмир в кошмар, и возможности передвижения для иностранцев резко сократились.
Уже не сядешь запросто на рейсовый автобус: в лучшем случае – не продадут билет, а в худшем – снимут с рейса на первом блок-посту. А если странник все же доберется до вожделенных мест, то обнаружит, что в бывшем отеле расквартированы армейцы, а при входе – стража. И снова – от ворот поворот.
Особой популярностью у туристов в мирное время пользовался горный курорт Гульмарг – «Дорога роз (или цветов)», расположенный в 46 километрах к западу от Сринагара. Нынче их возят в Гульмарг только как индивидуалов – на арендованном автомобиле, под присмотром шофера, под ответственность сопровождающего. Все, что лежит к западу от Сринагара, – на особом режиме: ведь до границы с Пакистаном – рукой подать.
Один из немногих маршрутов, сохранившийся с прежних времен, – Большое озерное кольцо, на северо-западе от Сринагара. Оно охватывает три озера: Дал, Анчар и Манасбал. Чтобы проделать этот путь на лодке-шихаре, требуется три дня и четыре человека: два гребца, повар и гид-переводчик. Фарук, владелец отеля, называет стоимость фрахта: цена довольно приличная и для туриста-одиночки неподъемная. Ответа пока не даю – надо все обдумать, взвесить, – впереди целый вечер.
К ужину в нашей плавучей гостинице за общим столом собирается разношерстная англоязычная компания: ирландец, канадец, американец и англичанин.
Первые трое наладились в высокогорный Ладакх: там, в краю буддийских монастырей,– первозданная тишина и не стреляют. Том из Манчестера недавно вернулся с Ладакха и расслабляется в Сринагаре. Решаем объединиться и разделить расходы. Завтра нас с Томом ждет кашмирская озерная «кругосветка». Мы начнем с Манасбала.

Команда шихары
Утром – завтрак по-кашмирски: свежий кашмирский сыр, особые кашмирские лепешки, кашмирский чай с медом. Фарук посматривает на часы: нам предстоит прошлюзоваться, чтобы выйти в реку Джелум, а железные ворота должны открыться с минуты на минуту.
У парадных дверей гостиницы уже покачивается большая шихара. Она гораздо больше и вместительней обычной, прогулочной, – ведь в ней целых три дня будут находиться в автономном плавании четыре члена экипажа и два пассажира. Гребцы восседают на корме; здесь же у переносной газовой плитки хлопочет кок.
Мы с Томом размещаемся как махараджи – на подушках под навесом. Нашим гидом будет Рашид – племянник Фарука. Его место – на носу лодки. Свободного места в лодке почти нет – на борт погружено несколько корзин с продовольствием. Общения с берегом почти не будет.
У шлюза, построенного еще при англичанах, скопилось несколько лодок. Крестьяне везут на продажу кабачки, капусту обычную и кольраби. Один челн доверху нагружен сеном, другой – водорослями и кувшинками. Все это пойдет буренкам. Пастбищ на всех не хватает, вот и приходится хозяйкам пропалывать озера, добывая корм для жвачных. И в этом заключается некая природная мудрость: без регулярной жатвы местные озера давно бы уже зацвели и превратились в болота.
Шлюзы здесь обслуживают вручную, и старей, вращающий ворот, не спешит выкладываться. Он приоткрывает створки ровно настолько, насколько в них может протиснуться одна лодка. Цепочкой входим в шлюз. Перепад воды всего два метра, так что долго ждать не приходится. И вот, войдя в речку Чинар-багх, мы сворачиваем направо и устремляемся вниз по течению.
По Чинару идти трудно: оба берега уставлены жилыми баркасами. Но это уже не гостиницы для туристов, здесь ютится местный люд – те, кому не нашлось места на земле. В плавучих бараках рождаются, живут и умирают. Одно поколение здесь сменяет другое. Старик, сидящий у окна-иллюминатора, вдыхает табачный дым из кальяна. А его сын, стоящий на корме, затягивается сигаретой. У его ног палубный кот – он отвечает за крыс, точнее, за их отсутствие на борту.
Наша шихара проходит мимо жилых баркасов так близко, что видно внутреннее убранство кают. Почти все речные жители – мусульмане, и на стенах прикноплены большие плакаты с изображением Мекки и главной исламской святыни – Каабы. Бородатые, словно голландские шкиперы, обитатели жилищ неторопливо пьют чай и слушают по приемничку призывы муэдзина к молитве. Но бить лбом о пол не торопятся: нынче они умеренные фундаменталисты.
Однако в конце 80-х – начале 90-х годов исламский фактор проявился в Кашмире весьма сильно. В этом единственном штате Индии, где преобладает мусульманское население, крайне сильны сепаратистские настроения. Начиная с 1989 года, сепаратисты, подстрекаемые из Пакистана, постоянно совершают террористические акты не только в самом Кашмире, но и в Дели. Наш челн, следуя вниз по течению, проходит мимо золоченых куполов индуистского храма.
Позолота сильно поблекла, храм давно не ремонтировался. По обеим сторонам от него высятся полуразрушенные дома – без окон, со следами копоти от пожаров. Рашид сообщает, что в этом квартале жили индусы, но после погромов 1989 года они бежали, оставив свои жилища. Так дома и пустуют вот уже несколько лет. К чести мусульман, они не занимают бесхозную жилплощадь, а ведь могли бы, особенно те, что безземельные и ютятся на воде. Но Кашмир – не Чечня, и право на частную собственность здесь еще уважают.
Чинар-багх несет свои воды в реку Джелум, по которой мы и будем сплав литься. Уровень воды нынче высокий и очередная железная задвижка, регулирующая сброс воды, приоткрыта. Он; нависает над речной гладью словно гильотина, и мы не без трепета проскальзываем под ней. Течение Джелума сильное, и оно сразу же подхватывает нашу шихару. Сринагар протянулся на шесть километров вдоль обоих берегов реки, выполняющей роль главной улицы и торговой магистрали.
За бортом остаются плавучие хибары и состоящая при них живность: овцы, козы, кошки, собаки, куры. И купола индуистских храмов со следами былой позолоты. И старинные мечети с возводимыми рядом новыми минаретами. И прачки, полощущие белье в мутных водах реки. И мальчишки, швыряющие с мостов камни в проходящие лодки. Сринагар – режимный город, и на берегах Джелума неспокойно. Как сказал бы поэт: «мосты повисли с блок-постами». Мостов здесь девять, и некоторые из них рассыпаются от ветхости. Неподалеку налажена паромная переправа. От лодочников требуется большая сноровка, чтобы проскочить под тросом, протянутым над рекой, и не врезаться в корыто, до отказа набитое пассажирами.
Больше двух часов наша шихара выбирается из Сринагара, но дома с резными украшениями никак не кончаются. Наконец мы выходим на речной простор и тут же упираемся в низкий пешеходный мост на деревянных сваях, переброшенный через Джелум. Для таких лодок, как наша, оставлен лишь небольшой проход у левого берега. Да и то, чтобы проскочить через узкую горловину под низким пролетом, мы должны снять тент и бамбуковые шесты. Узкое место проходим без потерь, и тут же нас встречают индийские автоматчики, дежурящие на береговом КПП. Обычный джентльменский набор: мешки с песком, бойницы, дула «калашниковых»...
Наших гондольеров здесь хорошо знают и проверку документов у нас с Томом не учиняют. Они – свои, а значит, и мы – наши. Офицер машет рукой: следуйте прежним курсом, но на свой страх и риск. И мы продолжаем сплавляться по течению – туда, где вдали высятся горы и где нас ждет озеро Манасбал...
Джелум тихо несет свои воды. Повсюду разлиты покой и умиротворенность. Шихара следует мимо стройных тополей, зелеными свечками стоящих вдоль берега. Ивы склоняются к воде; такое впечатление, что лодка идет по какой-нибудь южнорусской реке: те же цапли, те же утки. И только говор лодочников возвращает к реальности: их беседа идет на кашмирском языке; понятны лишь отдельные слова: Коран, иншалла, Исламабад, бисмшля... По частоте их употребления можно судить о том, куда обращен мысленный взор этих индийских подданных...
Наши гребцы – Амир и Мустафа – работают веслами, сидя по разные стороны кормы. На Джелуме нет рева моторок, лишь иногда попадается встречная лодка, груженная речным песком. Кок Мансур протягивает нам с Томом поднос, и мы пьем чай по-кашмирски, любуясь порхающими над водой голубыми попугаями и прочими птицами неземной красоты. Необычны здешние дятлы: у них полосатые грудки, и кажется, что они в тельняшках. Пернатая морская пехота усердно трудится, выискивая насекомых в коре тополей.
Впереди деревянный мост. Чем ближе подходим к нему, тем сильнее звучит российская тема. Здесь, на севере Индии, в декабре бывает ледостав, а ранней весной реки вскрываются ото льда. И чтобы защитить мосты от разрушения, их быки защищены деревянными ледоломами – точно так же, как на русском Севере. О краже технологии речи быть не может. Просто кашмирские плотники хотели как лучше, вот и получилось как у нас.
Наш кок переместился на нос шихары и приникает, булькая, к кальяну. Но кальян – слово персидское, и Рашид объясняет, что по-кашмирски это устройство именуется «джаджир». Оно состоит из металлической чашки, в которую кладется табак и угли. Чашка соединяется трубкой с сосудом, наполненным водой. Дым проходит через воду и, уже очищенный, поступает к курильщику.
За разговором не замечаем, как садимся на мель. Наши гребцы, стоя по колено в воде, стаскивают шихару с банки. Местная ребятня плещется в реке, и для них появление лодки с двумя бледнолицыми – целое событие. Дети делают вид, что помогают стаскивать наш челн, но лучше бы купались себе в сторонке.
Нарастает шум, слышатся крики: «Пен!» (Авторучку!) «Бакшиш!» У малолетних рэкетиров действенное средство: вокруг нас поднимается все больше брызг, и, в случае чего, они намерены нас искупать.
Обогнув коварную мель, разворачиваемся и гребем к правому берегу. Здесь, укрытый ивами, начинается канал, соединяющий нашу реку с озером Манасбал. При входе в канал – шлюз-гильотина, и мы ждем ее подъема. В деревеньке, стоящей при шлюзе, оживление. Видно, путешествующие нынче здесь редкие гости. Шлюз открывают вручную: гильотина поднимается над водой ровно на метр и не более. Мы с Томом ложимся на дно шихары. Наши лодочники снимают бамбуковые шесты, тент – и все это укладывают поверх наших тел. Мы чувствуем энергичные взмахи весел, слышны крики гребцов и болельщиков с берега. Шихара чалится к берегу, мы вылезаем из-под укрытия и видим перед собой... – очередной КПП и автоматчиков. Похоже, здесь, в плавнях, сепаратисты особенно активны...
Пока дежурный устанавливает наши личности, Мансур готовит обед на газовой плитке. Рядом с шихарой покачиваются лодки, выдолбленные из цельного ствола чинары. Это основной транспорт местных жителей. Местные гуси и утки держатся подальше от нашего кока и его сковородки.
Насытившись, мы начинаем подниматься вверх по течению. На одних веслах здесь не пройти. Лодочники энергично гребут, а Рашид отталкивается от дна шестом. Амир и Мустафа то и дело что-то ему кричат. Течение работает против нас, и скорость движения совсем черепашья. Бричка, влекомая лошадкой вдоль берега, легко обгоняет лодку.
А кок, знающий по-английски единственную фразу, почему-то постоянно спрашивает у нас: «Вы счастливы?»
Полчаса идем в форсированном режиме, на пределе сил. Работа вознаграждается сполна: перед нами открывается гладь Манасбала, обрамленная горами и усеянная огромными розовыми лотосами. Время близится к вечеру, здесь мы и заночуем. Шихара пробивается к берегу через лотосовые плантации. Кормчим приходится разгребать водоросли, опутывающие лодку. Место для стоянки выбрано хорошее: небольшая поляна, огороженная заборчиком, вверх от нее, уступами, уходит парк, весь в цветах и тополях.
Мы с Томом решаем прогуляться вдоль берега, до близлежащей деревеньки. Миновав парк, выходим на прибрежную тропу, любуясь лотосами. Наше созерцание нарушают шаги за спиной. Это нас догнал запыхавшийся Рашид. Объяснять ничего не надо, и так все ясно. Он думал, что мы останемся близ шихары и уже начал ставить палатку на поляне. Однако оказалось, что мы ушли без спросу, и Рашиду пришлось бросить все, чтобы сопровождать беглецов, – ведь он за нас отвечает.
Забавным это могло показаться лишь нам, новичкам, – дескать зря перестраховывается. Но когда, вернувшись с прогулки и устроившись в палатке, мы услышали звуки автоматных очередей, стелившихся над озером, нам стало не до смеха. «Совсем как в Белфасте», – говорю я Тому. «Похоже на Чечню», – развивает он мою мысль. Очереди слышны все ближе, но, к счастью, вскоре прекращаются.

На бурлацкой тяге
На утренней заре – побудка и завтрак. Членам экипажа не нужно делать и лишнего шага: они ночевали в лодке. Рашид подводит к нам местного жителя, – это работник государственной конторы, той, что стоит близ нашей поляны. Ему надо дать бакшиш – по 50 рупий с носа: считается, что он всю ночь присматривал за нашей палаткой, охраняя ее от лесных братьев-мусульман. Отсчитываем ему сотню – налог за безопасность, и снова в путь. Прежней дорогой возвращаемся на Джелум; на этот раз канал пролетаем с ходу. Однако теперь нам предстоит подниматься вверх по реке, так что радоваться рановато. Выручает то, что берег ровный и можно идти бечевой.
Амир сходит на сушу и перепоясывает себя упряжью. Другой конец троса цепляем за бамбуковую стойку шихары и начинаем медленно двигаться вверх по течению, прижимаясь к берегу. Наш бурлак идет прогулочным шагом, без особых усилий. Но иногда на его пути встречаются ивы, низко склонившиеся над водой. Со стороны реки их не обойти, и тогда нашему закоперщику приходится туго. То и дело мешают коровы, пасущиеся почему-то у самого края речного отвесного склона. Неразумным животным трудно постигнуть технику движения лодки, и они упорно не желают освободить дорогу. А потом буренки не могут взять в толк – почему наш ведущий, ругаясь, перекидывает бечеву через их спины.
Полдня уходит на борьбу с водной стихией. В обед добираемся до протоки, которую еще вчера проскочили на полном ходу. Рашид сопровождает нас с Томом в участок и вполголоса предупреждает: «Если спросят про «камеру», отвечайте: нет! Тут они все помешаны на фотоаппаратах и могут засветить пленку». Полицейскийсикх вписывает наши имена в толстую книгу, прошнурованную, пронумерованную и скрепленную сургучной печатью.
Ждем коварного вопроса, однако особист в тюрбане путает все карты и осведомляется: не желаете ли чашку чая? Мы с облегчением отказываемся, а он, довольный собой, отпускает нас с миром.
Наша очередная цель – озеро Анчар, и мы начинаем двигаться по протоке, по-прежнему против течения. Однако скорость движения резко снижается. Вдоль крутых берегов – плотная застройка: сельские хижины, сарайчики с мычащими жильцами, так что здесь не побурлачишь. Выхода нет, приходится плестись на веслах. Усилий обоих гребцов недостаточно, и гид-Рашид тоже вооружается веслом. Да и мы с Томом не желаем изображать из себя «груз-200».
На борту есть еще одно весло с лопаточкой в виде сердца. И вот, сменяя друг друга, мы усердно гребем. Лишь на мгновенье из воды поднимаются блестящие на солнце лопатки. А наш кок-старичок на корме невозмутимо пускает пузыри из кальяна: Мансур отвечает за питание; за проводку шихары он не ответствен.
А в протоке идет своя жизнь, скрытая от случайного взора. На одной лодке идет заготовка топлива: глава семейства то и дело погружается в воду и достает со дна топляк и коряги. Его жена укладывает добычу в долбленку. За лето речные дары просохнут под жарким солнцем, и в декабрьскую стужу будет чем затопить печку-буржуйку. С другой лодки ловят рыбу.
Круглая сеть словно выстреливает из рук добытчика и на мгновение замирает над стремниной в виде огромного пузыря. Место здесь рыбное, и вся ближайшая заводь, усеянная долбленками, то и дело пузырится.
Деревня позади, пошла околица. Амир снова впрягается в упряжь и шествует вдоль берега. «Хорс-мэн»! (человек-лошадь) – шутит Рашид. Что же, это и в России не в диковинку. Ведь пахали же во время войны «на бабах», и колхозницы числились в сельской ведомости как «ВРИДЛО» – «временно исполняющие должность лошади»...
А наша шихара идет все веселее. Мы подбираемся ближе к тенистому берегу, и в упряжку влезает второй гребец – Мустафа. Теперь наша тяга увеличивается еще на четверть лошадиной силы. Нам навстречу движется шихара, на борту которой – туристка-японка, возлежащая на подушках под тентом. Чуть погодя машем рукой европейской парочке, угнездившейся на другой лодке. Они тоже движутся по «кашмирской кругосветке», но в обратном направлении. За все три дня пути только и были что эти встречи. И это летом, в разгар сезона! Мы с Томом довольны: значит, наша экспедиция штучная, а не какая-нибудь там заезженная массовка.
Близится вечер, и члены экипажа начинают высматривать место для ночлега. Вот подходящий затон, да и место, судя по всему, рыбное. Однако мнения разделились: одни за то, чтобы бросить якорь в затоне, другие считают, что еще рано – только начало седьмого. Пока идет спор, мы с Томом прогуливаемся по берегу.
Но вот с шихары нам машут рукой – решено двигаться дальше. Опытным байдарочникам хорошо известен «закон полседьмого». Если в это вечернее время пропустишь хорошую стоянку, то потом долго ничего подходящего не встретится и на ночлег будешь располагаться в темноте. В Кашмире этот закон тоже действует, в чем мы вскоре и убеждаемся.
...Скользя и срываясь с крутого глинистого берега, Рашид карабкается вверх, чтобы на крошечной полянке-пятачке установить палатку. Гребцы – Амир с Мустафой, злобно шипя друг на друга, пытаются закрепить шихару на быстрой воде, чтобы ее не сорвало течением. Мансур, переругиваясь со спорщиками, при свете керосиновой лампы силится изобразить на сковороде то, что он потом назовет ужином. Но вот, наконец, все угомонились, и мы трапезничаем. А из темноты одна за другой возникают таинственные очертания пирог – это местные рыбаки вслепую возвращаются в деревню с уловом. Они чувствуют каждый изгиб реки.
Фантастическую картину озвучивает гортанный призыв к вечернему намазу, доносящийся из близлежащей деревни. Кувшинки, распустившиеся на зеркальной глади, купаются в лунном свете.
Мы с Томом забираемся в спальные мешки, а рядом с палаткой Мансур кладет земные поклоны под возгласы «Аллаху акбар! Аллах велик!» В кромешной тьме он как-то ухитрился определить «кыблу» – направление молитвы в сторону далекой Мекки...

Плавучие огороды
Последние километры путешествия оказались самыми трудными. Утром наша шихара завершает свой путь по протоке и пытается войти в озеро Анчар. Но на пути – препятствие – сильный водослив. Местные жители не стали строить здесь шлюз, а ограничились тем, что перегородили протоку деревянными спаями, оставив посредине узкий проход для лодок. Здесь встречное течение особенно сильное, и нашему экипажу с ним не справиться.
На шихаре объявляется аврал: все, кто могут, хватаются за весла и шесты, а кому не досталось, работают руками, проталкивая лодку через запруду, цепляясь за сваи. И лишь кок Мансур путается у всех под ногами со своим кальяном. Но вот он попал под горячую руку Мустафе: кальян летит на дно лодки, горящие угли рассыпаются по шихаре, а любитель кайфа бросается тушить тлеющие одеяла и подушки. Команда обжигает босые пятки углями и набрасывается на Мансура с криками, не поддающимися переводу. (В облегченном варианте: «Дядя Мансур! Ты не прав!»)








