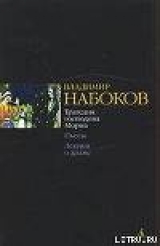
Текст книги "Трагедия господина Морна"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сцена II
Та же декорация, что и в предыдущей сцене: кабинет короля. Но теперь ковер местами прорван и одно зеркало разбито. Сидят Четверо Мятежников. Раннее утро. В окне солнце, яркая оттепель.
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Еще пальба у западных ворот
распахивает быстрые объятья,
чтоб подхватить – то душу, то напев,
то звон стекла… Еще дома дымятся,
горбатые развалины сената,
музей монет, музей знамен, музей
старинных изваяний… Мы устали…
Ночь напролет – работа, бури… Час
уже восьмой, должно быть… Вот так утро!
Сенат пылал, как факел… Мы устали,
запутались… Куда нас Тременс мчит?
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Сквозной костяк облекся в плоть и в пламя.
Он ожил. Потирает руки. Черни
радушно отпирает погреба.
Любуется пожарами… Не знаю,
не знаю, братья, что замыслил он…
Третий мятежник
Не так, не так мы думали когда-то
отчизну осчастливить… Я жалею
бессонницы изгнанья…
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Он безумен!
Он приказал летучие машины
сжечь на потеху пьяным! Но нашлись
герои неизвестные, схватились
за рычаги и вовремя…
ЧЕТВЕРТЫЙ МЯТЕЖНИК:
Вот этот
приказ, что переписываю, страшен
своей игривостью тигриной…
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Тише…
Вот зять его…
Поспешно входит Клиян.
КЛИЯН:
Блистательная весть!
В предместии веселая толпа
взорвала школу; ранцы и линейки
по площади рассыпаны; детей
погибло штучек триста. Очень Тременс
доволен.
ТРЕТИЙ МЯТЕЖНИК:
Он… доволен! Братья, братья,
вы слышите? Доволен он!..
КЛИЯН:
Ну, что ж,
я доложу вождю, что весть моя
не очень вас порадовала… Все,
все доложу!
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Мы говорим, что Тременс
мудрее нас: он знает цель свою.
Как сказано в последней вашей оде,
он – гений.
КЛИЯН:
Да. В грома моих напевов
достоин он войти. Однако… солнце…
в глазах рябит.
(Смотрит в окно.)
А вот – предатель Ганус!
Там, меж солдат, стоящих у ограды:
смеются. Пропустили. Вон идет
по тающему снегу.
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
(смотрит)
Как он бледен!
Наш прежний друг неузнаваем! Все в нем
взгляд, губы сжатые, – как у святых,
написанных на стеклах… Говорят,
его жена сбежала…
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Был любовник?
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Нет, кажется.
ЧЕТВЕРТЫЙ МЯТЕЖНИК:
По слухам, он однажды
вошел к жене, а на столе – записка,
что так и так, решила переехать
одна к родным… Клиян, что тут смешного?
КЛИЯН:
Все доложу! Вы тут плетете сплетни,
как кумушки, а Тременс полагает,
что вы работаете… Там пожары,
их нужно раздувать, а вы… скажу,
все, все скажу…
(Ганус стал в дверях.)
А! Благородный Ганус…
Желанный Ганус… Мы вас ждали… рады…
пожалуйте…
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Наш Ганус…
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Здравствуй, Ганус…
ТРЕТИЙ МЯТЕЖНИК:
Ты нас не узнаешь? Твоих друзей?
Четыре года… вместе… в ссылке…
ГАНУС:
Прочь,
наемники лукавого!.. Где Тременс?
Он звал меня.
КЛИЯН:
Допрашивает. Скоро
сюда придет…
ГАНУС:
Да он не нужен мне.
Сам приглашал, и если… нет его…
КЛИЯН:
Постойте, позову…
(Направляется к двери.)
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
И мы пойдем…
Не так ли, братья? Что тут оставаться…
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Да, столько дел…
ТРЕТИЙ МЯТЕЖНИК:
Клиян, мы с вами!
(Тихо.)
Братья,
мне страшно…
ЧЕТВЕРТЫЙ МЯТЕЖНИК:
Допишу я после…
Пойду…
ТРЕТИЙ МЯТЕЖНИК:
(тихо)
Брат, брат, что совершаем мы…
Клиян и мятежники ушли. Ганус один.
ГАНУС:
(оглядывается по сторонам)
…Здесь жил герой…
Пауза.
ТРЕМЕНС:
(входит)
Спасибо, что пришел,
мой Ганус! Знаю, жизненной печалью
ты отуманен был. Едва ль заметил,
что с месяц – да, сегодня ровно месяц —
я обладаю пьяною страной.
Я звал тебя, чтоб ты сказал мне прямо,
чтоб объяснил… – но дай сперва счастливцу
поговорить о счастии своем!
Ты знаешь сам – всех лучше знаешь, Ганус, —
дня моего я ждал в бреду, в ознобе…
Мой день пришел – нежданно, как любовь!
Слух пламенем промчался, что в стране
нет короля… Когда и как исчез он,
кто задушил его, в какую ночь,
и как давно мертвец страною правил,
никто теперь не знает. Но народ
обмана не прощает: склеп – сенат —
злым топотом наполнился. Как пышно,
как строго умирали старики,
и как кричал – о, слаще страстной скрипки —
мальчишка, их воспитанник! Народ
мстил за обман, – я случай улучил,
чтоб полыхнуть, и понял, что напрасно
я выжидал так долго: короля
и вовсе не было, – одно преданье,
волшебное и властное! Очнувшись,
чернь ворвалась сюда, и только эхо
рассыпалось по мертвому дворцу!..
ГАНУС:
Ты звал меня.
ТРЕМЕНС:
Ты прав, давай о деле:
в тебе я, Ганус, угадал когда-то
мне родственную огненность; тебе
я одному все помыслы доверил.
Но ты был женщиной гоним; теперь
она ушла; я спрашиваю, Ганус,
в последний раз: что, помогать мне будешь?
ГАНУС:
Напрасно ты призвал меня…
ТРЕМЕНС:
Обдумай,
не торопись, я срок даю…
Поспешно входит Клиян.
КЛИЯН:
Мой вождь,
там этих самых, что намедни пели
на улицах, пытают… Никого нет,
кто б допросил… Помощников твоих —
как бы сказать – подташнивает…
ТРЕМЕНС:
Ладно,
иду, иду… Ты у меня, Клиян,
ведь молодец!.. Давно известно… Кстати,
на днях я удивлю тебя: велю
повесить.
КЛИЯН:
Тременс… Вождь мой…
ТРЕМЕНС:
Ты же, Ганус,
подумай, я прошу тебя, подумай…
Тременс и Клиян уходят.
ГАНУС:
(один)
Меня томит единственная дума:
здесь жил герой… Вот эти зеркала —
священные: они его видали…
Он тут сидел, в могучем этом кресле.
Его шаги остались во дворце,
как в памяти – смолкающая поступь
гекзаметра… Где умер он? Где выстрел
его раздался? Кто слыхал? Быть может,
там – за городом, в траурной дубраве,
в снегах ночных… и бледный друг в сугробе
похоронил горячий труп… Грех, грех
немыслимый, как искуплю тебя?
Вся кровь моя благодарит за гибель
соперника и вся душа клянет
смерть короля… Мы двойственны, мы слепы,
и трудно жить, лишь доверяя жизни:
земная жизнь – туманный перевод
с божественного подлинника; общий
понятен смысл, но нет в его словах
их первородной музыки… Что страсти?
Ошибки перевода… Что любовь?
Утраченная рифма в передаче
на несозвучный наш язык… Пора мне
за подлинник приняться!.. Мой словарь?
Одна простая книжечка с крестом
на переплете… Каменные своды
я отыщу, где отгулы молитв
и полный вздох души меня научат
произношенью жизни…
Вон в дверях
остановилась Элла, и не смотрит,
задумалась, концы перебирая
ленивой шали… Что бы ей сказать?
Тепла ей нужно. Милая. Не смотрит…
ЭЛЛА:
(в сторону)
Вот весело!.. Я вскрыла и прочла
письмо чужое… Почерк, словно ветер,
и запах юга… Склеила опять,
как мне, шутя, показывал однажды
отец… Морн и Мидия вместе! Как же
мне дать ему? Он думает, – она
живет в глуши родимой, старосветской…
Как дать ему?..
ГАНУС:
(подходит)
Вы встали спозаранку,
я тоже… Мы теперь не часто, Элла,
встречаемся: иное торжество
совпало с вашей свадьбой…
ЭЛЛА:
Утро – чудо
лазурное – не утро… каплет… шепчет…
Ушел Клиян?
ГАНУС:
Ушел… Скажите, Элла,
вы счастливы?
ЭЛЛА:
Что счастие? Шум крыльев,
а может быть, снежинка на губе —
вот счастие… Кто это говорил?
Не помню я… Нет, Ганус, я ошиблась,
вы знаете… Но как светло сегодня,
совсем весна! Все каплет…
ГАНУС:
Элла, Элла,
вы думали когда-нибудь, что дочь
бунтовщика беспомощного будет
жить во дворце?
ЭЛЛА:
О, Ганус, я жалею
былые наши комнатки, покой,
камин, картины… Слушайте: на днях
я поняла, что мой отец безумен!
Мы даже с ним поссорились; теперь
не говорим… Я верила вначале…
Да что! Мятеж во имя мятежа
и скучен, и ужасен – как ночные
объятья без любви…
ГАНУС:
Да, Элла, верно
вы поняли…
ЭЛЛА:
На днях глядели в небо
все площади… Смех, крики, гул досады…
От пламени спасаясь, летуны
со всех сторон взмывали, собирались,
как ласточки хрустальные, и тихо
скользила прочь блистающая стая.
Один отстал и замер на мгновенье
над башнею, как будто там оставил
свое гнездо, и нехотя догнал
печальных спутников, – и все они
растаяли хрустальной пылью в небе…
Я поняла, когда они исчезли,
когда в глазах заплавали – от солнца —
слепые кольца, вдруг я поняла…
что вас люблю.
Пауза. Элла смотрит в окно.
ГАНУС:
Я вспомнил!.. Элла, Элла…
Как страшно!..
ЭЛЛА:
Нет, нет, нет – молчите, милый.
Гляжу на вас, гляжу в дворцовый сад,
в себя гляжу, и вот теперь я знаю,
что все одно: моя любовь и солнце
сырое, ваше бледное лицо
и яркие текучие сосульки
под крышею, янтарное пятно
на сахаре сугроба ноздреватом,
сырое солнце и моя любовь,
моя любовь…
ГАНУС:
Я вспомнил: было десять
часов, и вы ушли, и я бы мог
вас удержать… Еще один слепой,
мгновенный грех…
ЭЛЛА:
Мне ничего не нужно
от вас… Я, Ганус, больше никогда
вам не скажу. – А если вот сейчас
сказала вам, так только потому,
что нынче снег такой сквозистый… Право,
все хорошо… За днями дни… А после
я буду матерью… другие мысли
меня займут невольно. Но сейчас
ты – мой, как это солнце! Протекут
за днями дни. Как думаешь – быть может,
когда-нибудь… когда твоя печаль…
ГАНУС:
Не спрашивайте, Элла! Не хочу
и думать о любви! Я отвечаю,
как женщина… простите. Но иным
пылаю я, иного я исполнен…
Мне снятся только строгие крыла,
прямые брови ангелов. На время
я к ним уйду – от жизни, от пожаров,
от жадных снов… Я знаю монастырь,
опутанный прохладою глициний.
Там буду жить, сквозь радужные стекла
глядеть на Бога, слушать, как меха
органа выдыхают душу мира
в торжественную вышину, и мыслить
о подвигах напрасных, о герое,
молящемся во мраке спящих миртов
средь гефсиманских светляков…
ЭЛЛА:
Ах, Ганус…
Забыла… вот письмо вчера пришло…
на имя моего отца, с припиской,
что это вам…
ГАНУС:
Письмо? Мне? Покажите…
А! Так и знал! Не надо…
ЭЛЛА:
Значит, можно
порвать?
ГАНУС:
Конечно.
ЭЛЛА:
Дайте…
ГАНУС:
Подождите…
не знаю… этот запах… Этот почерк,
летящий опрометью в память, в душу
ко мне… Стой! Не впущу.
ЭЛЛА:
Ну что ж, прочтите…
ГАНУС:
Впустить? Прочесть? Чтоб снова расклубилась
былая боль? Когда-то вы спросили,
идти ли вам… Теперь я вас спрошу,
прочесть? Прочесть?
ЭЛЛА:
Отвечу: нет.
ГАНУС:
Вы правы!
Так! На клочки… И эту горсть сухих
падучих звезд сюда… Под стол… в корзину
с гербом витым… Духами пахнут руки…
Вот. Кончено.
ЭЛЛА:
О, как светло сегодня!..
Сквозит весна… Чириканье… Снег тает.
На черных сучьях капельки… Пойдемте,
пойдемте, Ганус, погулять… хотите?
ГАНУС:
Да, Элла, да! Свободен я, свободен!
Пойдем!
ЭЛЛА:
Вы подождите здесь… Оденусь…
недолго мне…
(Уходит.)
ГАНУС:
(один, смотрит в окно)
А правда – хорошо;
прекрасный день! Вон голубь пролетел…
Блеск, сырость… Хорошо! Рабочий
забыл лопату… Как-то ей живется
там, у сестры, в далеком захолустье?
Известно ль ей о смерти… Бес лукавый,
покинь меня! Из-за тебя отчизну
я погубил… Довольно! Ненавижу
я эту женщину… Ко мне, назад,
о музыка раскаянья! Молитвы,
молитвы… Я свободен, я свободен…
Медленно возвращаются Тременс, Четверо Мятежников, сзади – Клиян.
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Будь осторожней, Тременс, не сердись,
пойми – будь осторожней! Путь опасный…
Ведь ты слыхал: они под пыткой пели
о короле… все тоньше, все блаженней…
Король – мечта… король не умер в душах,
а лишь притих… Мечта сложила крылья,
мгновенье – и раскинула…
КЛИЯН:
Мой вождь,
девятый час; проснулся город, плещет…
Тебя народ на площадь призывает…
ТРЕМЕНС:
Сейчас, сейчас…
(К Первому мятежнику.)
Так что ж ты говоришь?
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Я говорю – летит, кренясь, на солнце,
крылатая легенда! Детям сказку
нашептывают матери… За брагой
бродяги именуют короля…
Как ты поставишь вне закона – ветер?
Ты слишком злобен, слишком беспощаден.
Опасный путь! Будь осторожней, просим,
нет ничего сильней мечты!..
ТРЕМЕНС:
Я шею
скручу ей! Вы не смеете меня
учить! Скручу. Иль, может быть, и вам
она мила?
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Ты нас не понял, Тременс,
хотели мы предупредить…
КЛИЯН:
Король —
соломенное пугало.
ТРЕМЕНС:
Довольно!
Отстаньте, траурные трусы! Ганус,
ну что же, ты… обдумал?
ГАНУС:
Тременс, право,
не мучь меня… сам знаешь. Мне молитву,
мне только бы молитву…
ТРЕМЕНС:
Уходи,
и живо! Долго я терпел тебя…
Всему есть мера… Помоги, Клиян,
он дверь открыть не может, теребит…
КЛИЯН:
Позвольте, вот – к себе…
ГАНУС:
…Но, может быть,
она меня зовет! А!
(Бросается к столу.)
КЛИЯН:
Стойте… Тише…
Спасайся, Тременс, он…
ГАНУС:
Пусти! Ты только
меня не трогай, понимаешь – трогать
не надо… Где корзина? Отойдите.
Корзину!..
ТРЕМЕНС:
Сумасшедший…
ГАНУС:
Вот… клочки…
в ладонях… серебро… о, этот почерк
стремительный!
(Читает.)
Вот… вот… «Мой веер… выслать…
Замучил он»… Кто он? Кто он? Клочки
все спутаны… «Прости меня»… Не то.
Опять не то… Какой-то адрес… странно…
на юге…
КЛИЯН:
Не позвать ли стражу?
ГАНУС:
Тременс!..
Послушай… Тременс! Я, должно быть, вижу
не так, как все… Взгляни-ка… После слов
«и я несчастна»… Это имя… Видишь?
Вот это имя… Разбираешь?
ТРЕМЕНС:
«Марк
со мною» – нет, не Марк… «Морн», что ли? Морн…
Знакомый звук… А, вспомнил! Вот так славно!
Вот так судьба! Так этот шелопай
тебя надул? Куда? Постой…
ГАНУС:
Морн жив,
Бог умер. Вот и все. Иду я Морна
убить.
ТРЕМЕНС:
Постой… Нет, нет, не вырывайся…
Мне надоело… слышишь? Я тебе
о безднах говорил, об исполинах —
а ты… как смеешь ты сюда вносить
дух маскарада, лепет жизни, писк
мышиной страсти? Стой… Мне надоело,
что ставишь ты свое… томленье – сердце,
червонный туз, стрелой пробитый, – выше
моих, моих грохочущих миров!
Довольно жить тебе в томленье этом!
Ревную я! Нет, подними лицо!
Гляди, гляди в глаза мне, как в могилу.
Так, значит, хочешь пособить судьбе?
Не вырывайся! Слушай-ка, ты помнишь
один веселый вечерок? Восьмерку
треф? Так узнай, что я – проклятый Тременс —
твою судьбу…
ЭЛЛА:
(в дверях)
Отец, оставь его!
ТРЕМЕНС:
…твою судьбу… жалею. Уходи.
Эй, кто-нибудь! Он ослабел – под локти!
ГАНУС:
Прочь, воронье! Труп Морна – мой!
(Уходит.)
ТРЕМЕНС:
Ты двери
закрой за ним, Клиян. Плотнее. Дует.
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
(тихо)
Я говорил, что есть любовник…
ПЕРВЫЙ МЯТЕЖНИК:
Тише,
мне что-то страшно…
ТРЕТИЙ МЯТЕЖНИК:
Как нахмурен Тременс.
ВТОРОЙ МЯТЕЖНИК:
Несчастный Ганус…
ЧЕТВЕРТЫЙ МЯТЕЖНИК:
Он счастливей нас…
КЛИЯН:
(громко)
Вождь! Я осмелюсь повторить. Народ
на площади собрался. Ждет тебя.
ТРЕМЕНС:
Сам знаю… Эй, за мной, бараны! Что вы
притихли так? Живей! Я речь такую
произнесу, что завтра от столицы
останется лишь пепел. Нет, Клиян,
ты с нами не пойдешь: кадык твой слишком
открыто на веревку намекает.
Тременс и мятежники уходят. На сцене Клиян и Элла.
КЛИЯН:
Ты слышала? Отец твой славно шутит.
Люблю. Смешно.
(Пауза.)
Ты, Элла, в белой шляпе,
куда-нибудь уходишь?
ЭЛЛА:
Никуда.
Раздумала…
КЛИЯН:
Жена моя прекрасна.
Не успеваю говорить тебе,
как ты прекрасна. Только иногда
в моих стихах…
ЭЛЛА:
Я их не понимаю.
За сценой крики.
КЛИЯН:
Чу! Гул толпы… Приветственный раскат!
Занавес
АКТ IV
Гостиная в южной вилле. Стеклянная дверь на террасу, в причудливый сад. Посредине сцены накрытый стол с тремя приборами. Ненастное весеннее утро. Мидия стоит спиной, смотрит в окно. Где-то слуга бьет в гонг. Звуки затихли. Мидия все неподвижна. Входит слева Эдмин с газетами.
ЭДМИН:
Опять нет солнца… Как вы спали?
МИДИЯ:
Навзничь,
и на боку, и даже в положеньи
зародыша…
ЭДМИН:
Мы кофе пьем в гостиной?
МИДИЯ:
Да,
как видите. В столовой мрачно.
ЭДМИН:
Вести
еще страшнее прежних… Не газеты,
а саваны, пропитанные смертью,
могильной сыростью…
МИДИЯ:
Их промочило
у почтальона в сумке. Дождь с утра
и темен гравий. И поникли пальмы.
ЭДМИН:
Вот, слушайте: горят окрайны… толпы
разграбили музеи… жгут костры
на площадях… и пьют, и пляшут… Казни
за казнями… И в пьяную столицу
вошла чума…
МИДИЯ:
Как думаете, скоро
дождь кончится? Так скучно…
ЭДМИН:
Между тем,
их дикий вождь… вы дочь его знавали…
МИДИЯ:
Да, кажется… не помню… Что мне гибель,
разгромы, кровь, когда я так тоскую,
что некуда деваться! Ах, Эдмин,
он бриться перестал, в халате ходит,
и сумрачен, и резок, и упрям…
Мы словно переехали из сказки
в пошлейшую действительность. Все больше
тускнеет он, сутулится, с тех пор
как тут живем, в болоте этом… Пальмы
мне, знаете, всегда напоминают
прихожие купцов богатых… Бросьте,
Эдмин, газеты… глупо… Вы со мною
всегда так сдержанны, как будто я
блудница или королева…
ЭДМИН:
Нет же…
Я только… Вы не знаете, Мидия,
что делаете!.. Господи, о чем же
нам говорить?
МИДИЯ:
Я смех его любила:
он больше не смеется… А когда-то
казалось мне, что этот вот высокий,
веселый, быстрый человек, должно быть,
какой-нибудь художник, дивный гений,
скрывающий свои виденья ради
любви моей ревнивой, – и в незнаньи
был для меня счастливый трепет… Ныне
я поняла, что он пустой и скучный,
что в нем мечта моя не обитает,
что он погас, что разлюбил меня…
ЭДМИН:
Так сетовать не нужно… Кто же может
вас разлюбить? Такая вы… ну, полно,
ну, улыбнитесь же! Улыбка ваша —
движенье ангела… Прошу!.. Сегодня
у вас и пальцы неподвижны… тоже
не улыбаются… Ну вот!..
МИДИЯ:
Давно ли?
ЭДМИН:
Давно ли что, Мидия?
МИДИЯ:
Так. Занятно…
Я вас таким не видела. Нет, впрочем,
однажды я спросила вас, что толку
вам сторожить на улице…
ЭДМИН:
Я помню,
я помню только занавеску в вашем
мучительном окне! Вы проплывали
в чужих объятьях… Я в метели плакал…
МИДИЯ:
Какой смешной… И весь растрепан… Дайте,
приглажу. Вот. Теперь смеются пальцы?
Оставьте… ах, оставь… не надо…
ЭДМИН:
Счастье
мое… позволь мне… только губы… только
коснуться… как касаются пушка,
биенья бабочки… позволь мне… счастье…
МИДИЯ:
Да нет… постой… мы у окна… садовник…
………………………………………………
МИДИЯ:
Мой маленький… не надо так дышать…
Стой, покажи глаза. Так, ближе… ближе…
Душе бы только нежиться и плавать
в их мягкой тьме… Постой… потише… после..
Вот! Гребень покатился…
ЭДМИН:
Жизнь моя,
любовь моя…
МИДИЯ:
Ты – маленький… Совсем,
совсем… Ты – глупый мальчик… Что, не думал,
я так умею целовать? Постой,
успеешь ты, ведь мы с тобой уедем
в какой-нибудь громадный, шумный город
и будем ужинать на крыше… Знаешь,
внизу, во тьме, весь город, весь – в огнях;
прохлада, ночь… Румяный отблеск рюмки
на скатерти… И бешеный скрипач,
то скрюченный, то скрипку в вышину
взвивающий! Ты увезешь меня?
Ты увезешь? Ах… шарканье… пусти же…
он… отойди…
Входит Господин Морн, в темном халате, взъерошенный.
МОРН:
Ночь? Утро? Перехода
не замечаю. Утро – продолженье
бессонницы. Виски болят. Как будто
мне в голову вдавили, завинтили
чугунный куб. Сегодня выпью кофе
без молока.
(Пауза.)
Опять газеты всюду
валяются! Однако… ты невесел,
Эдмин!.. Вот удивительно: мне стоит
войти, и сразу вытянуты лица —
как тени при вечернем солнце… Странно…
МИДИЯ:
Ненастная весна…
МОРН:
Я виноват.
МИДИЯ:
…и новости ужасные…
МОРН:
И в этом
я виноват, не правда ли?
МИДИЯ:
Столица
горит. Все обезумело. Не знаю,
чем кончится… Но, говорят, не умер
король, а в подземелье замурован
крамольниками.
МОРН:
Э, Мидия, будет!
Я, знаешь, запрещу, чтоб приносили
газеты. Мне покоя нет от этих
догадок, слухов, новостей кровавых
и болтовни досужей. Надоело!
Передо мной, поверь, Мидия, можешь
не умничать… Скучай, томись, меняй
прически, платья, удлиняй глаза
чертою синей, в зеркало глядись, —
но умничать… Да что с тобой, Эдмин?
ЭДМИН:
(встает из-за стола)
Я не могу…
МОРН:
Что с ним? Что с ним? Куда ты?
Там на террасе сыро…
МИДИЯ:
Ты его
оставь. Я все скажу тебе. Послушай,
я тоже больше не могу. Его
я полюбила. С ним уеду. Ты
привыкнешь. Я тебе ведь не нужна.
Друг друга мы замучим. Жизнь зовет…
Мне нужно счастья…
МОРН:
Я понимаю,
где сахарница?.. А, вот. Под салфеткой.
МИДИЯ:
Ты что ж, не хочешь слушать?..
МОРН:
Нет, напротив
я слушаю… вникаю, постигаю,
чего же боле? Ты сегодня хочешь
уехать?
МИДИЯ:
Да.
МОРН:
Мне кажется, тебе
пора и собираться.
МИДИЯ:
Да. Ты можешь
не гнать меня.
МОРН:
По правилам разрывов —
через плечо еще должна ты кинуть:
«Я проклинаю день…»
МИДИЯ:
Ты не любил…
Ты не любил!.. Да, проклинать я вправе
неверный день, когда в мой тихий дом
твой смех вошел… Зачем же было…
МОРН:
Кстати,
скажи, Мидия, ты писала мужу
отсюда?
МИДИЯ:
Я… Я думала – не стоит
докладывать… Да, мужу написала.
МОРН:
Что именно? Гляди же мне в глаза.
МИДИЯ:
Так, ничего… Что я прошу прощенья,
что ты со мной, что не вернусь к нему…
что тут дожди…
МОРН:
И адрес свой послала?
МИДИЯ:
Да, кажется… Просила веер выслать…
там, у себя, забыла…
МОРН:
Ты когда же
отправила?
МИДИЯ:
Недели две тому.
МОРН:
Отлично…
МИДИЯ:
Я пойду… там надо… вещи…
Уходит направо.
Морн один. На террасе, сквозь стеклянную дверь видна неподвижная спина Эдмина.
МОРН:
Отлично… Ганус, получив письмо,
мой долг напомнит мне. Он проберется
из марева столицы сумасшедшей,
из сказки исковерканной, сюда,
на серый юг, в мои глухие будни.
Недолго ждать. Должно быть, он в пути.
Мы встретимся опять, и, протянув
мне пистолет, он, стиснутый и бледный,
потребует, чтоб я себя убил,
и буду я готов, быть может: смерть
созреет в одиночестве…
Мне дивно…
не верится… так резко жизнь меня
покинула. И только бы не думать
о родине, – не то метаться буду
в темнице с тюфяками вместо стен
и с цифрою безумия над дверью…
Не верится… Как жить еще? Эдмин!
Поди сюда! Эдмин, ты слышишь? Руку,
дай руку мне… Мой верный друг, спасибо.
ЭДМИН:
Что мне сказать? Не кровь – холодный стыд
течет по жилам… Чувствую: ты должен
глядеть теперь в глаза мне, как глядят
на те срамные снимки, что за грош
увидеть можно в щелку… Стыдно сердцу…
МОРН:
Нет, ничего… Я только изумлен…
Смерть – изумленье. В жизни иногда
нас так же изумляют: океан,
цвет облака, изгиб судьбы… Как будто
на голове стою. Все вижу так,
как, говорят, младенцы видят: пламя
свечи, концом направленное вниз…
ЭДМИН:
Мой государь, что мне сказать тебе?
За женщину ты царство предал; дружбу
я предаю за женщину – все ту же…
Прости меня. Я только человек,
мой государь…
МОРН:
А я, я – Господин
Морн – вот и все; пустое место, слог
неударяемый в стихе без рифмы.
О, королю никто бы никогда
не изменил… Но – Господину Морну…
Ты уходи. Я понял – это кара.
Я не сержусь. Но уходи. Мне тяжко
с тобою говорить. Одно мгновенье,
и словно в трубке стеклышки цветные
встряхнул, взглянул – и жизнь переменилась..
Прощай. Будь счастлив.
ЭДМИН:
Я вернусь к тебе,
лишь позовешь…
МОРН:
Тебя я встречу только
в раю. Не раньше. Там, в тени оливы,
тебя представлю Бруту. Уходи…
Эдмин уходит.
МОРН:
(один)
Так. Кончено.
Пауза.
Проходит слуга.
МОРН:
Тут надо со стола
убрать. Живей… Заказана коляска?
СЛУГА:
Да, сударь.
МОРН:
Завтра утром чтоб пришел
из города цирюльник – тот, усатый,
неразговорчивый. Все.
Слуга уходит. Пауза. Морн смотрит в окно.
Небо мутно.
В саду дрожат цветы… Чернеет грот
искусственный: по черному струнами
протянут дождь… Теперь одно осталось:
ждать Гануса. Душа почти готова.
Как лоснится сырая зелень… Дождь
играет, точно в старческой дремоте…
А дом проснулся… Суетятся слуги…
Стук сундуков… Вот и она…
Входит Мидия с открытым чемоданом.
Мидия,
ты счастлива?
МИДИЯ:
Да. Отойди. Мне нужно
тут уложить…
МОРН:
Знакомый чемодан:
я нес его однажды на заре.
И снег хрустел. И мы втроем спешили.
МИДИЯ:
Сюда пойдут вот эти вещи – книги,
портреты…
МОРН:
Это хорошо… Мидия,
ты счастлива?
МИДИЯ:
Есть поезд ровно в полдень:
я улечу в чужой чудесный город…
Бумаги бы – пожалуй, разобьется…
А это чье? твое? мое? не помню,
не помню я…
МОРН:
Не надо только плакать,
прошу…
МИДИЯ:
Да, да… ты прав. Прошло… не буду…
Не знала я, что так легко, покорно
меня отпустишь… Я рванула дверь…
Я думала, ты крепко держишь ручку
с той стороны… Рванула что есть сил, —
ты не держал, легко открылась дверь,
и падаю я навзничь… Понимаешь,
я падаю… в глазах темно и зыбко,
и кажется, погибну я, – опоры
не нахожу!..
МОРН:
С тобой Эдмин. Он – счастье…
МИДИЯ:
Я ничего не знаю!.. Только странно:
любили мы – и все ушло куда-то.
Любили мы…
МОРН:
Вот эти две гравюры
твои, не правда ли? И этот пес
фарфоровый.
МИДИЯ:
…Ведь странно!..
МОРН:
Нет, Мидия.
В гармонии нет странного. А жизнь —
громадная гармония. Я понял.
Но, видишь ли, – лепная прихоть фризы
на портике нам иногда мешает
заметить стройность общую… Уйдешь;
забудем мы друг друга; но порою
названье улицы или шарманка,
заплакавшая в сумерках, напомнят
живее и правдивее, чем может
мысль воскресить и слово передать,
то главное, что было между нами,
то главное, чего не знаем мы…
И в этот час душа почует чудом
очарованье мелочи былой,
и мы поймем, что в вечности все вечно —
мысль гения и шуточка соседа,
Тристаново страданье колдовское
и самая летучая любовь{19}…
Простимся же без горечи, Мидия:
когда-нибудь узнаешь, может быть,
причину несказанную моей
глухой тоски, холодного томленья…
МИДИЯ:
Мечтала я вначале, что под смехом
скрываешь тайну… Значит, тайна есть?
МОРН:
Открыть тебе? Поверишь ли?
МИДИЯ:
Поверю.
МОРН:
Так слушай – вот: когда с тобой в столице
мы виделись, я был – как бы сказать? —
волшебником, внушителем… я мысли
разгадывал… предсказывал судьбу,
хрусталь вертя; под пальцами моими
дубовый стол, как палуба, ходил,
и мертвые вздыхали, говорили
через мою гортань, и короли
минувших лет в меня вселялись… Ныне
я дар свой потерял…
МИДИЯ:
И это все?
МОРН:
И это все. Берешь с собою эти
тетради нот? Дай всуну, – нет, не лезут.
А эту книгу? Торопись, Мидия,
до поезда осталось меньше часу…
МИДИЯ:
Так…
Готова я…
МОРН:
Вот твой сундук несут.
Еще. Гроба…
(Пауза.)
Ну что ж, прощай, Мидия,
будь счастлива…
МИДИЯ:
Все кажется мне – что-то
забыла я… Скажи – ты пошутил
насчет столов вертящихся?
МОРН:
Не помню…
не помню… все равно… Прощай. Иди.
Он ждет тебя. Не плачь.
Оба выходят на террасу.
МИДИЯ:
Прости меня…
Любили мы – и все ушло куда-то…
Любили мы – и вот любовь замерзла,
и вот лежит, одно крыло раскинув,
поднявши лапки, – мертвый воробей
на гравии сыром… А мы любили…
летали мы…
МОРН:
Смотри, выходит солнце…
Не оступись – тут скользко, осторожно…
Прощай… прощай… ты помни… помни только
блеск на стволе, дождь, солнце… только это…
Пауза.
Морн на террасе один. Видно, как он медленно поворачивает лицо
слева направо, следя за уезжающей. Затем возвращается в гостиную.
МОРН:
Так. Кончено…
(Вытирает платком голову.)
На волосах остался
летучий дождь…
(Пауза.)
Я полюбил ее
в тот самый миг, когда у поворота
мелькнули шляпа, мокрое крыло
коляски, – и в аллее кипарисной
исчезли… Я теперь один. Конец.
Так, обманув свою судьбину, бесу
корону бросив на потеху, другу
возлюбленную уступив…
(Пауза.)
Как тихо
она по ступеням сходила, ставя
вперед все ту же ногу, – как дитя…
Стой, сердце! Жаркий, жаркий клекот, гул
встает, растет в груди… Нет! Нет! Есть способ:
глядеться в зеркало, чтоб удержать
рыданье, превращающее в жабу
лицо… А! Не могу… В пустынном доме
и с глазу на глаз с ангелом холодным
моей бессонной совести… как жить?
что делать? Боже мой…
(Плачет.)
Так… так… мне легче.
То плакал Морн; король совсем спокоен.
Мне легче… Эти слезы унесли
соринку из-под века – точку боли.
Я Гануса, пожалуй, не дождусь…
Душа растет, душа мужает, – к смерти,
что к празднику, готовится… Но втайне
пускай идут приготовленья. Скоро
настанет день – я Гануса, пожалуй,
и не дождусь, – настанет, и легко
убью себя. А мыслью напряженной
не вызвать смерти; смерть сама придет,
и я нажму курок почти случайно…
Да, легче мне, – быть может, это – солнце,
блестящее сквозь дождь косой… иль нежность —
сестра меньшая смерти – та, немая,
сияющая нежность, что встает,
когда навеки женщина уходит…
А эти ящики она забыла
задвинуть…
(Ходит, прибирает.)
…Книги повалились на бок,
как мысли, если вытянет печаль
и унесет одну из них; о Боге…
Рояль открыт на баркароле: звуки
нарядные она любила… Столик,
что скошенный лужок: тут был портрет
ее родных, еще кого-то, карты,
какая-то шкатулка… Все взяла…
И – словно в песне – мне остались только
вот эти розы{20}: ржавчиною нежной
чуть тронуты их мятые края,
и в длинной вазе прелью, смертью пахнет
вода, как под старинными мостами.
Меня волнует, розы, ваша гниль
медовая… Воды вам надо свежей.
Уходит в дверь направо.
Сцена некоторое время пуста. Затем – быстрый, бледный, в лохмотьях – с террасы входит Ганус.
ГАНУС:
Морн… Морн… где Морн?.. Тропою каменистой,
между кустов… Какой-то сад… и вот —
я у него в гостиной… Это сон,
но до того как я проснусь… Здесь тихо…
Неужто он ушел? На что решиться?
Ждать? Боже, Боже, Боже, ты позволь мне
с ним встретиться наедине!.. Прицелюсь
и выстрелю… И кончено!.. Кто это?..
Ах, только отраженье оборванца…
Я зеркалов боюсь… Что делать дальше?
Рука дрожит, напрасно я вина
там выпил, в той таверне, под горою…
И шум в ушах… А может быть? Да, точно!
Шуршат шаги… Теперь скорей… Куда бы…
И прячется слева за угол шкафа, выхватив пистолет. Возвращается Морн. Возится с цветами у стола, спиной к Ганусу. Ганус, подавшись вперед, дрожащей рукой целится.
МОРН:
О, бедные… дышите, пламенейте…
Вы на любовь похожи. Для сравнений
вы созданы; недаром с первых дней
вселенной в ваших лепестках сквозила
кровь Аполлона{21}… Муравей… Смешной:
бежит, как человек среди пожара…
Ганус целится.
Занавес








