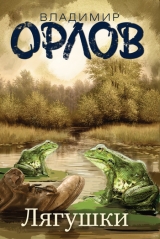
Текст книги "Лягушки"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
20
Какая из себя Древеснова, Ковригин узнал в первых эпизодах спектакля.
Все – и в партере, и на балконе, оживились, будто при выходе на здешний паркет Майи Михайловны Плисецкой, шеи повытягивали, зашумели, кто шёпотом, кто в полный голос выразили радость:
– Древеснова! Древеснова! Древеснова!
– Ваша прима? – спросил Ковригин у соседей.
– Вовсе нет, – прозвучало в ответ. – До нынешнего дня никто о ней и не слышал. Дебют. Из программок узнали. Экстренно ввели. В этом весь фокус. Хотя и неизвестно какой.
Тотчас же было что-то доверительно добавлено шёпотом. В шёпот Ковригин не вслушался. О чем потом пожалел.
А начинался эпизод с Ксенией Годуновой.
В Москве после коронации "назвавшийся Дмитрием", теперь уже царь, по его же установлению – Император, Дмитрий Иванович полгода проживал холостяком. Занимался делами, много чего интересного наобещал и затеял, при нём в Москве всё подешевело, устраивал военные маневры с потехами и боевыми упражнениями, сам получал от них удовольствие, обедал под музыку и был "падок до женщин", пошли слухи, будто Дмитрий держит при себе Ксению Годунову, в монашестве – Ольгу. Слухи эти встревожили Юрия Мнишека, нам же они дают повод предположить, что никакими ведьминскими чарами Марины Самозванец не был околдован, в подкаблучниках не ходил и по её подсказкам не действовал. Так вот П. Древеснова получила роль дочери царя Бориса, роль – на минуту, но с двумя фразами. Она в монашеском, естественно, одеянии страдала, пела печально, окружённая плакальщицами-баскетболистками (костюмы поселянок из "Ивана Сусанина") и отбивалась от эротических претензий Самозванца (тут случился чуть ли не стриптиз, и белье страдалицы многих удивило, Ковригину же показалось, что тело Древесновой и пластика её движений ему знакомы). По ходу спектакля выяснилось, что П. Древеснова введена не в четыре эпизода, как обещал Белозёров, а и в иные сцены. Она то и дело возникала среди фрейлин Марины, погуливала в Тушинском лагере и даже оказалась в Калуге женой коварного ногайца Урусова, разрубившего позже на охоте Тушинского вора.
Саму Марину играла Хмелева. Ярославцевой ("тоже кадр Эсмеральдыча") же отдали роль Барбары (Варвары, Варьки) Казановской. Казановскую Ковригин придумал. То есть была реальная Барбара Казановская, гофмейстерина, она с Мариной прибыла в Москву, с ней же прошла дорогу мытарств до Астрахани. Но в бумагах Барбару-Варвару называли "старой женщиной", а Ковригин омолодил её и произвел в ровесницы Марины. И по прихоти юного, а потому и наглого драматурга, озабоченного, между прочим, и сюжетными ходами, стала Казановская подругой и соперницей Марины. Уже после первых эпизодов спектакля опасения Ковригина насчет дилентантизма здешних звёзд ("небось, из самодеятельности") исчезли. И Хмелёва, и Ярославцева были хороши. Поначалу в ухе Ковригина будто бы поселился чистильщик обуви Эсмеральдыч и стал подзуживать: "А кто лучше-то? На кого ставить-то будешь, проезжий из Сыктывкара в Оренбург, а потом и в Аягуз? А?" Но вскоре подзуживания притихли. Эсмеральдыча в театр не допустили. Не достал билета. Хмелева оказалась тоненькой (опять же примем во внимание свойства бинокля), истинно подростком, могла бы прожить и заскучать на песочницах травести до ролей старушек, но для травести она была слишком высока. В день убиения Гришки Отрепьева погромы поляков продолжились, естественно, следовало растерзать и его жену. Толпа мужиков (среди них были и приглашенные в спектакль мясники городского рынка, а возможно, и торговцы зеленью оттуда же) бросилась в покои царицы. Марине повезло. Полячки, барышни и дамы, из её окружения (группа поддержки баскетболистов и с ними Древеснова), успевшие лишь, и то не все, натянуть юбки на ночные рубашки, простоволосые, без макияжа, то есть без румян и белил, без украшений, были для победивших заговорщиков "все как на одно лицо". Но формы их тел не могли не вызвать практического интереса. Погромщики от души поворовали, но убивать полячек не стали, а занялись плотскими удовольствиями. С силовыми, правда, принуждениями. Марину от бесчестья спасла юбка Казановской. В жизни Марина Мнишек была маленькой, в прощальный день своего московского Веселия спряталась под юбку гофмейстерины, там и отсиделась. И Ярославцева-Казановская виделась женщиной рослой, но Хмелёва, хоть и тоненькая, спрятаться под её юбкой никак не смогла бы. И началась сцена из мюзикла с прятками, ритмическими движениями, чуть ли не танцами, хорами (не все в массовке были с рынка, но и торгаши не мешали), сцена, не предусмотренная ни историей, ни Ковригиным. Но и она криков протеста Ковригина не вызвала. Его к тому времени увлекли и Хмелёва, и Ярославцева. И волновали Ковригина их голоса. В особенности голос Хмелёвой, как будто бы облику её несвойственный. Впрочем, редкостью такие несоответствия не были. Ковригин знал актрису в возрасте, на неё, сморщенную коротышку, на сцене и в жизни смотреть было противно. Однако её исправно приглашали озвучивать молодых сексапильных обольстительниц, порой и в эротических киносюжетах "Плейбоя". Люди, не видавшие её, могли посчитать, что она и есть секс-бомба и женщина-вамп. Тоненькая и будто хрупкая Хмелёва, казалось, должна была бы звенеть хрусталём, но нет, если бы она пела, смогла бы исполнять роли в операх Верди и Вагнера, побыла бы и Пиковой дамой у Чайковского. Что значит – если бы она пела! Она и пела. По дороге в Тушино, сначала радостно – в надежде на встречу с ожившим царем Дмитрием, потом, узнав о его подмене, – печально, со слезами горючими, с бабьим причитанием даже. Пела и ещё. И одна, и с окружением, дамским, и казацким. Случаются совпадения и несовпадения запахов и звуков, решающие в отношениях и животных, и людей. Звуки голоса Хмелёвой никак не раздражали Ковригина, даже когда Марина Мнишек, особенно в калужских сценах, вздорно вскрикивала, проявляя себя капризной бабой. "Хоть уши затыкай! – думал Ковригин, ощущение непредвиденной опасности тормошило его. – Этак и в плен попадешь! Не хватало ещё!.." Тембр и диапазон интонаций позволяли Хмелёвой (Е., значилась она в программке, Елена, что ли, или Евгения, не Евлампия же, да хоть бы и Евлампия, но лучше бы всё же – Елена) проявлять разнообразие свойств героини. Вот после погрома Марина мечется поникшая, дрожащая, и голос у неё дрожит, стонет, косуля подраненная. А в следующем эпизоде (погромщики боярами утихомирены) человек от бояр требует у Марины её драгоценности. Марина уже не косуля, вдова, умеющая себя держать, царица, прямая, дерзкая, говорит резко, не говорит – молвит:
– Вот мои ожерелья, жемчуг, цепи, браслеты, оставьте мне только ночное платье, в чём бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проела у вас с моими людьми.
– Мы за проесть ничего не берем, – услышала в ответ.
Вслед за Мариной были отправлены к её отцу пустые сундуки. Боярский юмор…
Было сказано выше: для Ковригина оживала ЕГО Марина Мнишек. Так казалось ему в начале спектакля. Но очень скоро Марина и гофмейстерина Казановская (то есть Хмелёва и Ярославцева), как и некоторые иные персонажи, из мужчин, стали существовать на сцене сами по себе, независимо от текста Ковригина и его представлений о своих героях и независимо от соответствия исторической обязательности. Они раздвинули стенки клеток текста и сюжета и вышагнули в свободы проявления своих натур. Ковригин смотрел на них уже не только с волнением, но и с удивлением открывателя, будто бы не ведающего, что случится дальше.
Знал, знал, конечно, какой и как прибудет Марина в Калугу на встречу с будущим отцом её дитяти, её царевича, а словно бы стал свидетелем неожиданного для себя события. Понятно, синежтурский театр – не Большой, Московский, и тем более не Центральный Армейский, в какой и субмарина может приплыть, здесь лошадь по сцене к калужским воротам не проскачет. А потому после цокота копыт, произведенного умельцами звука, "хороший, быстрый конь" был оставлен где-то за пределами видимости, а всадница, Хмелёва-Мнишек, валькирией, вызвав аплодисменты зрителей, ворвалась на сцену в гусарском костюме из красного бархата, в сапогах со шпорами, с саблей в украшенных камнями ножнах у левого бедра, с мушкетом или пистолем в руке (бинокль не помог разглядеть), разгоряченная, страстная, принялась раскачивать створки ворот одной из башен, те аж затрещали, требовала пропустить к царю Дмитрию Ивановичу: "Я его коморник!". Какой уж тут тоненький, хрупкий подросток первых сцен. Женщина во всей её яри и красоте! Открытые светлорусые волосы её (в реалии Марина была брюнеткой) раздувал ветер, видно, за башней был упрятан ветродуй. "Темперамент-то какой! – восхитился Ковригин. – Могла ведь и полки повести за собой! Но не водила… Лишь в Дмитрове подымала с колен оборонявшихся… В том же гусарском костюме…" Впрочем, о чьём темпераменте размышлял теперь Ковригин – Хмелёвой или Марины Мнишек? Имело ли это значение? Выходит, имело…
Помнил Ковригин и тексты писем Марины, вставленных им в пьесу. И сейчас они в сценах Хмелёвой-Мнишек удивили и взволновали его. А, в частности, сохранились письма Марины к отцу, к королю Сигизмунду III, к гетману Сапеге. Написаны они были в тяжкие для Марины дни. По общению с отцом она скучала, так, видимо, и не поняв, что он ею торговал, ждала его приезда или хотя бы его советов. При этом посчитала нужным вставить в одно из писем вполне объяснимую просьбу модницы прислать ей из Польши отрез чёрного бархата для поновления нарядов. А так письма её были печальными, с выплесками тоски и дурных предчувствий, с мольбами надежд: "Слезно и умилённо прошу вас, если я когда-нибудь по неосторожности, по глупости, по молодости или по горячности оскорбила вас, простите меня и пошлите дочери вашей благословение". Но не получила Марина ни ответных писем отца, ни бархата на платье. Выгод и добыч Юрий Мнишек от дочери уже не ждал… В письмах же к королю Сигизмунду слёзно-умиленных слов не было. Были слова государственные, пусть и с жалобами на судьбу ("ввергнула меня в неволю, на самом деле ещё злополучнейшую, и теперь привела мня в такое положение, в котором я не могу жить спокойно, сообразно своему сану…"). Это были обращения равной к равному. И при написании писем (прочтении, проживания их) свет выхватывал из тьмы сцены и тьмы жизни Хмелёву-Мнишек в белом атласном платье, осыпанном драгоценными каменьями, – в нём невестой она прибыла в Москву. Горько, надрывно звучали слова послания, оставленного Мариной в шатре Тушинского лагеря (отец сбежал): "Без родителей, без кровных, без друзей и покровителей мне остаётся спасать себя от последней беды… Меня держат как пленницу. Негодяи ругаются над моей честью, в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутным женщинам… Гонимая отовсюду, свидетельствуюсь Богом, что буду вечно стоять за мою честь и достоинство…". А дальше – красный гусарский костюм, быстрый, хороший конь, сабля на левом бедре, снег, ветер в лицо, взлёт белокурых волос валькирии, крепостные ворота Калуги…
"А ведь режиссёр влюблён в неё, в Хмелёву то есть, – подумал Ковригин. – И, наверное, не один режиссёр. Иначе откуда деньги на спектакль? А тебе-то что? Мне-то ничего… Мне-то возвращаться в Москву…".
Он-то вернётся в Москву, а они-то – Хмелёва, Ярославцева, Марина Мнишек, её деловой папаша, гофмейстерина Барбара (Варька) Казановская, посол-жених Афанасий Власьев, Вор тушинский, шалый казак Заруцкий останутся в Синежтуре, в субстанции и энергетике театра, какие реальнее жизни, продолжат магию своих судеб, а он останется для них никем. Оно и по справедливости. Он не демиург, хотя и ковырял некогда какие-то словечки на бумаге, нынче произнесенные. Хмелева, Ярославцева и два-три их коллеги – творцы и хозяева самих себя, судеб и осуществлённых ими людей. Были когда-то белые листочки с замерзшими в них на века чувствами дочери сандомирского воеводы и неудавшейся московской царицы, а вышло так, что они были написаны, зазвучали только что и обожгли души сегодняшних обитателей Земли, хотя бы нескольких из них. "Пафос-то! Пафос-то какой, – поиздевался над собой Ковригин. – Этак самое время слёзы из себя выпустить…"
Издевайся не издевайся, а он, Ковригин, был в этом зале совершенно ни при чём.
А уже нищенки в отрепьях или мрачно-серые хлопья московской вьюги (П. Древеснова среди них) отсуетились вокруг дубовой колоды и пропали во мраке. Была видна лишь одна колода, жердь над ней, и на жерди – жалкая мокрая кукла, голова на бок. Световой поток направили на башню, кривовато вздыбленную над колодой. В оконном проеме второго яруса башни стала видна женщина, стоявшая неподвижно, скрестив руки на груди. На женщине был красный гусарский костюм, густые волосы её виделись примято-седыми. Так она стояла минуты две. Потом склонила голову.
И свет погас. Умерла "с тоски по своей воле" (Н. М. Костомаров).
Минут пятнадцать выпали из памяти Ковригина. Не совсем, конечно, выпали. Что-то позже вспоминалось. Вокруг шумели, хлопали в ладоши. На сцене люди выходили на поклоны. А Ковригин не мог встать. Сидел мешком прибитый. Если бы мешком. Не мог выйти из обстоятельств жизни, внутри какой он находился (очарованный странник) и на какую ему дозволено было взглядывать со стороны. Лишь когда на сцену, опять же на поклоны, а уже стояли рядом с Мнишками и самозванцами люди в костюмах китайского пошива (режиссер, надо понимать, и его команда), вывели нового и существенно-важного человека, Ковригин вернулся соображениями в синежтурскую действительность.
"Ба! Да это же Юлька Блинов!" – дошло до него.
То есть бывший Юлька Блинов, задрипанный пермяк неудачник. Этого вальяжного господина Юлькой назвать было никак нельзя. Размордевший, сытый, в бороде Тургенева (но не седой), волосы на затылке собраны в пучок. Свободный художник. Маэстро. И барин. Заездом из Ривьер, где творил под пальмами на своей вилле. Ублажил посещением жителей Среднего Синежтура. Сразу же оказался в центре, в солнечном сплетении вышедших на поклоны. И ему несли цветы. А надо было бы украсить чело художника лавровым венком. Руки вскинул, приветствуя народ, а потом и возложил их на плечи стоявших рядом. Правая длань его с взблеснувшими перстнями покровительственно возлежала теперь на красном бархате гусарского костюма, и это Ковригину было неприятно. А женщина в красном костюме, будто бы забыв о своих невзгодах, улыбалась творцу и даже опустилась перед ним на колено, выразив почтение.
"Впрочем, мне-то что, – подумал Ковригин. – Пойду-ка я сейчас в ресторан "Лягушки" к тритонолягушу Костику и к гарсону-консультанту Гарику Саркисяну, или Дантону, напьюсь там, а завтра – тю-тю! – и в Москву! И останется Синежтур лишь в моих снах. Хотя что мне в Москве-то делать?"
Однако никак не мог подняться с места. Переваривал увиденное. Пожалуй, одним из последних ушёл с балкона. Публика стояла в очередях у буфетов. Возмещала удовольствия отменённых антрактов. Из дупл башенно-буфетных курантов не выскакивали неведомы зверюшки и не торопили оголодавших и жаждущих.
"Нет, сейчас же и в "Лягушки"! – подавил в себе искушение Ковригин. И сразу же понял, кого напомнила ему дебютантка Древеснова П. П. – милашку из шахматного отсека "Лягушек", и именно ту, что увела господина в чалме к проему в стене "Болото № 18"! Вот кого она напомнила! И ещё что-то было связано с этой Древесновой, но что – Ковригин запамятовал… Тут же в его соображения въехал на коне король Сигизмунд III. "Конный" портрет его написал Рубенс! Где и при каких обстоятельствах? Забавно, забавно! Верёвочка протянулась – Рубенс-Сигизмунд-Марина Мнишек-Синежтур… И вдруг до Ковригина дошло: он совершенно забыл про своё эссе о Рубенсе, и его вроде бы никак не волнует судьба публикации… Может, и впрямь он не закончил эссе, а всё это игры расчудесной Лоренцы Козимовны Шинэль (или как там её?)… Впрочем, не все ли равно? Он сегодня в ином мире и в ином веке…
– Александр Андреевич! – окликнули его (а Ковригин уже направился к выходу из театра). – Куда это вы путь держите?
– В "Лягушки", – сказал Ковригин.
А окликнули его Николай Макарович Белозёров и приближённые к нему сударыни.
– У вас такой успех! – удивилась синересничная Долли. – А вы в какие-то "Лягушки"!
– Это не мой успех. Это других успех, – сказал Ковригин. – А в "Лягушках" я тихо посижу в раздумьях и отойду от сегодняшней неожиданности.
– Сейчас же будет фуршет, – объявила Долли. – Обсуждение и фуршет.
– Меня не приглашали. И по справедливости, – сказал Ковригин. – Я здесь никто. Я здесь случайное совпадение.
– Я вас приглашаю, – сказала Вера. – Имею некоторое отношение к спектаклю…
– Не галдите! Повремените! – недовольно воскликнул Белозёров. – Будут вам фуршеты, будут вам лангеты! А пока не мешайте Александру Андреевичу исполнить его намерение!
– Какое такое намерение? – удивился Ковригин.
– Ну, как же, Александр Андреевич! Экий вы легкомысленный! – покачал головой Белозёров. – У вас жетон в кармане оплаченный. Вы собирались ставки делать.
– Ах, ну да… – вспомнил Ковригин. Вот что он запамятовал-то про Древеснову. Ставки какие-то… Сказал: – Но ко мне, было обещано, должны подойти сведущие люди…
– Считайте, что я один из сведущих людей, – сказал Белозёров. – А времени в обрез. Уже и японцы, и китайцы, и нефтяные шейхи сделали ставки. А вы всё в мечтаниях. Сейчас я вас отведу. А дамы наши шаловливые потерпят.
Но не суждено было Николаю Макаровичу отвести Ковригина к месту применения оплаченных жетонов. Налетели на их компанию два озабоченных мужика из племени средних администраторов. Пропали, пропали, выкрикивали они в отчаянии, утром ещё в театре были, а перед спектаклем исчезли. Директор взбешён, режиссёр взбешён, спонсор мрачно молчит, но всем известно, что значит его молчание. "Все пропали?" – спросил Белозёров. Все! Все медные духовые инструменты. Деревянные духовые остались, а медные пропали! И трубы, и тромбоны, и горны, и саксофоны. Все! "Вот отчего не случилось сверкания меди!" – сообразил Ковригин… А администраторы обсуждали нервно, кто их спрятал или унес? И где их теперь искать?
– Ищите на пунктах приёма цветных металлов, – сказал Ковригин.
– Вы что-то знаете? – залпом спросили озабоченные.
– Я знаю обстоятельства московской жизни, – сказал Ковригин, – чем в Синежтуре она хуже? Или лучше?
Он чуть было не высказался по поводу дежурного пожарного Вылегжанина, но удержался (вздорная догадка!), никаких оснований подозревать в чем-либо Вылегжанина у него не было. Да и ведь явно гордился пожарник сверканием меди в спектакле "Польское мясо". И какой резон был ему оставлять город без сверкания, тем более в день просмотра достижений театра уполномоченными комиссиями?
– Вот что, девушки! – распорядился Белозёров. – Быстро, бегом, отведите Александра Андреевича куда следует. Сами там особо не светитесь. А мне придётся разбираться с пропажей.
И повели Ковригина куда следует. Недалеко повели. До гардероба. Там сдали его людям более сведущим. Те препроводили Ковригина в помещение за вешалками. Выходило, что Ковригин оказался одним из последних (возможно, и последним), кто не использовал оплаченный жетон. На него поглядывали не то чтобы с неудовольствием, но во всяком случае – с недоумением. Впрочем, недоумение это не было высказано. Ковригин предъявил билет и паспорт, сообщил номер мобильного телефон (того самого, что был упрятан им под камнями на береговом откосе у платформы "Речник") и поинтересовался, где и как следует оставить отпечатки пальцев.
– Они у нас уже имеются, – успокоили Ковригина. – Распишитесь в ведомости. И проходите в ставочный зал. Тайна вашего выбора гарантируется. Камер наблюдения в зале нет.
Дверь к ставкам за Ковригиным замкнули. И любопытствующая муха не имела возможности взглянуть на движения его рук. Никакой это был не зал, а словно бы коридор. Или пенал. С будто бы подсвеченными картинками игровых автоматов. Но подсвечивались лица объектов игры (а может, и не игры?). Свет дергался, пропадал, вспыхивал, в пестроте цветовых пятен Ковригин толком не мог понять, какие лица именно перед ним. Ему стало не по себе. "А пошла бы вся чушь! Не всё ли равно!" – подумал Ковригин, закрыл глаза и пропихнул жетон в одно из нащупанных им отверстий.
– Всё! – объявил он в микрофон бронированной двери. – Ставка сделана!
И был выпущен.
"А теперь в "Лягушки"! – постановил Ковригин. – И немедленно!"
Но был остановлен при выходе из театра деликатной рукой сударыни Веры.
– Александр Андреевич, – сказала Вера, – а я ведь пригласила вас на обсуждение и фуршет…
– Что мне там делать? – грубо сказал Ковригин. И тут же почувствовал, что слова его обидели женщину.
– Просто побыть моим кавалером, – кротко вымолвила Вера.
– Хорошо, – кивнул Ковригин. – Вы, кажется, сказали, что имеете к спектаклю отношение…
– Мои афиши на тумбах…
– Они мне понравились! – искренне заявил Ковригин. – Значит, вы – В. Антонова?
– Да. Антонова Вера Алексеевна. Если вам неловко называть меня Верой. Афиши мои. И два костюма со старых вешалок я перешила. Но это как бы подпольно. Не для афиши. А для приятных мне актрис.
– И этот, Маринин, красного бархата, гусарский? – вопросительно предположил Ковригин.
– С этим-то мне особенно интересно было повозиться, – сказала Антонова.
– Замечательная работа!
– И девушка замечательная! – обрадовалась Антонова. – Хотите, я вас с ней сейчас познакомлю?
– Замечательная девушка! – подтвердила Долли, заточившая себя на срок в молчании или будто бы посчитавшая себя несущественной в разговоре, для неё, впрочем, занимательном. – Замечательная! С придурью, конечно, и с капризами. Но и со здравыми расчетами. Так что не обольщайтесь.
А Ковригин стоял в смущении. Предложение познакомить его с Хмелёвой вызвало в нём тревогу и ощутимый протест. Протест можно было объяснить тем, что в подобных случаях ни в каких вспомогателях он не нуждался. Если возникала потребность познакомиться с женщиной, он знакомился с ней без посредников. А тут будто заробел, и, почувствовав это, доброжелательница Вера взялась оказать ему услугу. Тревога же возникла от того, что Ковригин понял: знакомство с Хмелёвой, хотя бы ради того, чтобы высказать ей слова одобрения, к хорошему не приведёт. Он знал театральный мир. И посчитал ("нутром осознал"), что в случае с исполнительницей роли Марины Мнишек ему следует находиться на расстоянии от неё – ну вроде как от "уголочка" на балконе до сцены с МЯСНИЦКОЙколодой.
– А почему вам не предложили быть сценографом или художником по костюмам? – спросил Ковригин в намерении увести разговор подальше от девушки в гусарском костюме. – Стилистика ваших афиш близка к режиссёрскому решению…
– Ба! Ба! Ба! – снова обрадовалась синересничная Долли. – Да вы не знаете, какие у нас тут интриги и преференции.
– Александр Андреевич, – сказала Вера, – я всё же приглашаю вас на обсуждение и фуршет. Там уже собрались актёры, декораторы, монтировщики, любители театра из преданных, ещё кое-кто. Но не избранные. Избранные через час-полтора отправятся во владение просвещённого спонсора Острецова…
– На фуршете могут оказаться какие-нибудь мои московские знакомцы, а я сегодня их видеть не хочу… – продолжал упрямиться Ковригин.
– Мы встанем за столиком у стены, вы – спиной к звёздам и заезжим судьям, они вас не заметят. А, Александр Андреевич? Сделайте одолжение. А то ведь мы с Верой годы будем жалеть, что пропустили городское развлечение и в пересудах участвовать не сможем. А без них в Синежтуре – скука и байронический сплин!
– И неужели вам, Александр Андреевич, неинтересно знать, как будут чествовать сейчас благодетеля и творца Юлия Валентиновича Блинова и какие прибаутки он расскажет публике о пропавшем авторе пьесы "Веселие царицы Московской"? – сказала Вера.
Ковригин сразу же вспомнил, как по-барски правая длань Блинова со сверкающими перстнями возлегла на красный бархат гусарского костюма и как растроганная барышня разулыбалась маэстро и в почтении (или восторге?) опустилась перед ним на колено.
"Далась мне эта актёрка в красном бархате!" – осердился на себя Ковригин.
– Хорошо, – сказал Ковригин. – Но ненадолго…








