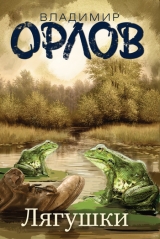
Текст книги "Лягушки"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
21
Фуршете говорильней происходили в танцевальном зале.
По средам и пятницам здесь в перекрестьях пляшущих огней шумела дискотека, впрочем, более благопристойная, как объяснили Ковригину, нежели на окраинных увеселительных площадках. Во всяком случае, без наркоты и пьяни. И диджеев держали хотя бы полуобразованных. В отошедшие же времена, когда процветал Дворец культуры Обозостроителей и самодеятельность не попёрла ещё в звёздные хари шоу-бизнеса, зал был репетиционным. Тут занимались, ублажая нерастраченные потребности артистических натур, любители бальных и спортивных танцев из пролетариев и конторщиков, фольклорные ансамбли и даже нимфы классического балета. О чём напоминали поднебесный мозаичный плафон, будто из московского метрополитена, с тремя фигурками мелких лебедей, и гипсовые горельефы на стенах, в их овалах – белые балерины в разнообразных позах, иные и взлетевшие на телеги или прицепы, видимо, местного производства. Впрочем, некоторые телеги и прицепы были без балерин, но имели башни с орудиями и пулемётами.
Теперь же и балеринам негде было предъявить свои умения, не говоря уже об ансамблях народных плясок. До того тесно было в зале с фуршетными столиками. Официанты передвигались между ними бочком. В одном из них Ковригин тотчас признал гарсона-консультанта зала имени Тортиллы Дантона-Гарика Саркисяна, тот же, будто бы увидел Ковригина впервые, был высокомерно важен и вновь вызвал у Ковригина мысли о свежем французском президенте. "Неужели и здесь тритонолягуш Костик надзирает над шелестящим действом?" – явилась мысль.
– Сколько же тут наглецов и самозванцев! – возмутилась Долли. – Треть, наверное, проползла без приглашений! Вы ещё не знаете наш Синежтур!
– Я знаю Москву, – сказал Ковригин, – там халявщиков и пройдох было бы в пять раз больше.
Барышни привели Ковригина к задним столикам.
– От кого же щедроты-то? – спросил Ковригин. – Чья казна изнурена нынче? Всё того же спонсора?
– Не обязательно, – сказала Антонова. – В городе деньги есть. И серьёзные.
– Я это понял, – кивнул Ковригин.
– А потому и градоначальник здесь. У спонсора же будут сегодня большие потраты в Журинском замке. Так говорят. Но нас туда не позовут.
– И слава Богу! – сказал Ковригин. – А где же наш Николай Макарович?
– Ищет медь! – рассмеялась Долли. – Трубач выдувает медь! И градоначальник, видно, озабочен, отчего медь не сверкала. Но сейчас с удовольствием подает великой Свиридовой кусок осетрины.
Ковригин обернулся. Великая Свиридова пребывала за столом, судьбы раздающим, рядом с крупным мужиком, похожим и на партийного хозяйственника поры сусловского миростояния, и на авторитета в законе, принимала из его рук блюдо с опасным для её форм куском рыбы осетровой породы, была приветлива, но строга. Сотоварищи её по чёсу были разбавлены местной знатью, вели со стопками в руках душевные разговоры, из них ближе всех протиснулся к градоначальнику Головачёв, ему сейчас явно не хватало костюма маршала Рокоссовского (для Жукова он был худ) или фельдмаршала Кейтеля, тогда он и Свиридову смог бы оттеснить от блюда с рыбой. Стало понятно, и это – к сожалению для Долли и Веры, что, пока они уламывали Ковригина, оценочные слова были уже произнесены и фуршетное действо перетекло в благодушие событийного застолья. Но коли – в благодушие, можно было предположить, что и оценочные слова (из уст столичных арбитров!) прозвучали приятные.
Впрочем, музыка этих слов в городе с большими деньгами могла быть и проплачена… Это, если бы Ковригин ощущал себя причастным к синежтурскому спектаклю, его бы, наверное, покоробило. Но он повелел себе быть сегодня исключительно зрителем. А теперь любопытствующим, но и хладнокровным созерцателем.
– Александр Андреевич, – спросила Долли, и васильки её глаз стали любезно-луковыми, – а можно называть вас Сашей?
– Конечно, милая Долли! – проявил любезность и Ковригин.
– Так вот, Сашенька, – сказала Долли, – не откроете ли вы нам, двум Варварам несносным, пока Николай Макарович выдувает медь…
– Выдувает медь! – поморщился Ковригин. – Слова-то какие несуразные!
– Извините, Сашенька, извините! – вскинула руки Доли, будто в намерении сдаться. – Но ведь так поют… Не откроете ли вы нам секрет, на кого вы поставили?..
– А я и сам не знаю на кого, – сказал Ковригин. – Зажмурился от световых пятен и опустил жетон неизвестно куда…
– Позвольте вам не поверить, – Долли вздохнула печально, словно бы Ковригин своим ответом поставил под сомнение ценности её натуры.
– Кстати, – сказал Ковригин, – что за ставки эти дурацкие и в чём их смысл? И отчего в них участвовали японцы, китайцы, малайцы и прочие обитатели тихоокеанских побережий? Их, вообще, немало и здесь за столами…
– А вот вы, Сашенька, не готовы открыть нам свои безобидные секреты, – Долли попыталась повести себя коварной интриганкой, впрочем, пока ещё доброжелательной к Ковригину, – а потому и мы про секреты Синежтура умолчим.
– Долли шутит, – сказала Вера, – и нам, Александр Андреевич, неизвестно, зачем были сделаны эти ставки и в чём их смысл. А китайцы и малайцы проявляют интерес к изделиям наших обозостроителей…
– Да не верю я, что Сашенька не помнит, на кого поставил! – воскликнула Долли. – Не на Древеснову же! Он ведь то и дело взглядывает на нашу Леночку Хмелеву. Я к мужским интересам девушка чувствительная!
Ковригин чуть было не произнёс резкие слова, потом пожелал по-светски отшутиться, но и к шуткам оказался сейчас неспособным. Наблюдательная Долли была права. Он снова взглянул на бенефисный стол и именно на исполнительницу роли Марины Мнишек. Она одна явилась в танцзал в театральном костюме – гусарском, красного бархата, то ли не выбралась ещё из семнадцатого века, то ли ощущала себя среди обыденных людей надмирной валькирией, то ли просто понимала, что костюм ей к лицу и телу и пусть все это видят. А кавалеров вблизи неё суетилось с десяток. Среди них, естественно, угодником и героем дня преуспевал с улыбками широкого формата сам Юлий Валентинович Блинов, истинный художник и барин. "Ба, да там же и Попихин, и Холодное, и даже Шестовский! – сообразил Ковригин. Эти трое были московские знакомцы Ковригина. Попихин и Холоднов – театральные критики. А Шестовский – кинорежиссёр, этот-то с чего бы оказался в Среднем Синежтуре?
– Вот видишь, Верочка! – торжественно заявила Долли. – Сашеньке полагалось бы ухаживать за нами с тобой. А он то и дело глазищами зырк-зырк и на Хмелёву!
– Не он первый, – сказала Вера.
– Кроме Хмелёвой, – сказал Ковригин, – стоят там и несколько моих знакомых, вести разговоры с кем нет у меня сейчас никакого желания. А Хмелёва сегодня меня удивила. Я и предположить не мог, что Марину Мнишек можно так сыграть. А делать ставку на неё я бы не стал. Она – не лошадь.
– Скакунья! – рассмеялась Долли. – Да ещё и с норовом!
Вера её смех не поддержала.
"Что-то совсем недавно было связано у меня с лошадьми, с каким-то конкуром… – подумал Ковригин. Но вспомнить не смог, с каким конкуром, с какими лошадьми… И почему – совсем недавно? Скорее, когда-то давно…"
И не нравилось ему, что вокруг Хмелёвой суетился Юлий Валентинович Блинов, не нравилось. Да и Попихин с Шестовским были известные в Москве ходоки.
– А давайте, Александр Андреевич, – предложила Вера, – выпьем за ваш сегодняшний успех.
– Давайте, – сказал Ковригин. – Только за удачу театра. Никакого моего успеха я не наблюдал.
– Ах, ах, ах, Сашенька, какой вы кокет, – покачала головой Долли. (А Ковригин почувствовал, что она встревожена. Не долгим ли отсутствием дознавателя по делу о пропаже сверкающей меди?) Долли сказала: – Да что было делать в спектакле без вашего текста этой гусарыне Хмелёвой?
Прозвучало как – этой "гусыне" Хмелёвой.
– Не одна лишь Хмелёва меня удивила, – сказал Ковригин. – Но и другие. И режиссёр, и Ярославцева, и Коляев, тот, что играл Заруцкого. И ещё… все фамилии не запомнил…
– Вас не покоробило Польское мясо? – спросила Вера.
– Я люблю Вахтангова, – сказал Ковригин. – И его "Турандот". Но если горожан позабавило лишь Польское мясо, то я тем более не имею отношения к успеху спектакля.
– Кокет, кокет! – снова обрадовалась Долли.
– Тише! – сказала Вера. – Градоначальник взял микрофон.
Градоначальник Михеев отвлёкся от любезностей с Натали Свиридовой, отчего-то пощелкал по микрофону и даже подул в него, будто, как в старые времена, был намерен сделать заявление на митинге и проверял, не испортили ли технику партийные враги, потом сказал:
– Наш город больше известен своими металлическими изделиями, словно бы бездушными и безжалостными. А зря. Нынче он снова, слава Богу (Михеев перекрестился), предъявил свету высокую духовность. Поздравляю всех с замечательным событием!
– Предлагаю Марину Юрьевну Мнишек, – тенорово выкрикнул некто от ближних к оратору столов, – объявить почётным гражданином Среднего Синежтура (посмертно) со всеми полагающимися благами и правами!
– Предложение неожиданное, – мягко и с пониманием чаяний избирателей улыбнулся городской Голова (именно так он значился в документах), – но мы его рассмотрим. Передайте обоснованные бумаги в законодательное собрание Синежтура. А теперь вернёмся к сегодняшнему событию. Всем, кто доставил радость городу, области и столичным гостям, будут вручены посильные бонусы. Заслужили! И вам, уважаемый Василий Наумович (поклон невысокому, с бородкой, явно взволнованному – руки дрожали – режиссёру Жемякину), и вам, любимые наши актёры, и, конечно, блистательному Юлию Валентиновичу Блинову, без которого не было бы нынешнего праздника! Именно он предоставил театру Верещагина право первой постановки пьесы!
– Виват! Виват! – вскричали за ближними к городскому Голове столами. – Виват!
И звоны хрусталя, стекла, а также металлических сосудов поддержали присуждение бонусов.
При криках "Виват!", заметил Ковригин, режиссёр Жемякин чуть ли не за спины соседей пожелал спрятаться, застеснялся. Зато блистательный Юлий Валентинович руки победно вскинул и был, похоже, готов лапищами своими медвежьими подхватить актрису Хмелёву и в небо её подбросить – вот, мол, главный мой или общий наш с вами бонус. Но не подбросил, рюмку поднял с белой жидкостью:
– Я с удовольствием приму бонус городской администрации. Но и с печалью. Конечно, многое в тексте произведено мною, но линии-то пьесы намечены моим другом и однокашником Сашей Ковригиным. Будь он теперь здесь, я непременно переадресовал бы ему и бонус, и ваши восторженные слова. Но, увы, его с нами нет. И всё же я предлагаю выпить сейчас за Александра Андреевича Ковригина. Не чокаясь.
Выпили не чокаясь. И в тишине. Будто была объявлена минута молчания.
– А мы с вами чокнемся, Сашенька! – рассмеялась Долли. – И будем жить долго-долго!
– Чтоб и вам хотелось! – рассмеялась и Вера.
А Ковригин не смог и улыбнуться. "Нет, постою ещё две минуты, – пообещал он себе, – и в "Лягушки"!"
И ведь знал, что двух минут ему будет мало, и понимал, что его удерживает в фуршетном застолье.
Тем временем городским Головой Михеевым была представлена публике дама из Министерства культуры федерального смысла Половодьева. Дама обликом была схожа с чиновницами фурцевских времен – тяжеловесная, широкозадая, но с голосом, повадками, макияжем и причёской нынешних деловых стерв. Хваткая нежность исходила из неё. Половодьева одобрила подъем региональных искусств, смутно-таинственное возрождение просвещённого меценатства и выразила надежду на то, что в ближайшие десятилетия в Землю не врежется астероид, а деятели культуры станут жить не хуже футболистов. Всё это к тому, Половодьева произвела мхатовскую паузу, что театр имени Верещагина вскоре отправится на гастроли в Санкт-Петербург, в Москву, а может, и куда подальше.
Публика взревела:
– Даёшь Авиньон!
Требовали, среди прочих и китайцы с японцами, немедленного фейерверка над Заводским прудом.
Если бы не так радостно торжествовал Юлий Валентинович Блинов, если бы он не принялся обнимать хрупкую девушку Хмелёву, Ковригин не совершил бы глупость. О ней он со стыдом вспоминал протяжённые годы.
Но он её совершил.
– Гастроли могут и не состояться, – сказал Ковригин негромко, но так, что его услышали.
– Это почему же? – закричали.
– А автор возьмёт и запретит спектакль, называемый в публике "Польским мясом", – сказал Ковригин.
– Кто таков?
– Гнать в шею!
– Юлий Валентинович, – обратился к Блинову Голова Михеев, – как всё это понимать?
– Шутки! – ответствовал Блинов. – У нас всегда находятся шутники и валтузники. А может, кто-то подготовил капустник и всех ждёт потеха. Уважаемый, там, у дальней стены, да, да, вы… Разъясните, пожалуйста, народу, в чём смысл вашей шутки. Если вы, конечно, трезвы…
– Разъясняю, Юлий Валентинович, – заявил Ковригин. – Прозывают меня, это подтверждено документами, Александром Андреевичем Ковригиным, я являюсь автором некой пьесы, и именно по пьесе А. А. Ковригина, если верить афишам, и поставлен спектакль "Маринкина башня" или "Польское мясо". Кстати, в оригинале пьеса называлась "Веселие царицы Московской". И никаких прав театру имени Верещагина я не предоставлял.
Немой сцены не возникло, там и тут звякали столовые предметы, продолжались суверенные разговоры, слышались и посмеивания, лишь среди триумфаторов заметным было замешательство. А после обмена нервными репликами забывший о робости режиссёр Жемякин вцепился руками в замшевые отвороты вольной куртки Блинова, стал трясти блистательного, выкрикивая:
– Значит, вы нам морочили головы! Мол, Ковригин – ваша зазывная мистификация, мол, пьеса – ваша, и все права на неё – у вас!
– Тише, тише! Успокойтесь! Всё так и есть! И никакого друга и однокашника Ковригина у меня не было! – Блинов нашёл силы отцепить от замши руки режиссёра, но явно был растерян. – Пьеса моя, моя…
"А ведь он похож сейчас на Юрия Мнишека, воеводу сандомирского…" – пришло в голову Ковригину.
– Прекратите перебранку! – приказала министерская дама Половодьева. – Не теряйте лица! Замрите!
– Как же тут замереть, уважаемая Кира Анатольевна, побойтесь Бога, два года трудов и надежд, – Жемякин, похоже, готов был разрыдаться. – И всё лягушкам на кваканье!
– Не пропадут ваши труды и надежды! – начал приходить в себя Блинов. – И бонусы ваши не пропадут. Кто может подтвердить, что этот человек – какой-то мифический Ковригин и что пьеса эта – его?
Он выглядел уже громовержцем, трибуном, способным увлечь народы к сраженьям, Робеспьером или Маратом, да что – Робеспьером и Маратом, те были мелки и слабы здоровьем, Дантоном вскипал: – Перед нами завистник, пакостник и самозванец!
– Самозванец! – поддержали за столами.
– Харакири! – потребовали то ли японцы, то ли малайцы.
А Блинов не мог остановиться. Бороду бы ему отпустить погуще и служить дьяконом в кафедральном соборе Тамбова.
– А? Кто может подтвердить здесь, что это Ковригин и что он автор пьесы "Маринкина башня"? Никто!
– Я могу подтвердить, – произнесла звезда театра и кино Свиридова.
Тогда-то и наступила в зале тишина межзвёздного пространства.
Ковригин повернулся к столу с бонусами спиной, отчитывал себя, негодуя: "Идиот тщеславный! Пижон и понтярщик! Свой спектакль разыграл! Юнец безусый!" Да ведь всё к этому и шло… И романтическое заключение в оковы "инкогнито" было игрой. Обманом самого себя. Мол, посмотрю "Польское мясо" и самолётом в Москву. Ан нет. Взбухало, взбухало в нём тщеславие, срамной грех, и прорвалось. Взрослый человек, давно понявший цену успехам или провалам, мог бы успокоиться, но не успокоился… Вытерпеть бы ему проказы Блинова, соблюсти достоинство человека, битого или, напротив, балованного удачами, и спокойно отстоять свои права. Нет, размахался крыльями. Взвейтесь, соколы, орлами! Но не взвился ни соколом, ни орлом. Стыдно, стыдно! Не крыльями взмахнул, а распушил, напряг и поднял победным стягом хвост волнистого попугая. И перед кем? Не перед Блиновым же! Перед женщиной. В красном гусарском костюме. Толи перед Мариной Мнишек, то ли перед Еленой Хмелёвой…
– То есть как можете подтвердить? – тишина, наконец, была искажена вопросом.
– А так, – сказала Свиридова. – Я хорошо знаю эту пьесу. Она была посвящена мне пятнадцать… ну, неважно сколько тому назад влюблённым в меня юношей. Александр Андреевич, будьте любезны, явитесь к нашему столу.
Ковригин взглянул на Долли и Веру:
– Я не могу вас бросить. Прошу, сопроводите меня и уберегайте…
– Ну уж нет, – сказала Вера. – Мы из других горизонтальных слоев.
Пришлось Ковригину путешествовать в указанном направлении в одиночестве. Фуршмены смотрели на него с любопытством, но и сомнением, с опаской даже. Лишь энергия ладош Натали Свиридовой вызвали в зале шум и возгласы одобрения. Допустив губы некогда влюблённого юноши к своей руке, Свиридова объявила:
– Знакомьтесь, это известный московский литератор и автор вашей любимой пьесы Александр Андреевич Караваев.
– Караваев? – удивился городской Голова.
– Ах, нет, нет! – всплеснула руками Свиридова. – Ковригин, конечно, Ковригин! Я вечно путаю… Ковригин… Караваев… Выпечка… И был ещё один влюблённый в меня юноша. Тот именно Караваев. Васечка. Он посвящал мне сонеты…
– В переводе Щепкиной-Куперник, – не удержался комик Пантюхов, уже избыточно нагруженный.
Сейчас же за столом Ковригин был признан и обласкан московскими знакомцами критиками Попихиным, Холодновым и киношным режиссёром Шестовским. Состоялись и церемонии представления Ковригина режиссёру Жемякину, актёрам и актрисам, в их числе – Ярославцевой и Хмелёвой. Худшее подтвердилось, столичный повеса вблизи девчонки (а Хмелёва, возможно под влиянием фуршетных стопок, показалась ему совсем девчонкой) заробел и принялся произносить всяческие глупости.
– Вы, Лена, для меня нынче подарок судьбы… То есть не вы, а ваша Марина Мнишек…
– И ваша. Ваша Марина Мнишек.
Она словно бы пребывала ещё и внутри спектакля, и внутри сущности и судьбы гордой полячки, витая при этом ощущениями и грёзами в нездешних мирах, но Ковригин почувствовал, что она изучает его с цепким вниманием, то ли из объяснимого любопытства, то ли в рассуждениях о собственном будущем. Ковригину стало не по себе. Соблюдая галантность, он всё же поспешил отойти от Хмелёвой. Оценил как бы со стороны свою щенячью восторженность и устыдился её. Но и не по одной лишь этой причине отошёл…
Кстати, дебютантка Древеснова на глаза ему не попалась.
Не обнаружил он за столом и Юлия Валентиновича Блинова.
Расспросив о Блинове Попихина и Холоднова, Ковригин узнал, что Блинов, после признания Свиридовой, запыхтел, бросил любезничать с Хмелёвой и исчез, будто его моментально растворили особенной кислотой. Правда, он всё же успел заявить Попихину, что обожатели Свиридовой сами по себе никакими юридическими доказательствами признаны быть не могут, что пьеса "Маринкина башня" и впрямь мистификация, а все варианты текстов пьесы написаны его рукой, и он, Блинов, хотя бы и с помощью графологов, свои права отстоит, а из Ковригина сделает посмешище и всех баб у него отобьёт…
– Бог ему в помощь, – сказал Ковригин. – Правда, неизвестно, какой Бог…
При этих его словах к Ковригину подошёл бывший гарсон-консультант, а теперь неведомо кто, Дантон-Гарик Саркисян в наряде лакея века эдак восемнадцатого, и вручил ему, почтительно поклонившись, конверт на подносе. Ковригин достал из конверта лакированную карточку с золочёными словами: "Уважаемый Александр Андреевич! Милостиво просим Вас принять участие в дружеской беседе под сводами замка в Журино. Отъезд гостей через полчаса от третьего подъезда театра имени Верещагина.
Удобства и приятности в имении Журино гарантированы. Ваш М. Ф. Острецов".
Ковригин взглянул в зал. Решил: в Журино отправится лишь в случае, если вместе с ним на дружескую беседу пригласят Веру с Долли.
И увидел: приятные ему дамы уже хлопотали вблизи объявившегося, наконец, Николая Макаровича Белозёрова, Мамина-Сибиряка, а стало быть, беспокоиться об их благоустройстве нет нужды.
22
У третьего подъезда Ковригину предложили сесть в «мерседес». Но он заметил, что Белозёров с подругами поднимаются в жёлтый автобус, явно японского происхождения, и поспешил за ними.
О чём вскоре пожалел.
Поначалу ему показалось, что в глубине автобуса восседал Блинов. Ошибся. Да и гоже было бы барину путешествовать на одной телеге с холопами? Сейчас же Ковригин подумал, что сегодня – порой, и издалека – Блинов напоминал ему Максимилиана Волошина, а Волошин барином не был, и общения с людьми самых разнообразных свойств были ему интересны.
Эти скачущие, отчасти несуразные соображения являлись ему, понял Ковригин, будто в помощь, чтобы отвлечь его или даже уберечь от мыслей существенных, всё о той же его нынешней глупости – распушения хвоста, и это ради совершенно незнакомой ему женщины. Женщины, показавшейся вблизи девчонкой.
Водительское место не было занято, свет в салоне не горел, Долли с Белозёровым в переговорах шёпотом уселись быстро, Вера, будучи как бы хозяйкой, направила гостя, Ковригина, к окну, сама же опустилась на сиденье справа. При этом в проходе Ковригину чуть ли не пришлось переступать через неясного назначения предмет, мешок, что ли, какой с провизией или реквизитом. Впрочем, мешок произвёл движения, пропуская мимо себя Антонову, Ковригина и других пассажиров.
Явился водитель, зажёг свет, и Ковригин увидел, что никакой это не мешок. Сидела на полу прохода, ноги подтянув к груди, женщина в красном бархатном костюме, и будто бы глаза у неё были влажными.
– Госпожа Хмелёва! – взволновался Ковригин. – Что же вы сиротствуете на полу! Садитесь на моё место!
Хмелёва покачала головой, слов не произнесла.
Вера поднесла палец к губам, приглашая Ковригина помолчать. Но минут через двадцать езды не выдержала сама, прошептала:
– Это с ней случается после спектаклей. Вновь проживает роль… Вот так вот усевшись на пол в проходе. И никого для неё нет…
И всё же что-то насторожило Антонову.
– Леночка, – тихо спросила она. – У тебя ничего не болит?
– Всё нормально, тётя Вера…
– Какая я тебе тётя Вера! – возмутилась Антонова.
– Извини…
– И всё же? – строго сказала Антонова. – Ты мне не ответила.
– Правая пятка. Что-то не так…
– Супинатор клала?
– Клала…
– Сними сапог! Батюшки-светы! Да у тебя кровь! Что же на этот-то раз подложили? Гвоздь пробил супинатор. Но гвоздь обпиленный, короткий. Чтобы смогла доиграть. А если бы захромала, то лишь в последних сценах. Сиди, терпи. Сейчас. У Петруши есть аптечка.
Стремительная, ловкая в движениях, Вера быстро вернулась от водителя с коробкой аптечки, смазала рану йодом, перебинтовала ступню Хмелёвой ("Не маленькую, – отметил Ковригин, – не от пушкинских проказниц…"), осмотрела левую ногу потерпевшей, успокоилась, ваткой вытерла влагу под её глазами, сказала:
– Сиди, терпи. Возьми гвоздь в свою коллекцию. Догадываешься кто?
– Предполагаю, – сказала Хмелёва. – Король Сигизмунд Третий. Не провернула аферу с польским мясом.
– Шутишь. А мне это надоело.
– Знала бы ты, как мне надоело! – сказала Хмелёва. – Но не это… Другое…
– Знаю, – вздохнула Антонова. – Но коли назвался груздем…
– Я долго не выдержу…
– Придётся. И помолчи…
При словах "Я долго не выдержу" Хмелёва быстро взглянула на Ковригина. Единственный раз за время её сидения в проходе. И тут же отвернулась.
"А не на меня ли рассчитан обмен женскими вздохами? – задумался Ковригин. И тотчас отверг мысль об этом. И гвоздь, что ли, засовывали в сапог ради того, чтобы произвести на него, Ковригина, впечатление? А кровь и гвоздь он видел. Они были подлинные.
Да кто он таков, чтобы, имея его в виду, можно было рассчитывать на какие-либо выгоды? Мелкий мечтатель, эгоцентрик, притом неразумный. Со школьных лет полагавший, что смешки людей вокруг или слова одобрения относятся именно к нему, потому как он – натура особенная и значимая или, напротив, заслуживавшая усмешек и ехидств. Давил в себе эти ощущения, и вот сегодня возвратилась к нему дурь!
Из-за девчонки, усевшейся в проходе? Тогда действительно дурь!
– Есть в русском православном пантеоне, – обратился Ковригин к соседке, – такая святая, Юлиания Лазаревская, она же Ульяна Осорьина из Мурома, соседствовала на иконах с Петром и Февронией. Большинство наших святых умирали монахинями, и Ульяна после смерти старших сыновей, а было у неё тринадцать детей, пожелала уйти в монастырь и там замаливать грехи. Отговорил муж, мол, он стар и болезный, а надо воспитывать младших чад. И Ульяна вынуждена была спасать душу в миру, отказалась от супружеской близости, лежанку для сна устраивала из угластых полений сучками вверх, а в свои сапоги накладывала ореховую скорлупу и острые черепки глиняных горшков – ради усмирения плоти. Такое проявляла благочестие. И удостоилась "Жития"…
Ковригин замолчал.
– К чему вы это вспомнили? – настороженно, будто испугавшись услышанного, спросила Вера.
– И сам не знаю, к чему… – смутился Ковригин.
– В театре благочестие дело вредное, – сказала Вера. – И как правило – проигрышное. Там нужны подвиги иного рода…
– Да я безо всякой связи с какими-либо сегодняшними событиями, – принялся оправдываться Ковригин. – Память у меня забита всякой чушью и иногда ни с того ни с сего выталкивает из себя совершенно ненужные никому сведения…
– Вы человек начитанный, – произнесла Вера. То ли с уважением, то ли с кислинкой иронии.
– Начитанный, – согласился Ковригин. – Начитанный. Но в моём случае выходит, что и не самостоятельный. И промежуточный. Копаюсь в чужих судьбах и историях, увлекаюсь ими, а своей судьбы и истории вроде бы и нет. И ходить в сапогах с ореховой скорлупой и глиняными черепками желания нет. Да и хватило бы на это силы воли?
– А почему всё же вы, Александр Андреевич, – сказала Вера, – решили делать ставку на Древеснову?
Пара на сиденьях впереди примолкла.
И госпожа актриса Хмелёва из своего ущелья взглянула на Ковригина с разведывательным будто бы интересом. Впрочем, с одним лишь интересом? И главное – с разведывательным ли?
– Да не знал я до нынешнего дня ни о какой Древесновой! – в раздражении воскликнул Ковригин. – Что вы привязались ко мне с этой Древесновой и с дурацкими ставками!
Все в автобусе стали ему противны. Несся бы он сейчас, скажем, над Амуром в СУ или МИГе пятого поколения, попросил бы у начальства в связи со внезапным недугом или даже приступом разрешения катапультироваться. Но останавливать автобус (а ехали уже вдоль берега Большой реки) и выходить в сырую темень было бы смешно. Позабавил бы, и надолго, Средний Синежтур.
– Прошу принимать к сведению, – холодно сказал Ковригин, – что я не обладаю никакими особенными возможностями. И рассчитывать, что я кому-то могу оказаться полезен или выгоден, не следует.
Принялся смотреть в окно. Антонова вроде бы произносила слова извинения, пыталась склонить Ковригина к примирению, но он не вникал в суть её слов. Сопел обиженно. И вдруг увидел, в синей темени разглядел: по обрывистому берегу, не обращая внимания на камни, вымоины, колючие кустарники, бежал голый мужик, знакомый Ковригину по урочищу Зыкеево, матерившийся там в грибном ельнике, с прежней двойной свирелью в руке, и от автобуса не отставал.
И соседка, явно следившая за взглядом раздражённого Ковригина, увидела за стеклом голого мужика с шерстью на ногах и козлиными копытцами, рука её то ли от удивления, то ли от страха вцепилась в плечо Ковригина, и он высвобождать плечо не стал.
Тут-то и подъехали к частному владению с замком Журино.
Выходили из автомобилей у ворот явно не восемнадцатого века, а у тех, что то и дело открываются или не открываются (тогда их штурмуют люди в масках и с Калашниковыми в руках) в отечественных милицейских сериалах. И стало понятно, что не сразу и не все будут допущены в частное владение.
И сюда силились прошмыгнуть вызнаватели секретов чужих празднеств, тончайшие любители оказываться причастными к кругу знати и просто плотоядные халявщики. Досмотр у металлических раздвижных ворот выявил четырнадцать ненадобных особей, их сейчас же депортировали в Синежтур к домочадцам. Впрочем, одного-то отправили явно не к домочадцам. Это был сосед Ковригина по Садово-огородническому товариществу Кардиганов-Амазонкин. Он-то каким манером и зачем оказался в Синежтуре, да ещё и приволокся к воротам Журинского замка? Какой интерес пригнал его сюда? Или – какую миссию он согласился исполнить? К удивлению Ковригина, полемист и социальный бузотёр на этот раз не протестовал, не витийствовал, вообще не шумел и даже бейсболку, презент дамы с отечественной фамилией Шинель, надвинул на глаза, будто боялся быть опознанным (а кто его мог опознать здесь, кроме Ковригина?) и смиренно позволил отвести его к эвакуационному экипажу фирмы "Икарус".
А прибывшие в Журино в ожидании допуска покуривали, разминали ноги, переговаривались тихо, будто бы оказались в музейных залах. От Большой реки тянуло сыростью, Ковригин почувствовал себя озябшим, а госпожу Хмелёву явно бил озноб, не столь тёплым был, похоже, красный бархат, Ковригин хотел бы укрыть её плечи плащом, но плащ он оставил в гостинице. Впрочем, к Хмелёвой подскочила жизнерадостная Ярославцева, с несмытыми румянами на ланитах (а может, щеки у неё были природно румяными), и снабдила Хмелёву курткой. Как же! Гофмейстерина Казановская и должна была заботиться о своей госпоже и подруге! На Ковригина (так ему показалось) она взглянула с укоризной. Скорее всего, слышала разговоры в автобусе. Оделила Ярославцева Хмелёву, будто бы ещё витавшую в тёмно-синих поднебесьях, и сигаретой.
К Ковригину же подошёл Николай Макарович Белозёров.
– Александр Андреевич, – стараясь быть деликатным, сказал Белозёров, – что вы так разволновались-то? И повода-то особого не было. Ведь бабы, они известно кто…
– Да черт-те что! – воскликнул Ковригин. – Сам не знаю. Стыдно. Единственно, могли сказаться волнения в ожидании спектакля и в ходе его. Сдерживал, сдерживал их, а они теперь взяли и прорвались…
– Наверное, так оно и было, – кивнул Белозёров.
– Но стыдно, – не мог успокоиться Ковригин. – Надо извиниться и перед Хмелёвой, и перед Верой Алексеевной. И теперь же…
– Не надо, – упредил Ковригина Белозёров. – Не надо.
И сейчас же Ковригин понял, что не надо.
А металлические ворота наконец раздвинулись, вспыхнули осветительные приборы ("лампионы") на стенах, на заборе, и упрятанные в камнях, в кустах, в ветвях деревьях, а перед избранными, подсвеченный на манер важнейших московских зданий или там вечерней Эйфелевой башни, предстал северный фасад дворца Турищевых-Шереметевых.
Даже Николай Макарович ахнул.
Он-то несколько лет приезжал сюда по делам к строителям и реставраторам, но замок был укрыт зелёной ремонтной накидкой, и сути изменений ему не открывались, с детских лет он привык к прежнему профсоюзно-оздоровительному облику здания и вот теперь заахал…








