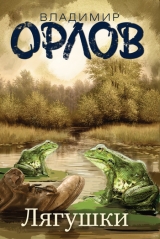
Текст книги "Лягушки"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
10
Вернулись дамы, совершив экскурсионный обход. Отчасти разочарованные – цапля не соизволила снова посетить пруд. Отчасти – воодушевлённые. Новые дома посёлка, естественно, в подмётки не годились их проекту. Мнение о подмётках высказала Ирина. Антонина с ним согласилась. Энергия дамами не была потрачена, и они решили сейчас же отправиться по грибы.
– Я посоветовал бы вам переодеться, – стараясь быть миролюбивым, сказал Ковригин, – и прикрыть ваши обнажённые красоты.
– Экий ты стал в своей культурной глуши высоконравственный! – сказала Антонина. – Нам с Ириной стыдиться нечего.
– Да шляйтесь хоть нудистками! – сказал Ковригин. – Но потом не нойте. Комарьё и мошкара вас закусают. И собак диких развелось множество.
Чуть было не добавил про козлоногого мужика-матерщинника со свирелью в руке и в волчьих мехах на бедрах, но очень может быть, мужик этот, якобы эллинского происхождения, был уже изгнан напрочь из здешних грибных мест страшным Зыкеем или вовсе Ковригину привиделся, а потому Ковригин о мужике промолчал. К тому же при Антонине находилась спутница, способная порвать всех. "Да что я привязался к этой дизайнерше? – заворчал на себя Ковригин. – Что я злюсь на неё? Ведь она, скорее всего, доставлена сюда именно для того, чтобы помочь Антонине выбрать наилучший вариант дома, в частности и для моего бытия…"
И спросил Антонину (а не собирался этого делать в присутствии чужого человека):
– А этот… наш-то домик… Что будет с ним?
Не дожидаясь ответа Антонины, Ирина заявила:
– Снесем.
Будто гвоздь вколотила.
– Но… – жалко (так ему казалось позже) заговорил Ковригин, обращаясь при этом лишь к сестре, – мы ведь в нем выросли… он ведь намолен нашими с тобой матерью и отцом… и нами… нашими судьбами…
– Сантименты. Бедная Лиза. Карамзин! – ещё один гвоздь вколотила Ирина. – Реплики из мелодрамы.
– Сашенька, – будто бы с намерением успокоить огорчённого малыша и не дать ему разреветься начала Антонина, – я понимаю твои чувства. Но такова неизбежность. И было бы смешно устраивать из отжившего хлама мемориал. А вот старую мебель, она теперь в цене, и семейные реликвии, связанные с отцом и матерью, с нашим детством, мы перенесем в новый дом. Теперь ты ерепенишься, но потом успокоишься и поймёшь, что моё решение – и твоё решение…
Хорошо хоть Антонина стояла сейчас в саду, а он, Ковригин, сидел на террасе, весь будто бы в делах, а то ведь она готова была, Ковригин это почувствовал, прижать его к себе и головку погладить неразумному мальчугану, этого бы Ковригин не выдержал, мог бы сестрицу и отшвырнуть чуть ли не со злостью.
– Я повторю, – сказала Антонина, – участок записан на тебя, ты тут ответственный хозяин, но прошу, подумай и о племянниках, время летит, они станут взрослыми, где им жить? Я верю: ты привыкнешь и успокоишься…
– И что же будет на месте дома? – спросил Ковригин. – Мандариновую рощу здесь разведем?
– Зачем мандариновую рощу? – рассмеялась Ирина. – Здесь машины будем ставить. Не ночевать же им за забором.
– То есть здесь будет автостоянка? Или автобаза? С подземными гаражами…
– Ну, почему же с подземными? – удивилась Ирина.
– Ладно, ладно, – сказал Ковригин. – Хорошо. И словно бы вернулся к своим бумагам.
– Нет, – сказала Антонина. – Братец мой, несомненно, не в духе. Пойдём-ка, дорогая, с глаз его долой и в лес…
Мошкарой, а возможно, и бездомными собаками Ковригин всё же напугал дам, шорты были ими заменены на брюки, плечи и груди прикрыты от насекомых тельняшками цивильного назначения.
– Про шашлык не забудь! – выкрикнула, удаляясь, Антонина.
А подруга Ирина со словами: "В путь-дорогу, дарлинг Тони, в лес дремучий по грибы!" – положила сестрице руку на талию. Властно положила (может, и привычно?), будто уверенным в себе кавалером.
"Всё! – свирепея, думал Ковригин. – Всё! Более здесь я не выдержу. Не хотел съезжать так рано, а придётся. Дарлинг Тони! И главное: "Снесём. Машины будем ставить". Они – снесут! Они – будут ставить! А ему велено привыкать. Ты – угловой жилец. И более никто!"
Дальнейшие действия Ковригина происходили суетливо-судорожно и с логическими скачками. На него то и дело напрыгивали сомнения. А может, и не стоит так категорично-немедленно уезжать в Москву? Не выйдет ли это поступком позёра? Или бегством? Унизительным и смешным. И от кого бегством? Получалось, что от дизайнерши Ирины. Он бы сбежал, а она осталась бы в их саду. Но это означало бы, что она смогла порвать и его, и он поднятыми к небу лапками выбрасывал к её ногам белые флаги. Нет, говорил себе Ковригин, никаких белых флагов! Он останется, будет холоден с Антониной, в разговоры о замках вступать не станет, а завезенная кобылица превратится для него в невидимый и беззвучный предмет, какой можно и не замечать.
Но Антонина-то! Но Антонина-то какова, тут же явилось Ковригину. Дарлинг Тони! Извольте выслушивать! И властная рука, возложенная на талию, нисколько не раздосадовала Антонину! Нет, решил Ковригин, уезжать и сейчас же!
Он вскочил и отправился на чердак. Не думал задерживаться на чердаке, всего-то надо было забрать рюкзак, самый вместительный, для экстренной поклажи, но задержался. У двери присел на сосланный сюда стул со сломанной спинкой и чуть ли не слезу пустил. Чердак был живой. И чердак был – его, Ковригина, жизнью. Прошлой. Думал, что и нынешней. Полагал, что и в будущем сможет проводить здесь приятные для себя (да хоть бы и грустные) минуты. Естественно, для людей чужих, для той же курс-дизайнерши (но теперь, выходит, что и для Антонины?), на их чердаке прежде всего обнаружилась бы свалка. И более ничего. Неразумная, неряшливая и никак неоправданная нынешними днями свалка. Сейчас рядом с Ковригиным у двери чердака лежали небрежно сложенные валенки, бордовые боты, какие ни на ком не увидишь, резиновые сапоги, возможно, что и с дырами, прочая обувь, в частности, стоптанные полуботинки Ковригина фабрики "Скороход", по паре их ценою в четырнадцать рублей покупали ему года на четыре носки в университетскую пору и не выбрасывали на всякий случай, мало ли что… За обувью стояли листы стекла, были уложены упаковки с удобрениями на грядки и под яблони со сливами типа "хлорофос", не пошедшие в дело. Дальше валялось тряпье – старые куртки, выгоревшие шторы, а за ними – рулоны обоев, абажуры с мятыми каркасами, керосинка, тускло-серебристая соковарка, вышедшая из строя, да чего только не копилось на садово-огородных чердаках! При родителях выбрасывать что-либо отсюда было делом запретным, безнравственно-кощунственным, даже размышления об этом вслух тут же вызывали употребления валерьянки или нитроглицирина, при этом для сытых и неразумных детей вспоминали о тридцатых, сороковых да и пятидесятых годах, о житье-бытье в коммуналках и о том, какими усердиями наживали (да и добывали тогда) добро и прокорм. И по скольку лет это добро служило. После ухода стариков второй муж Антонины архитектор Алексей не раз заводил с Ковригиным разговоры – а не почистить ли чердак от хлама, но теперь ворчал Ковригин (валерьянку пока не пил), ни от чего на чердаке избавиться не хотел, а вдруг там что-нибудь этакое откроется, конечно, хлам надо бы разобрать, но не сейчас, не сейчас, потом, потом, выпадет случай, вот и… А когда Антонина раскопала в хламе раритет – печь "Чудо" и стала радовать домашних и гостей замечательными пирогами с яблоками и вишнями, фантазии о ревизиях на чердаке и вовсе прекратились.
В отроческие годы Ковригин, что, естественно, не было чем-то особенным, мечтал о месте уединения. О замкнутом пространстве собственного пребывания на Земле. В коем он был бы свободен от всего на свете, даже от настырной Тоньки с её затеями и приставаниями, и волен был бы жить, играть, думать, читать, путешествовать в волшебные страны, выдумывать их, как и отсутствующих вблизи него королевен (воображение всегда увлекало его в упоительные и честолюбивые полёты), и всё это – в нерушимом и суверенном одиночестве. Ещё совсем мальчонкой в Москве он устраивал своё сказочное нездешнее государство под ножками письменного стола, не впуская в него и Тоньку. Но она-то, проныра, с девчачьими хитростями и уловками всё же вползала и в его игры. В саду-огороде Ковригин (а тогда ещё не были пристроены к дому две террасы), в свой Эрмитаж, или в свой Монплезир, или в своё Монрепо, в башню над шотландскими скалами (а под скалами – серое море и берег, поросший вереском) произвёл именно чердак. Был бы в ту пору в саду пусть бы крошечный сарайчик, и там Ковригин хоть и на двух квадратных метрах сыскал бы место для временных уходов от мира внешнего в глубины, тайны и упования своей натуры. Но сарайчика не было, и сгодился чердак с резкими скосами крыши. Не весь, естественно, чердак, а южная, приоконная его часть. Фанерными листами по линиям стояков Ковригин выгородил как бы комнату, голову в ней, правда, приходилось наклонять, приволок раскладушку и детский столик, на него водрузил лампу с оранжевым абажуром. И всё. Это была башня его одиночества. В неё по решительной договоренности не допускалась и Тонька. А она стучала, и не раз, в запертую Ковригиным дверь чердака в надежде, что дверь откроют. Сопли разводила, сидя на балкончике перед дверью, грозила: "Ужо покажу!". И напрасно. И от Тоньки требовалось отдохнуть. Не один год вот здесь вот в фанерной башне Ковригин был самоценен и самовелик, грезил, совершал подвиги Александром Македонским и Квентином Дорвардом, и затворница герцога Бургундского влюблёнными глазами смотрела на него, юного шотландского стрелка, впрочем, любил он не только бургундскую затворницу, но и красавицу Сутееву из параллельного класса, и Одри Хепберн, имевшую приключения в Риме и желавшую после уроков профессора Хиггинса танцевать на балу в Лондоне, много кого любил, Тонька, понятно, в счёт не шла. Здесь он не только мечтал и читал, но и пописывал, прозу и стишки, чего чрезвычайно стеснялся, а опусы рвал, это позже будущая Звезда Натали Свиридова подвигла его к драматургической наглости – пьесе о Марине Мнишек. А порой на чердаке Ковригин просто валялся бездумно или же почти бездумно сидел у оконца и поглядывал на деревья, берёзы, дубки, яблони, вишни, сливы, кусты смородины и крыжовника, на вздрагивание их листьев, вызванное играми ветра, на суету птах малых, подмосковных родичей наглеца-воробья (сами воробьи в сад не залетали) – всех этих гаечек, синичек, серых поползней, ржанок, мухоловок с красными затылками, зарянок с пурпурными брюшками, лазоревок, особенно в августе, когда созревали черноплодка и рябина и взрослые особи пригоняли своих несмышлёнышей в сады по природной необходимости научить птенцов летать и добывать пищу. Сидел Ковригин у оконца и будто слушал музыку. Сам несмышлёныш, не сумевший еще встать на крыло. Где теперь его фанерная крепость? Известно, где… А фанерные листы вскоре пошли на постройку двух террас. Здесь же, на чердаке, остались стул, детский столик и лампа с оранжевым тряпичным абажуром, Ковригин воткнул штепсель в розетку, лампочка (его лампочка!) загорелась. И то ладно… Сложенная раскладушка с лохмотьями зеленоватой ткани меж алюминиевых трубок стояла боком, а за ней под правым скосом крыши на клеёнке и на выцветших газетах ровненько размещались увязанные шпагатом стопки послевоенных (отец сохранял – как же, документы эпохи!) "Огоньков", "Смен" и "Крокодилов", в их редакциях работал дед Ковригина. "Это они и рвать не станут, – предположил Ковригин, – а просто сожгут… Надо бы вывезти, конечно, но когда и куда?.." Слева же от своего бывшего Монплезира, именно среди старья и хлама (хотя и там возможны были свои жемчужины – скажем, древние выпуски приложений к "Ниве" с первыми публикациями стихов Бунина или какие-нибудь его дешевенькие игрушки), Ковригин снова увидел синий патефон, не какого-нибудь Коломенского завода, а – французский, по семейной легенде – трофейный. Сколько хлопот доставляли поломки его пружины, её в усердиях то и дело перекручивали… Но как звучал французский патефон! "Хватит! – сказал себе Ковригин. – Этак я разнюнюсь, утону в воспоминаниях и никуда не уеду!" Он вытащил штепсель из розетки, направился было к двери, но тут ему показалось, что один из комплектов "Огонька" лежит обидно плохо, скособочился, сползает с газет и клеёнки. Оставлять журналы в неловко-некомфортной позе, посчитал Ковригин, было бы делом дурным, и он принялся устраивать стопку ("сорок седьмой год", – отметил Ковригин) поровнее, поудобнее, что ли, но при этом обнаружилось, что под "Огоньками" была положена связка тетрадей. Стареньких, в клеточку, с белыми когда-то, надо полагать обложками. Тетрадей было семь. На верхней из них квадратными буквами отцовской рукой было выведено: "Записи". Ковригин прихватил связку тетрадей, сунул их в пустой пока рюкзак, запер дверь чердака и поспешил на террасу. "Сборы были недолги, – проговаривал при этом про себя, – сборы будут недолги…" Нервничал, отчего-то опасался, что сестра с дарлинг Ириной вот-вот вернется из леса и придётся с ней (или даже с ними) объясняться, может, и оправдываться, и не исключено, что Антонина разжалобит, размусолит его и уговорит остаться. Сборы и впрямь вышли недолгими, вещей (из одежды) Ковригин на дачу завозил немного, всё больше это были спортивные шмотки, сейчас они умялись на дне рюкзака. Дальше отправились в рюкзак бумаги и книги (из коробки Пети Дувакина тоже, естественно), а есть ли что-либо тяжелее книг? Впрочем, набитый рюкзак весил килограммов двадцать пять, ну, тридцать с небольшим – ноша для Ковригина вполне одолимая. А компьютер предстояло тащить в руке.
Теперь можно было усесться за стол и выдавить из себя распоряжения. В послании к членам правления садово-огороднического товарищества "Перетруд" (Урочище Зыкеево Чеховского района) Ковригин просил переписать находящийся во владении их семьи участок (все документы на землю и постройки на ней оформлены) на имя Ковригиной Антонины Андреевны, человека правлению хорошо знакомого и куда более, нежели он, Ковригин Александр Андреевич, способного соответствовать уставу и духу товарищества и содействовать его благопроцветанию. Подумав, приписал: "Доверяю до дня решения правления Ковригиной Антонине Андреевне производить на участке любые работы, как строительные, так и по уборке мусора, по её усмотрению". Чтобы обезопасить себя от сестринских усердий и хлопот по его поимке (ещё ведь и в милицию бросится с требованием объявить розыск!), Ковригин сочинил записку: "Антонина! Извини, но шашлыком заняться не смог, угли в сарае, сами разожжёте костер. Срочно вызван журналом. И ТВ. Предложена выгодная (и по деньгам) командировка в Аягуз. Вылетаю завтра утром. На две недели или на месяц". Этот Аягуз Антонина на карте и за месяц не сыщет. Сейчас там наверняка жара, пыль до небес и песок во ртах у населения. Хорошо хоть, если дыни к осени удались. Или арбузы. Или тыквы. В Аягузе Ковригин был однажды и то проездом. Исходит потом этот Аягуз в пустынном Семипалатинском Прииртышье, некогда российском, ныне иностранном. Кочевал там со своими юртами, людьми и табунами просветитель Абай, стало быть, теперь там Казахстан. Но мало ли где кочевали киргиз-кайсацкие орды, в добродетельную царицу каких Гаврила Романович Державин произвёл Фелицу-Екатерину. Их людей и в Москву заносило. Отчего же и Москва не в Казахстане? Щедры были пламенные большевики и чиновники из наркомата по делам национальностей, отрезая земли (урочища) Отечества, к историческим обретениям которого ни любви, ни интересов у них не было. В мозгах их бутетенила лишь политика. Как же они при этом обделили цыган? Те-то кочевали по тысячам Бессарабии! "Да что это я! – спохватился Ковригин. – Какие-то наркоматы в голову лезут! Оттягиваю отъезд, что ли? Ну уж, дудки!"
Направился Ковригин к троицкой остановке. Вблизи их поселка имелись две автобусные остановки. Одна, уже упомянутая, северная, – поближе к станции, у палатки с продавщицей Люсей, Белый или Рыжий налив, всучившей в мокрый день Ковригину две банки кальмара в собственном голубом соку ("Пусть сестрица теперь угощается!"). Вторая – на окраине села Троицкого, это – к востоку от их посёлка. Еще раз взглянул Ковригин на родное поместье, ещё не разоренное и не опошленное, с печалью взглянул, а может, и с тоской, вдруг и не придется бывать здесь более, и пошагал к троицким воротам не раздумывая. Потом, правда, стал соображать, почему он не отправился в Москву привычной дорогой. "А чтобы не столкнуться с Антониной и с этой её… – явились объяснения. – Вдруг они уже набрали грибов или устали и пошли домой…" То есть, выходило, он сбегал огородами от мелодраматических и, возможно, слезливых разговоров. Ну и правильно, похвалил себя Ковригин, встреча с ними была бы мне сейчас противна, а так я всё дальше и дальше от леса с грибами… И тотчас же понял: Антонина Антониной, но куда важнее вот что – исход его из Зыкеева Урочища с путешествием к автобусам по глиняной, пусть нынче и сухой, тропинке вдоль забора Госплана вызвал бы мысли об исходе лягушачьей орды и видения мокрого дня со всеми физиологическими подробностями искалеченных телец на асфальте шоссе. А эти мысли и видения Ковригину сейчас были не нужны. Вот почему ноги сами повели его подальше от забора Госплана. И прочь из его головы земноводные! Однако у троицких ворот посёлка в остатках пруда у полуразрушенной плотины Ковригин увидел цаплю. Откуда она взялась? Пряталась, что ли, она в камышах от двух шумливо-неугомонных подруг? Или только что вернулась в сытные лягушачьи места? И ещё странность. На южном берегу бывшего пруда на месте лагеря упраздненных пионеров встали недавно виллы районных рублёвских персон, и вот от одной из них, в четыре крученых этажа с виндзорскими башнями, к водице спускалась теперь лестница из белого камня (не из каррарского ли мрамора?), выложенная, видимо, на днях, на вымостке же у воды в шезлонге сидел господин с удочкой в руке, курил сигару и чаял движений поплавка. Или прибытия яхты из Марабельи.
А может, это сидел сам страшный и косматый Зыкей? Страшноты его были скрыты в тёплый день габардиновым костюмом и чёрным тулупом для подлёдной ловли от Версаче, а космы и лохмы сведены на затылке в тяжеленно-живописный пучок человека свободной профессии? Но какие такие у нас свободные профессии?
"К автобусам! К автобусам! – приказал себе Ковригин. – И не глазеть по сторонам!"
11
В автобусе Ковригин чуть было не задремал. В чувство он был приведён тычком дамы, сидевшей у окна.
– Смотри-ка! – удивлённо-восторженно воскликнула она. – Босой! Босиком лупцует! Если уж из дурдома сбег, мог бы хоть и бахилы спереть!
В дремоте же автобусной (или в дрёме? или во сне полусладком?) Ковригин увидел господина в габардиновом костюме и тулупе распахнутом, раскуривавшего на мраморной вымостке сигару. Господин, заметив прохождение Ковригина с рюкзаком за плечами, вскочил, выдернул удочку из воды и стал размахивать ею, то ли приветствуя Ковригина, то ли укоряя его, почувствовав в нём антиглобалиста. На крючке удочки господина дёргалась тропических размеров зелёная лягушка. Тогда Ковригин, наверное, и приказал себе не глазеть по сторонам.
Теперь же, после нового тычка в бок ручищей автобусной соседки, он был вынужден глазеть на обочину дороги. А уже миновали Любучаны и подъезжали к Симферопольскому шоссе.
– Босой! – не могла успокоиться соседка. – Босой! И даже без бахил!
– Босой, – согласился Ковригин.
Босой-то босой, но ведь при этом и козлоногий. И с крепкими копытами. А возможно, и с козлиными рожками, укрытыми кольцами густой шерсти. И голый, разве что с волчьим, да нет, скорее – с медвежьим мехом на бедрах. И со свирелью в правой руке. Но эти очевидности никак не волновали соседку Ковригина. Мало ли какие особи допускались к существованию на нашей грешной и чудесной планете, тем более вблизи здешних разумо-успокоительных лечебниц, да и залететь сюда могли и имели право черт-те кто из других не менее чудесных планет. Удивление соседки Ковригина, а вместе с ним и сострадание к бегуну вызывала лишь его босота. Простудиться он сегодня не простудится, но ведь ноги, бедняга, сотрет.
Тот ли это бегун, что промчался мимо него пару дней назад в ельнике, Ковригин определить с достоверностью не мог. Даже если бы босой мужик высказался сейчас и звуки его высказывания донеслись бы до Ковригина, они бы Ковригину не помогли. И не исключалось, что эллинские озорники и охальники, бражники из окружения Диониса были не штучного, а серийного воплощения. А может, мужик и впрямь сбежал из Троицкой больницы, в погоню же за ним не бросились по простейшей причине: он всех, и больных, и медицинский персонал, и силовых санитаров извел своей игрой на свирели, и в возврате его на белую койку ни у кого не возникло нужды. Кстати, на этот раз Ковригин не ощутил, ни на мгновение даже, панического страха, а потому суждение о босоногом мужике как о беглеце из дурдома могло оказаться справедливым.
Соседка теперь уже тараторила, охала и рассказывала жуткие столбовские истории, Ковригин в диалог с ней не вступал, а лишь кивал из вежливости, порой и невпопад.
А босой мужик, между прочим, от автобуса не отставал.
Электричка на Москву, спасибо субботнему дню, прибыла на Столбовую полупустой, и Ковригин вольно расположился у окна. И в электричке он стал подрёмывать. Глаза открывал лишь при остановках поезда и видел одно и то же: по перрону мимо его вагона пробегал козлоногий мужик со свирелью в руке и уносился в сторону электровоза. Так было на станции Львовская, в Гривне, в Подольске и в Щербинке. Предположить, что он передвигается в Московском направлении в одном с Ковригиным составе, было бы нелогично. Как же он тогда бы оказывался позади Ковригина? Оставалось думать, что он, учитывая расписание поездов, пассажирских и товарных, передвигался именно по железнодорожному полотну (хотя почему не по асфальту автострад?), перескакивая своими, не снабженными даже бахилами, конечностями со шпалы на шпалу и все же чуть-чуть отставая на перегонах от электрички Серпухов-Москва. Конечно, в голову Ковригина приходила притча о братьях черепахах, но тогда бы в эстафетной смене козлоногих двойников пришлось бы отыскивать сложный и тайный смысл, а заниматься этим Ковригину было лень.
Да и что тут разгадывать, подумал Ковригин. Бежит себе и бежит, значит, ему надо. А то, что долго бежит, да ещё и почти не отстаёт от электрички, так не в Греции ли воспитались первые марафонцы?
С тем Ковригин и перестал смотреть в окно.
А на Курском вокзале в толпе Ковригин бегуна уже не увидел. Возможно, тот продолжил движение в Москве по крышам автомобилей. И возможно, поспешал он на Большую Никитскую к бронзовому Петру Ильичу, где в Консерватории совершенствовался в игре на духовых инструментах.
Дом в Богословском переулке, с обителью Ковригина на четвёртом этаже, стоял на месте, невдалеке от Палашевского рынка. Никуда не переехал и, видимо, и слава Богу, никому за четыре месяца не был продан. Знакомый литератор в своём романе сообщил читателям, что в Палашевском переулке и возле него некогда обитали исключительно палачи. Ковригину пришлось разъяснять литератору, что он не прав, что в Бронной слободе, то есть на нынешних Бронных улицах, Большой и Малой, прозываемых шутниками – Бронежилетными, проживали и трудились оружейники, палашёвцы же не были палачами, а выделывали палаши.
Но всё это неважно. Главное, что при сегодняшних московских катавасиях дом стоял на месте и Ковригину было где ночевать. На своём же месте за стеклянным оконцем сидела консьержка и домоправительница Роза, то ли татарка, то ли башкирка, в прошлом, по её словам, – балерина. Фамилия её была Нуриева, а потому хотелось верить в то, что она не выводит легенды из художническо-коммунальных фантазий бывшей дворничихи, а и вправду танцевала с самим Мишей Лавровским. Ковригин с Розой был всегда любезен, подносил ей в два-три календарных праздника цветы или конфеты (иногда под Новый год, по настроению, – и бутылки шампанского), Розой же был признан образцово-сознательным жильцом и джентльменом.
Сейчас они обменялись с Ковригиным осенними комплиментами ("Ты все цветешь!", "Будто плод авокадо. Или манго", "А ты, прямо, Шварценеггер" и т. д.), и Роза сказала:
– Вся летняя почта твоя у меня, как и договаривались. Держи пакет.
И протянула Ковригину пластиковый пакет с конвертами и бумажками в циферках, наверняка со зловредностями платёжных требований.
– Дом-то стоит, – сказал Ковригин. – Не сгорел и не взорван.
– Кому нужно его поджигать и взрывать? – удивилась Роза.
– И никого в нём не убили?
– С чего это ты вдруг, Александр? – Роза взглянула на Ковригина чуть ли не испуганно. – Откуда у тебя такие мысли? Никого не убили.
– Глупо пошутил, – сказал Ковригин. – Одичал в лесу. Давно в Москве не был. А в телевизоре всё время кого-нибудь убивают или взрывают.
– Больше так не шути. А то напророчишь.
– Слушаюсь. И больше не буду.
Квартиру следовало немедленно проветривать, да и уборку в ней неплохо было бы провести решительную. "С уборкой повременим, – постановил Ковригин. – Надо успокоиться и решить, что делать дальше". А дальше, а дальше… Что делать дальше, придумать он никак не мог. Знал одно – чего не делать. А именно: избежать встречи с Антониной и никаких переговоров с объяснениями с ней не вести. Стало быть, придётся уезжать из Москвы. Куда-нибудь. И так, чтобы Антонина не смогла найти его с намерением мириться. Но куда и к кому уезжать? Не в Аягуз же! А ведь норов сестрицы может погнать её и в Аягуз. Ковригин нервно ходил по квартире и повторял про себя: "Как я зол на неё! И на эту… Как я зол! Как я зол!" Сообразил вскоре, что те же слова произносил до него некий литературный персонаж, вызывая улыбки публики. Ну, конечно. Персонаж этот существовал в водевиле Антона Павловича Чехова "Медведь". Ковригину и самому стало смешно.
И стыдно стало. Но желания встретиться с Антониной не возникло.
Ковригин включил телевизор. Показывали Московские новости. Ученая дама пальцами с французским маникюром держала зелёную лягушку, чрезвычайно похожую на ту, что часами раньше выловил удочкой в водах дачного пруда господин с сигарой во рту, но мелкую, размером со спичечный коробок, и сообщила зрителям, что эта зелёная красавица в мгновения ужаса (а что в нашей жизни – не ужас?) вынуждена издавать нервические звуки, способные разрушить барабанные перепонки человека, по стечению обстоятельств оказавшегося рядом. Теперь эта удивительная красавица и певунья, как и многие земноводные, оказалась на грани исчезновения, а потому нынешний год зоопарком объявлен Годом Лягушки, крысы же вместе с тараканами выживут и без опеки общества.
Ковригин в раздражении нажал на кнопку пульта. Дама с зелёной красавицей исчезли. "Что они нагружают меня всеми этими лягушками!" – взволновался Ковригин.
Холодильник, естественно, был пуст. А кто (или что?) может быть злее голодного мужика?
Проживали в Москве и на дачах экстренной досягаемости приятельницы Ковригина, разных для него значений, способные его принять и накормить. Но до их прелестей, столов и яств надо было ещё добираться. К тому же Антонина, сообразительная и следопыт с юннатских пор, могла отыскать его и в дальних пещерах. "А не укрыться ли у Лоренцы Козимовны? – подумал Ковригин. – Были вроде бы какие-то адреса в её визитке… И у неё дирижабельный ресторан…" Но Лоренца Козимовна Шинэль и её дирижабельный ресторан сейчас же были отвергнуты Ковригиным из соображений безопасности. К тому же Ковригин вспомнил, что дирижабель-ресторан Лоренцы назывался "Чудеса в стратосфере", и не исключено, что в меню там водилась лишь тюбиковая жратва космонавтов.
«На всякий случай минут за пять просмотрю летнюю почту, – решил Ковригин, – и схожу отобедать-отужинать к Никитским воротам. Там и шашлычная, и арабский кабак, и „Рюмочная“… Ходу-то всего пятнадцать минут!» Ковригин, случалось, проводил занятия в ГИТИСе и в Калашном переулке у журналистов и изучил Никитскую кулинарную географию.
Из пакета, врученного ему Розой, ничего примечательного на стол не вывалилось. Хотя… Хотя адрес отправителя одного из конвертов Ковригина удивил. Большая Бронная. РАО. То есть бывшего ВААПа. Агентства по охране авторских прав. Нынче – РАО, Российского авторского общества. Им-то чего от него, Ковригина, надо? Из послания выяснилось, что РАО предлагает Ковригину А. А. вступить с ними в деловые отношения в связи с тем, что в городе Средний Синежтур в театре имени В. Верещагина поставлен спектакль "Маринкина башня" по пьесе Ковригина А. А. о Марине Мнишек, а РАО не имеет полномочий отстаивать авторские права и интересы Ковригина А. А. без его распоряжений.
Вот тебе раз!
С места Ковригин сдвинуться не мог.
Чудеса какие-то! Или бред какой-то!
Город Средний Синежтур. Спектакль "Маринкина башня". По пьесе Ковригина А. А.
О городе Среднем Синежтуре Ковригин вроде бы слышал. Были ещё города рядом – Верхний и Нижний Синежтуры. Но каким макаром могла появиться в этих Синежтурах его студенческая пьеса? Если всё это, конечно, не розыгрыш. Никак не могла. Стоп! Стоп! Лет пять назад заезжал из Перми погостить в Москву однокурсник Ковригина Юлик Блинов. Юлий Валентинович, естественно. Тогда он плакался, говорил о своей горестной судьбе в захолустье и выпрашивал у Ковригина какую-нибудь завалящую рукопись для затеваемого им альманаха. "Ничего у меня нет!" – восклицал Ковригин. "А помнишь, у тебя была пьеса с посвящением некоей Н. С. о Марине Мнишек?" – не мог успокоиться Блинов. А сидели они в тепле и в дружеском застолье. "Нет у меня никакой пьесы! – сердился Ковригин. – И тем более нет никакого посвящения! Я их сжег! Я им устроил аутодафе! Перед Историческим музеем! И пепел развеял с Останкинской башни!" – "Э-Э, брось! – возражал Блинов. – Ты не из тех людей, которые что-нибудь сжигают! Давай мне пьесу! Без посвящения! Его-то и надо было сжечь! Мне не хватает текстов. А цель благородная – публиковать молодых. Тут им впридачу именитый москвич в самый раз!" – "Это я-то именитый? – принимался скромничать Ковригин. – С моими-то фитюльками?" – "Именитый, именитый!" – спешил его уверить Блинов. В конце концов Ковригин великодушно расслабился и выискал в завалах пьесу. Посвящение Н. С, естественно, было вымарано. Но ни о какой публикации пьесы и ни о каком альманахе Блинова Ковригин позже не слышал. Но, может, альманах всё же вышел, и его пьеса на ножках тоненьких добрела-таки до Среднего Синежтура?
Вот уж тогда действительно случились бы чудеса!








