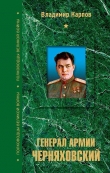Текст книги "Не мечом единым"
Автор книги: Владимир Карпов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Не может быть, чтобы события последних недель были просто стечением случайностей! Уж очень они крепко связаны, направлены в одну цель, исходят из одного центра. Но, с другой стороны, не может быть запланирована и осуществлена такая опасная мера, как ранение! Это явная случайность.
Тут у Юры мелькнула мысль, которая ставила все на свои места: «Наверное, нет в этих делах ничего особенного – замполит просто хороший политработник и благородный человек, он занимается своими обычными делами, и не ко мне одному, а вообще ко всем так внимательно и по–деловому относится. Может такое быть? Вполне. И скорее всего, это именно так».
Но теперь Юрию не хотелось быть для майора одним из многих. Хотелось все же чувствовать себя ближе других к этому умному человеку.
После завтрака, перед началом занятий, прибежал Дементьев и с порога зачастил:
– Ну как ты здесь? Нормально? Ребята тебе привет шлют. Если крови надо, будет кровь!
– Ничего не надо! Царапина! Я хоть сейчас на занятия.
– Ишь, понравилось в героях ходить! Вчера в боевом строю остался, сегодня на занятия пошел!
– Да я не думал ни о каком геройстве ни тогда, ни сейчас.
– Скромность героя украшает! Но ты отлежись. Храп отрабатывай. Слыхал, как о тебе по радио передавали? Гремит наша пятая рота. Капитан Пронякин кум королю ходит!
– Писем из дому нет?
– Не было. Будет – принесу. Я вечерком, после занятий, приду к тебе. У нас сегодня весь день противохимическая защита, в спецгородок поедем. Что передать ребятам? Официально спрашиваю, как комсорг, использую в политработе.
Голубев выкатил грудь, встал в позу этакого силача добра молодца и сказал, как с трибуны:
– Желаю успехов в боевой подготовке! – и помахал рукой, будто перед ним стояли те, к кому он обращался.
– Прекрасные слова! – поддержал его шутку Дементьев.
– И главное – сам придумал!
– Ну, ты раненый, большего от тебя и ожидать нельзя!
– Я же не в голову раненный.
Чуть не сорвалось у Дементьева с языка: «И в голову тоже!», но вовремя спохватился, прямо на лету перехватил эти слова. Но взглядом обожгли друг друга. Юрий уловил, что комсорг мог это сказать. И вообще, в суетливой торопливости Дементьева почувствовал Юрий скрытое намерение сержанта обойти даже короткий серьезный разговор, будто никаких проблем и не было, служба шла и идет нормально.
– Ну мне пора! Чтоб не опоздать на построение. Давай кантуйся за нас всех. Дадут нам сегодня жизни, в прорезиненных балахонах на жаре, представляешь? Ну, привет! – Дементьев шагнул за дверь.
Юрий видел в окно, как он, крепкий, коренастый, бежал через двор к расположению роты, бежал легко, красиво. Голубев, глядя на него, подумал: «Кряжистый, как лесоруб, а летит, как танцор».
После ухода Дементьева Юрий попросил у фельдшера бумаги и конверт, написал домой письмо и не без гордости, хоть и облекал все это в шутливые слова, сообщил, что теперь он настоящий солдат – потому что ранен хоть и в учебном бою, но рана совсем не учебная!
Вечером пришел навестить майор Колыбельников. Голубев поднялся с кровати: он лежал поверх одеяла в больничной пижаме.
– Не вставайте! – пытался остановить его Иван Петрович, вытягивая вперед руки.
– Належался, уже надоело, товарищ майор.
– Врач говорит, все будет хорошо.
– Я чувствую себя нормально.
– Вот и прекрасно.
Юрий ловил взгляд майора. Хотелось понять, только ли затем, чтобы узнать о его состоянии, пришел замполит. Будет ли продолжение прежних разговоров? Очень хотелось спросить, зачем майор сделал из него героя. Его придумка, Юрий отлично сознавал это. Но майор, как и Дементьев, вроде бы немножко лукавил, не встречал взгляд Голубева и, видно, хотел ограничиться обычным разговором, которые ведут с больными, не желая их волновать и беспокоить.
Убедившись, что Колыбельников о серьезном сегодня не заговорит, Юрий спросил сам:
– Товарищ майор, зачем вы все это сделали?
Колыбельников не стал уклоняться, делать вид, что он не понимает, о чем идет речь.
– Так надо было, Юра. Прежде всего для тебя. Я хотел тебе помочь. И помог. Но благородный поступок ты совершил сам. Не сомневайся. Я только тебе подсказал. А все остальное, необходимое для мужественного поступка, ты нашел в себе. И я очень рад этому.
– Недавно вы были обо мне другого мнения.
– Да, было в тебе такое, что мне не нравилось. Оно тебя портило, обедняло. Ты гораздо лучше, чем старался выглядеть. Какой–то туман застилал тебе глаза.
– Я и сейчас не могу в себе разобраться, а вы вот уже во мне все поняли.
– Ты ошибаешься, многое и мне еще неясно. – Майор помолчал и задумчиво добавил: – Но главное я понял.
– Расскажите, пожалуйста! – горячо попросил Юра.
Колыбельникова радовал этот разговор, даже не сам разговор, а то, как Голубев себя вел. Он теперь был не прежний – сам себе на уме, сомневающийся, ироничный; теперь он явно делал шаг навстречу замполиту.
– Как бы тебе, Юра, разъяснить это понагляднее!.. Жизнь человека можно сравнить, например, с листом бумаги, где записаны не только все видимые его поступки, но нанесена еще и тайнопись. Пока этот скрытый смысл не проявлен, все в человеке кажется понятным, простым, очевидным. Но в каких–то принципиальных поступках, как в реактивах, тайнопись проявляется и становится видной между строк, на полях, вдоль и поперек прежде написанного текста. Всего этого так много, что простота и понятность пропадают. Вот эта сложность и составляет личность, определяет характер человека. Абсолютно понятных окружающим и самим себе людей нет. И это естественно – человек в постоянном развитии. Хорошо, четко ложатся все – и тайные, и явные – строки жизни у людей с крепким стержнем. Вкривь и вкось – у людей с шаткими убеждениями и слабой волей.
– Значит, у меня вкривь и вкось?
– Скажу еще кое–что, только не обижайся. Ты нахватал много знаний, или, как принято сейчас говорить, информации. Но у тебя по молодости лет еще нет все объединяющего, необходимого для личности социального стержня. Ты, Юра, был блуждающий и только сейчас становишься ищущим. Это уже хорошо!
– По пословице – кто ищет, тот всегда найдет?
– Очень важно еще – что именно найдет. Мне бы хотелось, чтобы ты нашел себя как будущий советский поэт. Ведь талант – это такая редкость. Он у тебя есть. Надо тебе обрести прочный социальный стержень, и будет порядок.
Колыбельников сознавал: идет очень важный разговор, от которого зависит не только его, замполита, авторитет, но, может быть, и поворот в судьбе этого способного юноши. Воспримет или не воспримет он то, к чему так хочет приобщить его Колыбельников? Понимая это, Колыбельников волновался, но и радовался, что появилось это внутреннее волнение, оно всегда помогало прежде в такие вот ответственные минуты, придавало нужную страсть и убедительность его словам.
– Как же мне обрести этот стержень? – спросил Юрий.
– Важно, чтобы ты этого сам захотел. Ты должен понять необходимость этого прежде всего сам.
– Я, кажется, понял, – сказал Голубев.
– Понял или кажется?
– Кажется, – честно сказал Голубев, потому что не ощущал в себе полной ясности и потому еще, что привык говорить Колыбельникову правду. Не хотел и не мог с ним кривить душой.
– Спасибо тебе, Юра, за доверие, – будто уловив его мысли, сказал майор. – Если бы ты сказал, что тебе все абсолютно понятно, это было бы обидно для меня. Я бы тебе не поверил. Убеждения в одночасье не меняются. Они как создаются, так и меняются в течение длительного времени. Ты, пожалуйста, больше спрашивай меня обо всем, что тебе непонятно. Я постараюсь честно и откровенно отвечать. По–моему, ты убедился еще в нашей первой беседе – на все твои вопросы я говорил без утайки, все, что думаю.
Юра глядел на доброе лицо Колыбельникова и думал: «Не знаю, чем все это кончится, оправдаются ваши надежды или нет, но все же очень хорошо, что вы встретились мне в жизни».
У Юры даже был порыв сказать это майору, но удержала стыдливость показаться сентиментальным, нежелание выглядеть желторотым юнцом; он впервые чувствовал себя мужчиной, который ведет на равных такой вот серьезный разговор.
– Ну ладно, поправляйся. Мне пора, партийное собрание в первом батальоне.
Юра проводил майора до двери, попрощался и долго смотрел вслед Колыбельникову, думая о том, как хорошо быть вот таким убежденным, умеющим разобраться в любых сложностях жизни. «Ну а что мне мешает овладеть всем этим? Лень. Боязнь, что все это слишком сложно, непонятно, потребует много сил. Значит, опять – лень? Нет, еще и подспудные сомнения – а нужно ли мне все это? Можно ведь прожить и без этих сложностей. Значит, опять – лень? Мозговая, мыслительная лень. Откуда же она взялась? Где я ею заразился? Дома и в школе приучали меня жить и трудиться настойчиво. Откуда же это размагничивающее состояние? Когда оно появилось?»
О многом думал Юрий в дни лечения в полковом медпункте. Вспомнил разговоры с дружками, перебирал в памяти свои стихи. Пришел в конце концов к заключению: главное, что запало из бесед с Колыбельниковым, – была формула: «Третьего не дано, только «за» или «против». Юрий и раньше слышал ее, но не доходила она до сердца, не превращалась в руководящую поступками идею. И вот замполит убедил, научил пользоваться ею, и все начало вставать на свои места. Проверяя на этой формуле свою прошлую жизнь, Юрий думал с запоздалым стыдом: «Какой же я был темный! А еще строил из себя борца за правду! Говорил о высоких материях – справедливость, интересы народа! Рассуждал: «у них», «у нас», – а что я понимал в этом? Нахватался верхушек, а разобраться, что к чему, не мог, не было этого вот критерия – «за» и «против».
Когда Голубева выписывали из медпункта, он сказал Бикетову, с которым подружился:
– Скажи, акушер, какой самый большой вес ты помнишь у новорожденного?
– Около пяти кило. Один мальчонка, даже с зубом народился.
– Ну вот, теперь в свою практику можешь записать новый рекорд: семьдесят пять килограммов и все тридцать два зуба!
– Хорош новорожденный! – поддержал шутку фельдшер.
– Я не шучу, Вилен Тимофеевич! Будь здоров!!
9
Иван Петрович позвонил заместителю командира второго батальона по политической части, узнал, как идет подготовка к вечеру поэзии.
Капитан Зубарев доложил:
– Мы уже готовы. Наметили провести его в ближайшее воскресенье после обеда. Только мне кажется, товарищ майор, надо назвать это мероприятие не просто вечером поэзии, а как–то по–другому, под каким–то девизом – «Слава подвигу», скажем, или «Служу Советскому Союзу». Напишем красивую афишу с этими словами.
Колыбельников хотел было возразить, получится именно мероприятие, а он задумал преподнести солдатам уроки настоящей поэзии, высокого искусства. В таком деле не митинговость нужна, а именно интимность – это же поэзия! Да и время выбрали неудачно – после обеда люди будут дремать на этом «мероприятии».
– Может быть, не устраивать собрание с чтением стихов, – спросил Колыбельников, подчеркнув слово «собрание», – а провести вечер отдыха?
Зубарев, видно, был настроен на яркий, шумный праздник поэзии.
– Как прикажете, – сказал капитан сникшим голосом.
Теперь изменилось настроение у Колыбельникова:
– Вы бросьте эти «чего изволите?». Я вас спрашиваю, как лучше. Советуюсь. А вы мне – «как прикажете».
– Лучше, как мы наметили, – твердо и невесело сказал Зубарев.
– Вот и проводите как лучше. Мне ваше соглашательство не нужно.
Колыбельников предполагал сам проверить все отобранные для чтения стихи, но сейчас это выглядело бы уже как недоверие или даже придирка, поэтому он сказал:
– Проверьте сами, что будут читать на вашем вечере. Подберите стихи теплые, доходчивые.
– Будет сделано, товарищ майор, – отвечал сдержанно Зубарев.
– Я приду к вам обязательно. Может быть, и командир будет. Если изменится время, доложите.
Повесив трубку, Колыбельников думал: «Во всем, буквально в каждом деле сказывается характер человека. Вот Зубарев нахохлился, обиделся на мою попытку подправить, он понял идею вечера поэзии по–своему, а я имел в виду совсем не то. Ну ладно, может быть, у него даже лучше получится. У меня тоже ведь опыта нет в этом деле. Интересно, как решил провести вечер майор Кулешов, он порассудительнее Зубарева».
Кулешов докладывал по телефону не торопясь, обстоятельно, глуховатым, немного тягучим баритоном.
– Проведем в ленкомнате второй роты. Поскольку там проявился большой интерес к стихам, вот у них и посидим. Я думаю, товарищ майор, столы убрать к стенам, а стулья поставить в середину ленкомнаты, и не рядами, а так, группками, вроде бы в холле или как в маленьком зале получится. Такой небольшой уютный зал специально для чтения стихов.
– Очень хорошо, – похвалил Колыбельников, радуясь, что Кулешов понял правильно его замысел.
Майор после одобрения стал докладывать с еще большим подъемом:
– И освещение в этот день хотим сделать не как всегда. Верхние люстры потушим, а к трибуне поставим торшер, я принесу свой из дома, чтоб освещало того, кто читает стихи. А на столах вдоль стен, сбоку от стульев, будут гореть настольные лампы.
– Вы удачно это придумали, – сказал Колыбельников. – Только, Степан Ильич, не надо трибуны. Пусть чтецы выходят к торшеру без всякой трибуны. Стоит человек, освещенный во весь рост, и читает; мне кажется, так лучше.
– Хороший совет, – согласился Кулешов. – Так и сделаем…
«Кажется, искренне говорит, – решил Иван Петрович, – мой совет замыслу его соответствует».
– Ну хорошо. А когда вы наметили провести? – спросил майор.
– В субботу вечером, перед кино, на часок пригласим солдат послушать стихи.
– Молодцы! – Колыбельникова этот разговор привел в отличное настроение. – Именно пригласите, а не собирайте и не стройте. Ну а как со стихами?
– Подобрали мы тут. Даже перессорились. Одни говорят: на патриотические надо нажимать, другие – на лирические. Может быть, вы посмотрите, Иван Петрович?
Колыбельников улыбнулся – вот другой разговор, другие обстоятельства, но и здесь не следует проверять, что они выбрали. Надо соблюсти такт. Проявить доверие к их коллективной работе. Можно, конечно, и посмотреть их выбор, ничего страшного нет, но оказать уважение к их труду сейчас будет и правильнее, и тактичнее.
– Вы на правильном пути, Степан Ильич. Действуйте. Я приду на ваш вечер обязательно.
После разговора с замполитами Колыбельников позвонил в областное отделение Союза писателей. Ответил приятный, вежливый женский голос. Колыбельников напомнил:
– Мы обращались к вам с просьбой, приглашали в воинскую часть хорошего поэта…
– У нас все поэты хорошие и нарасхват, – шутливо ответила женщина. – Вам повезло, к нам приехал из столицы известный поэт Виталий Костров. Сейчас я посмотрю, когда у него свободное время.
Пока женщина выясняла, Колыбельников радостно говорил:
– Мы готовы в любое время после занятий, после пятнадцати часов. Как хорошо, что я вам позвонил! Мы знаем Кострова, у него замечательные стихи.
Иван Петрович, может быть, немного преувеличил, сказав «мы», но сам он действительно читал стихи этого поэта, и увидеть его, поговорить с ним было бы очень приятно и интересно.
– Как вы смотрите, если Костров приедет к вам сегодня? Послезавтра он уезжает. Завтра весь день занят.
– Мы готовы принять его в любое время. Сегодня занятия уже подходят к концу.
– Очень хорошо. Присылайте машину к пяти часам.
Колыбельникова немного смущала уверенность женщины, казалось, нужно лично поехать к поэту, может быть, даже упрашивать его, он человек занятой, известный.
– Нам не нужно писать специальное приглашение?
– Не надо. Костров сейчас выступает на хлопковом заводе. Будет у вас обязательно. Мы тут специально занимаемся планированием его выступлений. Только машину не забудьте!
Колыбельников тут же сообщил новость командиру полка. Позвонил старшему лейтенанту Бобрикову, чтобы тот приготовил клуб, микрофон, написал красивое объявление.
Потом Иван Петрович зашел в библиотеку, сказал библиотекарю:
– Татьяна Сергеевна, подберите книги поэта Кострова, после его выступления попросите сделать нам памятные надписи.
– Он приедет к нам? – обрадовалась библиотекарь.
– Да, сегодня после занятий.
– Ой, как чудесно! Сейчас я поищу, что у нас есть. Она ушла в проход между полками, набитыми книгами. Вернулась с тремя тонкими книжечками:
– Вот, только эти. Давно изданы. Новых нет. Иван Петрович взял книжечки, прочитал названия:
«Ключи от неба», «Жажда», «Столичное время».
– Не часто берут, – сказал замполит, посмотрев отметки на приклеенных в книгах листочках.
– Вообще поэзию мало читают, – развела руками Татьяна Сергеевна, – больше детективы да про любовь спрашивают. Правда, последнее время многие приходят и за стихами. В этом месяце особенно стали интересоваться.
«Значит, доходят наши радиопередачи», – отметил про себя замполит.
– Ничего, Татьяна Сергеевна, приучим, привьем вкус к настоящей поэзии. Вот сегодня Костров нам поможет.
Дома Иван Петрович объявил всем о предстоящем выступлении; сыну сказал особо:
– Тебе, Олег, явка обязательна! Послушай настоящие стихи, погляди на живого стихотворца, может быть, постыдишься потом магнитофонный фольклор слушать! Да эти джинсы сними. Оденься почище. Мать, дай ему самый хороший костюм. Не часто в полку встречаются с писателями! Для меня это праздник! Ты, Поля, тоже приходи.
Колыбельников поел быстро, потом долго начищал ботинки, надел китель и брюки, в которых ходил в гости да по вызову больших начальников.
К назначенному времени клуб был полон, собрались не только офицеры и солдаты, пришли жены и дети офицеров. Надежда Михайловна с Олегом и Полей сидели рядом с полковником Прохоровым и его семьей в первом ряду. Иван Петрович ждал поэта у входа. Он оглядел шумный зал, на душе было радостно.
Ровно в пять подкатил сверкающий зеленый газик, шофер командира надраил его для поэта даже лучше, чем для своего полковника. Из машины вышла женщина лет сорока, с косой, заколотой на голове короной. «Наверное, с ней говорил по телефону», – подумал Колыбельников. За женщиной вышел человек в цветастой рубахе–батнике, заправленной в синие джинсы. Иван Петрович ждал поэта, но из машины больше никто не выходил. Замполит оторопел: неужели этот, в джинсах, поэт? Нет, не таким представлял себе знаменитого поэта Колыбельников! Ждал человека в наглаженном костюме с галстуком или бантом.
Однако Костров, не смущаясь своей внешности (видно, она была для него привычной), подошел к майору и, приветливо улыбаясь, сказал:
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Я Костров. Ну что, начнем?
– Пожалуйста, мы готовы, – сказал Иван Петрович, все еще рассматривая поэта. Он оказался не молодым, а моложавым. Голубые глаза, чисто выбритое лицо, хорошо сложен, видно, «молодежной» одеждой поддерживает в себе подтянутость, а лет ему уже далеко за сорок. Поэты, как артисты, борются со старостью; любимцы публики, они молодятся, не желая утратить ее внимание.
Поэта встретили аплодисментами. Когда Колыбельников представил его собравшимся, Костров не пошел к трибуне, а вышел к рампе, поближе к людям, посмотрел на них улыбчиво и доброжелательно.
– Ну что ж, здравствуйте, товарищи. Давайте знакомиться.
В зале прошел гул: кто сказал «здравствуйте», кто – «давайте». В задних рядах крикнули: «Плохо слышно!» Костров подошел к трибуне, снял микрофон и вернулся с ним на край сцены. Движения и жесты его были легки, свободны, чувствовалось – он привык к общению с большими аудиториями.
– А так слышно? – спросил Костров, подняв микрофон к лицу.
– Порядок, – ответили сзади.
Костров улыбнулся:
– Вот и хорошо. Сначала я вам коротко расскажу о себе, потом почитаю стихи. Согласны?
– Согласны! – кричал все тот же солдат сзади.
– Родился в Донецке. Работал на шахте. Учился в школе. Потом в педагогическом институте. Ну а потом грянула война. Служил в авиации штурманом. Летал на бомбардировщиках. Имею награды. Звание – старший лейтенант. После войны окончил Литературный институт и с тех пор занимаюсь творческой работой. Вот и вся моя биография.
Зал отметил скромность поэта радушным гулом и оживлением.
– Теперь о стихах. Писать начал еще в школе. В юности многие пишут стихи. У вас, наверное, тоже есть поэты? – спросил Костров, обращаясь к Колыбельникову.
– Есть! – ответил Иван Петрович и взглядом нашел в рядах Голубева. Юрий, как и его соседи, сидел немного возбужденный, раскрасневшийся не то от духоты в зале, не то от волнения.
– На фронте было не до стихов, но все же я находил время между боевыми вылетами, писал. Писал о своих однополчанах, замечательных летчиках. Вот из этих фронтовых стихов и позвольте мне прочитать «Дунайские волны». Только это не хорошо известный вам вальс, а размышления на мосту в годы войны, после боя.
Костров минуту помолчал, будто вглядывался в свою душу, искал в ней образы друзей далеких военных лет, тональность и ключ к стихам, которые будет читать. В зале стояла тишина. Негромким печальным голосом он стал читать:
А Дунай
совсем не голубой…
Катятся морщины волн гурьбой…
И вот уже Колыбельников не слышал стихов, а видел, как река кипит от взрывов снарядов, как, форсируя Дунай, тонут и гибнут наши бойцы в реке.
Я стоял, пока зажглись огни.
Лишь зажглись,
и в глубине реки
Встали самокруток огоньки…
Это закурили там – ОНИ…
Да, ОНИ,
те вечные юнцы,
В лодочках–пилоточках бойцы!
Больше
в воду
я глядеть не мог,
Я ушел, неся свой огонек.
Я шагал
и говорил с собой:
«А Дунай совсем не голубой,
А Дунай совсем не голубой…»
Это подтвердит
из них любой.
Костров умолк. На какие–то секунды слушателей охватила грусть и щемящая жалость к тем в «лодочках–пилоточках» бойцам, которые остались на дне Дуная. Потом раздались аплодисменты…
Костров поднял руку, прося тишины, а солдаты все хлопали.
– Теперь о вас, туркестанцах, – сказал поэт, и зал, еще не услышав стихи, опять захлопал.
Колыбельников глядел на радостные лица, на блестящие глаза солдат: в них был какой–то особый свет – свет восхищения. И Зубарева он увидел в рядах, тоже возбужденного, праздничного. Колыбельников удивился. «Надо же, как взволнован и оживлен! Что значит сила слова!»
Костров теперь читал радостным, четким голосом. Колыбельников про себя назвал этот тон «строевым».
Поэт читал о боях с басмачами в песках, о подвигах первых красноармейцев и затем о тех, кто служит сегодня, будто свое, военное, и нынешнее – два поколения – поставил рядом.
Воин–туркестанец храбр,
как в те года!
В памяти – начало:
пересверк подков.
Острый шпиль буденовки,
красная звезда…
Красная, победная,
как тогда горит.
Воин–туркестанец…
Это он иль нет?
Шлем… Костюм особый…
Стратонавта вид…
Не подков сверканье —
выхлопы ракет!
Замполит давно уже забыл о джинсах и цветастом батнике Кострова. Почти все стихи, которые читал поэт, Иван Петрович знал раньше, они нравились, но так глубоко в сердце не проникали. Костров не проявлял какой–то особой артистичности, читал даже немного монотонно, подчеркивая ритм стиха. И все же какая–то первозданность, присутствие творца, то, что он сам произносит все это, придавало особую силу словам.
Голубев тоже был удивлен костюмом поэта. Удивлен и обрадован: «Молодец мужик, самостоятельный! Не посчитался с чужим мнением – свое есть!» Как только Костров стал читать стихи, Юра, как и все окружающие, забыл о его костюме. Стихи настолько захватили его, что он никого не замечал, будто сидел один в зале. Вместе со всеми отчаянно бил в ладоши, но слышал только стихи. Они продолжали звучать в нем даже после того, как поэт замолкал. «Вот как надо писать, – думал Юрий и впервые пожалел: – Жил в Ленинграде, там почти каждый день были вечера поэзии, а я настоящего поэта в первый раз слушал в Каракумах!»
Костров читал много, не ломался и не пытался побыстрее уйти. Колыбельников видел, что он устал, к тому же знал: Костров выступает сегодня не первый раз. В зале было душно, даже под вечер стояла тридцатиградусная жара, а Костров все читал, лишь изредка вытирая взмокшее лицо носовым платком.
«Вот это политработник! – восхищался Колыбельников. – Если бы все мои подчиненные так работали! Надо будет на очередном совещании обратить внимание на эту страстность и самозабвенность. Уставший полк после трудового дня в несколько минут преобразился. После первого же стиха – всего каких–то полсотни слов – люди стали неузнаваемы! Сколько энергии в людях, какой огромный запас любви, доброжелательности и отзывчивости – надо только уметь их зажигать! Спасибо тебе, друг, ты многому нас научил, о многом заставил подумать!»
Когда встреча завершилась, Колыбельников был настолько растроган, что сразу не нашелся, как отблагодарить поэта.
– Может быть, посмотрите, как живет полк? Останетесь с нами поужинать? – предложил Иван Петрович.
– Не могу, товарищи. Спасибо. Нам нужно ехать. Подошла Татьяна Сергеевна, подала Кострову книги, попросила:
– Напишите нам несколько слов, для библиотеки.
– Пожалуйста, почему не сделать доброе дело для хороших людей?! – Костров подошел к столу и сделал надпись на каждой книге. – Это очень давние издания, – сказал он, возвращая Татьяне Сергеевне книги.
– Новые до нас не дошли.
– Я вам пришлю.
– Виталий Алексеевич, нам пора, нас ждут, – заторопила Кострова его спутница.
«Неужели он будет сегодня еще выступать? – думал Колыбельников. – Вот это труженик, настоящий боец идеологического фронта».
– Будьте здоровы! – от души пожелал поэту замполит на прощание.
Остаток дня солдаты и офицеры полка ходили какие–то праздничные, говорили о Кострове, вспоминали его стихи, в библиотеке просили его сборники, многие на очередь записывались.