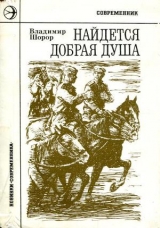
Текст книги "Найдется добрая душа"
Автор книги: Владимир Шорор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
В том, что Славка должен остаться, сомнений не возникало. Но куда его класть, если, на беду, все койки сегодня заняты?
– Ну, пусть со мной ложится, – предложил Мишаня. – Я места совсем мало занимаю. Поместимся как-нибудь.
– Да не беспокойтесь вы! Не надо никуда меня класть. Вы ложитесь, а я так, за столом просижу. Просижу, если вы не против…
«Значит, мы будем спать, а он сидеть в темноте за столом, вот тут рядом? Нет, за кого же он считает нас?»
– Эх вы, творческие, с позволения сказать, люди! – саркастически произнес Борис. – Прошли фронты и войны, а элементарную задачу для детей младшего возраста решить не можете. Учитесь, юноши!
Он распахнул наш огромный шкаф, рванул из-под своей постели запасной матрас, подушку, простыню и скрылся в шкафу. Появившись оттуда, сказал Костикову:
– Лезь, примеряй ложе. Сам король Людовик Великолепный не имел такого. Впрочем, если верить некоторым источникам, король возлежал на таком, но только по большим праздникам.
Кустиков, сияющий и веселый, под общий смех улегся в шкафу и как раз там поместился. Борис мгновенно прикрыл створки, прислонился к ним и торжествующе оглядел нас:
– Никакая проверка не догадается. Понятно? Все вас учить надо, все подсказывать, все воспитывать!..
– Ты, Боря, все же человек гениальный! – возгласил Мишаня.
– Это широко известно, юноша, – небрежно ответил Борис, надел свое пальтишко, кепчонку и поднял воротник. – Ухожу от вас в ночь. И если приедет ко мне герцогиня де Шаврез, скажете: не принимают! Будет умолять, стойте на своем – нет и нет! И если начнет рвать на себе волосы, скажете: отбыл к герцогу Бургундскому!
Он козырнул, круто, по-военному повернулся, пристукнув кирзовыми сапогами, и вышел.
Почти каждый вечер он уходил бродить в одиночестве по Тверскому бульвару. И перед уходом непременно объявлял о таинственной герцогине де Шаврез. То герцогиня должна была приехать в карете к нам в общежитие, то говорил, что сам отбывает к ней, а если его спросит герцог Нормандский, пусть не ждет, а немедленно отправляется в монастырь святого Франциска: он знает зачем!..
Сначала мы посмеивались над этой детской игрой, потом привыкли и, как-то незаметно, включились в нее, сообщали Борису всякие подробности о пребывании у нас герцогини, о тайных беседах с ней разведчика Гриши, а также о появлении в алом плаще и со шпагой неизвестной фигуры, безмолвно удалившейся в сторону бульвара.
…Утром, когда мы проснулись, шкаф был пуст. Мы собирались на лекции, гадали, куда же девался наш гость, сожалели, что от вчерашнего пиршества не осталось ничего на завтрак. И тут в комнату ворвался Кустиков.
– Я торопился… Успел все-таки, очередь была, ребята. – Из своего чемоданчика он стал выгружать хлеб, масло, сахар, колбасу. – Давайте завтракать будем…
– Завтракать, пожалуй, будем, – согласился Борис. – Но благотворительность нам не подходит. Спасибо, конечно, за все, только разорять тебя мы не будем.
И все почувствовали себя неловко. Ну, для первого знакомства, скажем, он мог нас угостить. А так вот, каждый день…
Мишаня между тем принес чайник, и ребята стали молча садиться за стол. Сел и я, думая, что надо покончить с этими угощениями и что-то сказать Кустикову. Но Ленька меня опередил:
– Через день стипендия. Скажешь, сколько мы за все должны. И больше ничего не вздумай покупать. Понял?
Кустиков добродушно посмотрел на Леньку, сказал негромко:
– У меня есть предложение. Давайте жить коммуной. У вас нету сейчас денег, у меня – есть. Вот я вношу в общий котел за всех вас по одной большой купюре. Сколько нас? Раз, два, три… Пятеро? Я – шестой. Итого, кладу на стол шесть купюр. Это – фонд коммуны. И никто из вас никому ничего не должен. Просто я авансирую. Получите стипендию, каждый мне отдаст по одной такой купюре. Всего пять, шестую вношу за себя. Согласны?
Еще бы не согласиться! Ну, как же все прекрасно и, главное, просто. Он вносит, мы рассчитываемся. И никаких забот. Почему же никто не додумался до такой коммуны раньше? Нет, студенческий бог оглянулся на нас и послал своего ангела, этого Костикова, этого Вячеслава Мятежного с его доброй душой и светлой головой, покрытой пшеничными кудрями…
– Коммуна! – воскликнул Мишаня. – Слово-то какое? Чувствуете? Да я стихи об этом напишу!..
– Со стихами, юноша, пока подождем, – сказал Борис. – Надо подумать, как деньги практичней использовать. Что покупать? Сколько? Кому?
– Надо разработать устав коммуны, – предложил Ленька. – Утвердить права и обязанности коммунаров. Чтобы все было по высшей справедливости.
– Ты еще анкеты предложи, заявления, обсуждения кандидатур, – со спокойным ехидством начал Гриша. И вдруг взорвался: – Коммуна – это восторг, песня, гимн: ком-му-на! Правильно Мишанька сказал: стихи писать о коммуне хочется, а ты – устав! В армии мало тебе уставов было.
– Устав мы, конечно, разрабатывать не будем, – сказал Борис. – Но распределить обязанности надо. Кто за продуктами ходит, кто печку топит, кто… В общем, не так уж Леонид не прав, как вам, юноши, кажется.
Время подходило к девяти, мы заторопились в институт.
– Идите, ребята! Идите спокойно, – провожал нас Кустиков. – Я сегодня дежурить по коммуне буду. А придете, все распределим…
Когда мы вернулись, комната была прибрана, пол вымыт, на столе, покрытом чем-то похожим на скатерть, расставлены тарелки и котелки, горкой лежал нарезанный хлеб, а посредине возвышались кастрюли – большая и поменьше, пахло свежезаваренным чаем и чем-то домашним, не то печеным, не то жареным, от чего мы давно отвыкли.
Кустиков сварил суп с клецками, пшенную кашу с маслом, а в заключение, улыбаясь, похохатывая, принес из кухни сковородку, накрытую тарелкой. И когда открыл, мы не поверили глазам – домашние, все в масле, поджаристые, смотрели на нас блины!
– Ну, теперь скажите: сколько вы, каждый, в столовой тратите? – спросил сияющий Кустиков. – Сколько? Ну? А тут, считайте, вполовину дешевле!
– Да какое сравнение? – ораторствовал Мишаня. – Тут будущее человечества просматривается, в коммуне!..
– Да, в коммуне наше спасение, – согласился я. – Только в коммуне…
– А что будем все-таки обобщать? – поставил Ленька вопрос. – Что, кроме обеда, получат коммунары? Кто будет, например, покупать такую прозаическую вещь как мыло? Коммуна? А билеты в кино? А на трамвай? Тоже коммуна? Тогда мы прогорим с первой же стипендии: аппетиты возрастут, а чем удовлетворять? Тоже стипендией?..
– Да что ты нудишь? – рассердился Гриша. – Пока все идет замечательно, а там поживем – увидим.
– Такую возвышенную идею – коммуну! – ты хочешь обюрократить, – поддакнул Мишаня.
– Юные поэтические натуры, – вздохнул Борис, – что с вас взять? Не понимаете вы еще сложных законов экономики и человеческой психики! В общем, так: надо спланировать, что у нас будет. Надо многое предусмотреть, чтобы коммуна сплотила нас, а не рассорила. Ведь дело не в том, чтобы набить живот. Коммуна – великое достижение человечества и мечта передовых умов. И слово это нельзя опошлять. Все должно быть в чистоте!
– В чистоте! – поддержали мы дружно.
И после споров решили, что коммунары всегда и во всем действуют едино, сплоченно, без разногласий, и поддерживают друг друга, как на войне – сам погибай, а товарища выручай. Что же касается хлеба насущного, то коммуна обеспечивает коммунарам двухразовое питание – завтрак и обед. А если кто-то захочет еще и поужинать, то пусть ужинает хоть в ресторане «Арагви», но коммуна к этому отношения не имеет. Не финансирует коммуна бытовые, культурные и прочие нужды. Для бесперебойной деятельности коммуны создается фонд из отчислений от стипендии. И каждый коммунар вносит эти отчисления в строго определенные дни.
Я вместе со всеми влюбленно смотрел на Кустикова и готов был отдать – хоть сейчас! – всего себя для счастья коммунаров. И не знал, не ведал, какое жестокое испытание готовит мне эта коммуна.
На другой день, позавтракав коммунальной кашей, мы пошли в институт, а Кустиков, опять переночевавший в шкафу, остался дежурить. И опять был услужлив, заботлив, старался каждому угодить, посмеивался без всякой причины.
– Нет, – выпалил Ленька в разгар обеда, – так дело не пойдет. Он что, нанялся нам готовить? Ему что, больше делать нечего, как за нами ухаживать? И все, понимаете ли, молчат, всех устраивает такое положение!
Борис едва заметно усмехнулся:
– А ведь я ждал: кто из вас первый отважится? И не зря ждал, человек нашелся.
Было досадно, что этим человеком оказался не я. Ведь что-то чувствовал, что-то созревало и во мне, но слишком медленно. Да и что греха таить – очень уж хорошо было при Славкиных дежурствах, прав Ленька, устраивало, всех устраивало и меня тоже. А теперь вот стыдно!..
– Так Славка же добровольно… – начал было оправдываться Гриша, но Борис так выразительно посмотрел на него, что он тут же стушевался, сказав: – Так я что? Я ничего, как решите, так и будет…
– Бросьте, ребята, – примирительно сказал Кустиков. – Вам же на занятия ходить надо, а мне все равно день проводить – пень колотить, как у нас в совхозе один казах говаривал.
– С ним надо что-то предпринимать, – сказал я. – Старику рассказать о нем, что ли? Вдруг поможет? А?
– Идея, – одобрил Борис. – Завтра семинарский день, возьмем Славку с собой, пусть посидит на семинаре, посмотрит, сколь тяжек путь на Парнас.
– И меня пустят?
– Попробуем заинтересовать твоим талантом. Но не пугайся, когда с молодых гениев при тебе шкуру будут сдирать. Не испугаешься?
– Ннне знаю…
– Отправим его учиться, а как же коммуна? Кто хозяевать будет? – спросил практичный Гриша.
– По коммуне надо ввести дежурство, – ответил Борис. – И сменяться каждый день. Кто за?
Мы не возражали. Каждый получил день, в который обязан был заботиться о завтраке и обеде, покупать продукты, готовить.
В тот же вечер мы с Борисом позвонили Старику, руководителю нашего творческого семинара, профессору прозы и лауреату, рассказали о Кустикове.
– Он что же, так и спит у вас в шкафу? До сих пор?
– Ему некуда больше деться, Константин Максимович.
– Приведите его ко мне, – приказал Старик. – Я приду завтра пораньше. И рассказы свои пусть принесет. Посмотрим, что можно сделать…
И произошел небывалый, не предусмотренный никакими правилами, случай. На той же неделе Старик, публично расхваливший рассказы Кустикова, добился в ректорате и учреждениях, которым подчинялся институт, чтобы Кустиков был зачислен (посреди учебного года, без экзаменов!) на первый курс, и взял его в наш семинар.
Славка Кустиков хотя и продолжал спать в шкафу, но уже по-хозяйски расхаживал по тесным институтским коридорам, запросто заговаривал не только со старшекурсниками, но и с преподавателями и, вообще, вел себя так, будто учился тут задолго до всех нас. И если о нем заходила речь, старшекурсники говорили:
– А, это тот, который в шкафу спит. Его еще Старик расхвалил…
– Как это в шкафу? – удивлялся кто-нибудь непосвященный.
– Ничего особенного, – охотно пояснял Гриша. – Товарищ продолжает традиции Диогена. Тот ведь принципиально проживал в бочке. А этот в шкафу…
Дела в нашей коммуне между тем шли своим чередом. Но жизнь внесла в обязанности коммунаров некоторые поправки. Они-то и привели меня к тяжкому испытанию и черным дням.
– Да зачем каждый день меняться на дежурстве? – спросил однажды нетерпеливый Гриша. – Одно мельтешение с этими дежурствами. Одна путаница, никогда не могу запомнить – кто дежурит за кем…
– Расписание, что ли, составить? – спросил Ленька.
– Еще не хватало! – воскликнул Гриша.
– Не пойму, что же ты предлагаешь? – спросил я.
– Надо дежурить не один день, а сразу целую неделю. Отдежурил, и свободна голова на месяц от всякой картошки-моркошки…
Тут мы едва не рассорились. Мне, Борису и Кустикову была не по душе эта затея. Но три поэта – Гриша, Ленька и Мишаня твердо стояли на своем, (видимо, сговорившись заранее. И мы в конце концов уступили. Пусть будет, как они хотят. Спорить еще с ними…
А через некоторое время кто-то не внес деньги в срок.
– Не беда, – сказали чуть не в голос Гриша, Ленька и Мишаня. – Внесет позднее, деньги в коммуне пока что есть. На то и коммуна существует, чтобы выручать.
Мы согласились и на этот раз. А дальше пошло само собой: если у кого-то не оказывалось денег, вносил, когда появлялись.
– Да зачем возиться с этими взносами? – спросил реформатор Гриша. – Предлагаю новую и более прогрессивную форму. Пусть каждый, по очереди, во время своей недели, кормит коммунаров. Твоя неделя – ты и заботься, ты и деньги добывай и пищу покупай. Кончилась неделя, тебя заменяют.
Опять спорили, опять был раскол – трое на трое. И опять мы пошли на уступку. И хотя коммуна продолжала по-прежнему существовать, во что-то в ней изменилось. Теперь каждый в одиночку бился над тем, как прокормить товарищей, и с явным облегчением спихивал дежурство другому. Приближалась моя неделя, а я «сидел на мели» – гонорар за очерк, переданный по радио в моем родном городе, все не приходил. И когда Кустиков объявил, что дежурство его закончилось и он передает заботы о коммунарах в мои руки, я выступил с речью.
– Коммунары, – сказал я торжественно, – не судите меня строго. Я не готов к высокой и благородной миссии. Проклятая бухгалтерия не шлет деньги за мою высокоталантливую работу. Простите меня, грешного, и отложите дежурство на неделю. Кто выручит? Кто подменит меня? А за мной, считайте, двойное дежурство.
Они сдержанно помолчали. Потом Борис произнес:
– Готов откликнуться на твой призыв, хотя и без особого удовольствия.
– А если «без удовольствия», мне твоя помощь ни к чему. Кто выручит с радостью, как настоящий друг, как истинный коммунар?
– Не понимаю, – пожал плечами Борис, – чем ты недоволен еще?
– Твоим отношением, – запальчиво сказал я. – Коммунары должны выручать друг друга с энтузиазмом, с горящим сердцем! Кто выручит? Есть желающие?..
– Я выручу! – истово выкрикнул Мишаня, и в серых удлиненных глазах его я увидел ту чистую, но все-таки мальчишескую готовность к подвигу, которую видел у некоторых необстрелянных солдат и которой, знал, хватает, увы, совсем не надолго. Поэтому сказал, глядя Грише в глаза:
– Юность идет в атаку, а старые солдаты отсиживаются? Так?
– А я не альтруист, – вызывающе ответил Гриша. – И за твою расхлябанность страдать не намерен.
– Конечно, Витя, – сказал Ленька, – тебе следовало больше заботы проявить. Ты человек энергичный и мог не попадать в такое положение. Сам виноват…
Я хотел сослаться на правила коммуны, но что-то помешало мне сделать это. Должно быть, я понимал – нельзя беспощадно эксплуатировать эти святые, эти прекрасные правила, а надо самому быть достойным этих правил, не нарушать их. И все же произнес, ни к кому не обращаясь:
– Ничего, будет и на нашей улице праздник!..
Забрал свои тетради, словарь, учебник и пошел готовиться к контрольной по английскому.
А через неделю я оказался в еще более затруднительном положении: деньги за очерк так и не пришли, занять было абсолютно негде. Пришлось поговорить с Борисом, извиниться, попросить, чтобы отдежурил за меня. Он – ну и душа человек! – немедленно согласился, не стал меня ни в чем упрекать, а только предупредил:
– Смотри, совсем не завязни. Как выкручиваться будешь? Боюсь я за тебя что-то…
Я ответил, что скоро получу гонорар.
– Ну, ну! – сказал Борис и посоветовал: – Ты бы еще подстраховался. Всегда надо иметь запасной вариант, на все случаи жизни…
«Запасная точка наводки, – вспомнилось из моего артиллерийского прошлого, – запасная позиция…» Конечно, Борис прав. Но где ее взять, эту запасную, если у меня нет даже позиции основной? Где?
Всю неделю я пытался что-то изыскать, перетряхивая свой чемодан, в котором, кроме необходимейших и уже поношенных вещей никому, кроме меня, ненужных, ничего не обнаружилось. Правда, был тайник. Но…
Я написал в родной город, в бухгалтерию радиовещания, справлялся о гонораре, просил немедленно выслать. Съездил к матери Севки, моего погибшего товарища, посидел с нею в горестном молчании перед увеличенной фотографией, с которой смотрело круглое, но сурово нахмуренное личико с коротким «политзачесом». Был виден и единственный кубик на полевых петлицах Севкиной гимнастерки. Вспомнилось: вместе мы получали эти командирские кубики и на радостях побежали сниматься. Нет, язык не повернулся попросить немного денег у этой одинокой женщины. А ведь именно с такой целью я к ней и поехал. Но бывают намерения, которые твоя совесть запрещает осуществлять.
Написал я и репортаж для молодежной газеты – о подготовке спортивных площадок и стадионов к весне. Ходил два дня по этим стадионам и весь вечер писал в пустой аудитории.
– Пишет, – понимающим полушепотом произносили входившие ребята. – Творит!.. – и тихо прикрывали дверь.
Если бы знали, что я творю! Такого рода творчество, естественное на журналистских факультетах, уважения у наших студентов не вызывало: ведь это же никакая не литература! Разделяя такой взгляд, я все же не мог отказаться от репортерских заданий молодежной газеты – репортажи мои иногда печатали и немного за них платили. Но в этот раз моя работа почему-то в газете не появлялась, хотя обещали поместить.
За день до моего дежурства я изменил одному из своих главных правил: не обращаться за деньгами к людям малознакомым. На переменах я подходил теперь к студентам, которых едва знал и, стесняясь, краснея, без всякой надежды, просил до стипендии… хоть что-нибудь. Будто понимая степень моего падения, никто ничего не дал мне, кроме сердобольной Лары, моей соседки по столу в аудитории, ссудившей два рубля. Эти-то рубли опять заставили подумать о тайничке в клеенчатом довоенном бумажнике, хранившемся на дне моего чемодана. Теперь я уже не мог не думать о нем, хотя понимал, что нарушаю слово и, пожалуй, предаю память о самых близких людях.
…Давным-давно, еще до войны, на какой-то там день рождения, мама и сестра Людмила подарили мне по тяжелому серебряному рублю. Такие рубли выпускались в начале двадцатых годов, а потом почти исчезли. На каждом рубле был отчеканен кузнец, яростно занесший молот над наковальней, плуг, пятиконечная звезда и слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А по ребру монеты – «восемнадцать граммов чистого серебра». Чистого серебра! Самого чистого…
– Это тебе на память. На самый черный день, чтобы, сохрани бог, его никогда не было, – сказала мать.
А Людмила, поцеловав меня, почему-то заплакала. Неужели она своей чуткой душой предвидела мои черные дни?.. Может быть, из-за слез моей любимой сестры, я дал себе слово не тратить это серебро никогда, беречь, как память о маме и доброй моей сестре.
И сберег! Где только не побывали со мной кружочки чистого серебра, в каких городах и странах, куда заносила меня война с нашим минометным полком. А теперь, вот он, наступил черный день. Пожалуй, самый черный в моей жизни. Даже в окружении, казалось, было легче: рядом со мной шли на прорыв товарищи, я никому не был должен, ни перед кем не чувствовал себя виноватым. И я не знаю ничего хуже, чем сознавать себя виноватым, не выполнившим своих обязательств.
И я решился. Достал из тайника серебро и дежурство принял. Утром, поднявшись раньше других, взял деньги и пошел за покупками. Кассирша взглянула на серебряные рубли удивленно, едва заметно усмехнулась и сразу же спрятала их в сумочку, а не в кассовый ящик…
Вернувшись в общежитие, я положил на стол буханку белого хлеба, пачку сахару, пакетик сливочного масла и ушел на кухню за кипятком.
– И это все? – спросил меня Гриша в напряженной тишине.
Я не ответил.
– Хватай скорее, а то прозеваешь! – пытался шутить Борис, но Кустиков, Гриша и Ленька мрачно промолчали.
– Маловато, хоть бы картошечки сварил, что ли, – протянул Мишаня.
– Довольствуйся, юноша, малым. И тебе воздается. Воздаются в обед. Так, товарищ дежурный? – Борис выручал меня изо всех сил.
Но я опять ничего не ответил. Да и что мог я сказать, если остались какие-то копейки. Но есть еще время. Еще может прийти перевод. Может приехать кто-то из однополчан. Может, в конце концов, произойти чудо.
И вместе со всеми я отправился в институт.
Резко и неожиданно в тот день звенели звонки, за кафедрой третий раз сменился преподаватель, шла последняя лекция. Скоро идти в общежитие. Что я буду говорить ребятам? Может, принесут перевод?
Не принесли.
И когда, задержавшись позже других в институте, я вошел в нашу комнату, все коммунары были уже там.
– Ну, вот, – сказал Гриша, – явился наш первый герой-любовник. Будем начинать представление, публика давно ждет…
– Где обед? – спросил Ленька.
– Да, что-то не пахнет жареным, – вздохнул Кустиков.
– Жареным как раз пахнет, – со значением произнес Гриша. – Паленым пахнет. Паленым! Вот чем пахнет, – почти выкрикнул он.
Все стали что-то резко говорить, только Борис молча и сострадательно смотрел на меня. Он знал, как я бился в эти дни, понимал, что со мной происходило, и, кажется, хотел мне помочь. Но что мог он сделать? Что? Если я виноват.
– Ты всех нас обманул, – гневно начал Ленька. – Товарищи так не поступают!..
– Мы верили тебе, как себе, даже больше. Я считал – ты лучше нас, а ты оказался хуже всех! – Это перешел в наступление Кустиков.
Жестокие слова, как удары, сыпались на меня со всех сторон. Ну, кто еще ударит? Кто следующий? Кто больнее? А в общем, так мне и надо. Заслужил!
– Не знаю, как ты на фронте себя вел, не верю тебе!
Неслыханная дерзость и оскорбление: это сказал тыловой мальчик Мишаня. Тот самый, который часами слушал мои рассказы о войне и всяких передрягах, в которых я побывал, и смотрел на меня восторженно. И он же нанес удар ниже пояса.
– Ну, ты насчет фронта полегче, – угрожающе сказал я. – А то ведь и схлопотать можешь!
– А за что схлопотать, если он прав? – спросил Кустиков. – Ты некрасиво поступил, Витя. И нечего на Мишаню налетать. Сам знаешь, что на фронте за такие поступки полагалось. Не забыл, наверно?..
– А забыл, так напомним: за обман товарищей у нас одного к стенке поставили! – Это выпалил Ленька.
– Правильно, – поддержал Гриша. – У нас в разведке, в сорок третьем, тоже был случай…
Если уж он заговорил о разведке, значит, совсем плохи мои дела, значит, призывает на помощь своих погибших разведчиков, растравляет себе душу. Но его вдруг нетерпеливо перебил Борис:
– Погоди! Все погодите! Не так уж он виноват, как вы тут расписываете. Он старался изо всех сил, ему сейчас хуже, чем нам…
– А ты не заступайся! Если он твой друг – нечего заступаться…
– Ну-ка, помолчи! – глаза добрейшего Бориса сверкнули гневом, и он сплеча ударил кулаком по столу. – Вы войну вспоминаете, чтобы растоптать его. И я могу кое-что вспомнить. Вам страшно станет. Вы не видели этого, как люди теряли человеческий облик за котелок баланды, за кусочек свекольного жмыха, чтобы выжить. И все равно такие не выживали. Из бараков каждое утро мертвецов выносили, с нар стаскивали. А в углу, такой угол в лагере был, крысы их обгрызали…
Стало тихо. У Бориса, всегда спокойно-насмешливого и невозмутимого, подрагивала нижняя губа и глаза будто остекленели. Может быть, увидел он вновь этих мертвецов, отошедших за ночь на барачных нарах, увидел очередь за баландой и того мордатого фрица, который, забавляясь, ремнем сшибал с пленных пилотки. А если ремень не попадал по пилотке, звучно шлепал по небритым и грязным щекам пленных. Борис что-то сказал этому фрицу – зачем, мол? И тогда фриц перехватил ремень и пряжкой, размахнувшись, ударил Бориса по лицу, раз и два, и еще, пока он не упал в крови. Об этом и еще многом, пережитом в лагере, он рассказывал только мне.
– Ну, вот что, – овладевая собой и стараясь говорить спокойно, сказал Борис. – Время еще детское. Еще можно десять обедов приготовить, как сказала бы моя знакомая герцогиня де Шаврез…
Услышав о герцогине, все заулыбались, напряжение спало, и Борис, почувствовав перелом в настроении, продолжал:
– И что мы все кричим? Всегда обедали в пять, не раньше. А сейчас три часа. Пусть Витька использует время и заботится, пусть готовит.
– Было бы из чего, – усмехнулся Гриша, – приготовил бы. Ну, пока наш дежурный телиться будет, съезжу-ка я, на всякий случай, к Братухе-майору. Да-авно не ездил. Надо узнать, какие о т т у д а поступают сведения… – Любил иногда Гриша так, между прочим, намекнуть, что высокопоставленный Братуха-майор доверяет ему по старой дружбе важные военные секреты, особенно из области разведки.
– Пойду старославянский маленько позубрю, – сказал Ленька. – Завтра у нас контрольная…
Вышли куда-то и Кустиков с Мишаней.
– Давай действуй! – сказал Борис. – У тебя же есть какие-то знакомые. Объясни ситуацию. Может, помогут?
– Ты прав, надо действовать.
И хотя никаких планов у меня не было, я оделся, вышел на бульвар и пошел к Никитским воротам, к памятнику Тимирязеву. С таким же успехом я мог пойти в другую сторону – к памятнику Пушкину, к улице Горького. Меня охватывало ожесточение. В таком состоянии человек становится, как говорят медики, взрывчатым, опасным для окружающих и может совершать поступки, ему совершенно несвойственные.
Но по мере того как я шел, это состояние проходило, я слегка успокоился и стал думать, где найти человека, который сразу даст мне нужную сумму, даст легко и с удовольствием. Ведь где-то же он существует, просто его надо отыскать. Но у меня совсем мало времени на поиски! И почему Грише так повезло с однополчанами? Сколько их оказалось в Москве! А мои однополчане далеко-далеко, в городах больших и самых окраинных – Хабаровске, Владивостоке, Чите, Благовещенске. Ведь я увольнялся после боев в Маньчжурии, с границы, где стоял наш стрелковый корпус. Поэтому мои однополчане остались там, кто в Приморье, кто еще дальше – на Сахалине, на Камчатке… А как было бы хорошо, окажись они в Москве. Как бы распрекрасно я жил, появись тут хотя бы наш комиссар Киричук.
«Ну, что, Витя, – спросил бы он, – захандрил? Не годится! Ах, денег нету? Не беда, у меня есть! И не вздумай стесняться. Ты мне как брат, после всего, что мы испытали. Точно, как брат. Родных моих братьев не осталось, один под Будапештом лежит, другой под Великими Луками. А третьего, мальчишечка еще был, повесили у нас в Шепетовке, партизанил. Каково мне? Представляешь? А я держусь. Давай-ка и ты, лейтенант Сибирцев, подтянись! Дорога у нас дальняя, шагать будем до полной победы…»
Эх, Киричук, Киричук… Где ты сейчас, Петр Павлович? Бесстрашный, подвижный, в кожанке с трофейным «вальтером» на ремне. Как мы верили его слову в самых тяжелых боях, как стремились подражать ему, а был он всего-то лет на пять старше меня, двадцатишестилетний комиссар минометного полка, самый молодой из комиссаров полков на всем нашем фронте. Говорил же он мне:
«Трудно будет в институте, напиши мне на полк. Всегда помогу, все мы поможем. Только ведь ты один можешь написать про нас, минометчиков, книгу, оставить память об этих годах, о нас всех…»
Не написал я комиссару ни разу. Да и полка уже нет, давно расформирован. А сам Киричук несет службу где-то на Камчатке.
Или, скажем, другой мой однополчанин, Шура-профессор, наш начбой, начальник боепитания. Война застала его уже доцентом университета, кандидатом математических наук. На привалах, в дни затишья, на переформировках, отоспавшись, он склонялся над маленькими листочками, исписывал их вдоль и поперек цифрами и буквами – латинскими, греческими, арабскими. Не раз, в землянке, я видел, как, лежа на спине и глядя в низкий бревенчатый потолок, он беззвучно шевелил губами.
– Считаю, – объяснял он, едва заметно улыбаясь. – Задачки придумываю. И стараюсь решить…
Свои задачки он блестяще решил. Уже в самом конце войны вызвали его с фронта в Москву. Через месяц он ненадолго вернулся в полк. Оказалось, защитил докторскую. И вскоре уехал от нас – преподавать в военной академии.
«Это все не трудности, Витечка, – сказал бы он. – Для ученого, как и для писателя, вообще для человека творческого, трудности в сфере духовной, интеллектуальной. Творческие трудности. А на трудности быта не следует обращать никакого внимания. Для науки, для литературы тоже, они значения не имеют. А посему умей смотреть вперед и в глубину. Что же касается поддержания бренного тела, то есть бессмертного духа в бренном теле, ты же знаешь: мой дом – твой дом, как говорят у нас на Кавказе друзьям».
Да, так наверняка сказал бы Шура-профессор, открывший нечто новое в теории каких-то бесконечно малых величин. Шура, которого, как выяснилось, знают математики едва ли не всех стран. Он показывал мне оттиски работ, которые прислали ему ученые Франции, Швеции, Соединенных Штатов, Англии и даже Аргентины. С надписями – уважаемому русскому коллеге с чувством признательности. Что-то в этом роде, – он переводил мне…
И уж совсем было бы хорошо, если бы в Москве, а не в Хабаровске, поселился мой первый литературный наставник капитан Шестаков, редактор нашей дивизионной газеты. Это он, Иван Кондратьевич Шестаков, напечатал мои первые рассказы в газете «Вперед, за Родину!» И он первый поверил, будто я смогу написать что-то настоящее о пережитом нами на войне.
«Крепись, Малыш, – сказал бы он. – Крепись, лейтенант! Сейчас, руководящей рукой, мы поправим твои дела. Укрепим твою, так сказать, финансовую сферу. И сделаю это лично я, как лицо материально ответственное…»
Он звал меня «Малыш» потому, что был старше лет на десять. В свою речь всегда он вставлял готовые газетные фразы, произносил их серьезно, с оттенком торжественности. Не сразу и не каждому была заметна его слегка замаскированная самоирония над этой торжественностью и высокопарностью. Помню, я прискакал однажды из полка в штаб дивизии с пакетом, столкнулся с Шестаковым, мы тогда были еще мало знакомы. Он внимательно оглядел моего косматого монгольского мерина, спросил важно, будто статью из своей газеты начал читать:
«Это и есть ваш боевой конь, на котором вы поедете непосредственно в бой с ненавистным фашизмом?»
Я озадаченно взглянул на него – что за олух такой? А еще редактор!.. Но в золотисто-карих глазах его подметил такое тонкое лукавство, такую веселую улыбку, какие встречаются редко. И свойственны натурам умным, глубоким, прячущим почему-то свои настоящие качества под какой-то дурашливой маской. Да, представляясь олухом, он устраивал себе для потехи небольшой спектакль, беззлобно и весело дурачил меня, разыгрывая, испытывая на чувство юмора. А я чуть было не влип, приняв его отштампованные газетные изречения всерьез. Но замысел его все же до меня дошел, и, в тон ему, я ответил:
«Конь – огонь. Любит ласку, чистку и смазку. Умница конь. Может дать интересное интервью вашей газете. Присылайте корреспондента!» – «А что, это идея! И никакого корреспондента не надо. Почему бы вам лично не написать в беспощадную к врагам, родную солдатскую газету, как бойцы вашей батареи заботятся о конском составе? Поделиться, в смысле положительного опыта… Вот вам, товарищ лейтенант, боевое корреспондентское задание».



![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)




