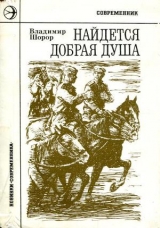
Текст книги "Найдется добрая душа"
Автор книги: Владимир Шорор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Гребцов не терпел, если грубо тянули его к редактору. И Никаноров предвидел – Гребцов рассердится, станет официально-замкнутым. Но тот лишь укоризненно вздохнул:
– Эх, Миша, Миша… Мне стоило усилий выбить эту командировку именно для тебя. Главный хотел послать какого-то писателя. А я говорю: зачем нам варяги, когда есть свой знаток Голодной степи? Напомнил: ты открывал эту тему читателям. Сколько – уже лет восемь прошло? – а я помню твои очерки. Особенно «Покорители пустыни»…
Никаноров беспомощно и благодарно улыбнулся, а Гребцов продолжал:
– Неужели тебе не хочется опять туда съездить? Посмотреть, что стало? Встретиться с теми ребятами, первыми строителями, узнать, как сложились их судьбы? Увидишь город, где стояли вагончики и палатки. Увидишь плантации и сады, где была пустыня…
Слова его точно попали в цель. Какой журналист не мечтает вновь попасть к людям, о которых писал когда-то?
А Гребцов победно завершал свое наступление:
– Да что изменится с твоим Подшиваловым за две недели? Вернешься – обещаю твердо! – сразу поедешь в Сибирь.
– Убедил! – сдался Никаноров.
– Еще не раз спасибо мне скажешь. Благодарность могу принять и натурой. Привези-ка, старик, дыньку из Гулистана. Ах, какие там дыни! Упоение…
Никаноров помнил, что Гребцов и в студенческие годы слыл гурманом. Однако над ним не подсмеивались, а относились к маленькой его слабости сочувственно. Знали: отпечаталась в его памяти навсегда ленинградская блокада. Гребцов перенес ее подростком, полуживого, в страшную зиму сорок второго года, вывезли его в Узбекистан. И с тех пор неповторимо ароматный запах свежеразрезанной дыми, урюка, винограда связывался для него с выздоровлением, с возможностью жить.
Никаноров заверил, что дыню привезет, и ушел успокоенный, довольный.
На другой день он уже глядел в окно самолета, плывшего на высоте десять тысяч метров где-то над Аральским морем.
8
А когда, через две недели, радуясь успешной командировке, встрече с Москвой, с дочками, нагруженный дынями, он появился в редакции, ему вручили телеграмму.
«…По силе возможности, – прочитал Никаноров, – Иванов просит приехать плохо с ним совсем плохо Дарья Матвеевна…»
Устало он опустился на стул. Потом, мысленно казнясь, пошел в кабинет Гребцова договориться о командировке, а заодно отдать дыни.
– Привез? – воскликнул нежно Гребцов. – Ну, старик, ты просто меня потрясаешь. Ай, спасибо, вот уж спасибо!
Он вдруг осекся, взглянув на Никанорова.
– Почему такой мрачный? Что произошло?
– Человек один умирает. Когда-то, можно сказать, меня спас.
– Молодой?
– За шестьдесят.
– Ну, старик, что же тут… Тут ничего не скажешь. – Сочувствуя товарищу и желая хоть чем-то его утешить, умный Гребцов добавил: – Понимаю тебя. Я сам недавно свояченицу хоронил…
Никаноров получил командировку и поехал в транспортное агентство. Билеты на день вперед были проданы. Он пробился к начальнику, показал телеграмму, корреспондентское удостоверение, – и билет нашелся.
Назавтра он уже подъезжал к знакомому дому. Еще не выходя из машины, понял, что опоздал. У открытых настежь дверей толпился народ и стояла крышка гроба, обтянутая кумачом. Никаноров прошел под любопытными взглядами женщин в черных с кружевами платочках, мимо крестящихся старух, поднялся на крыльцо и увидел выплаканные глаза Дарьи Матвеевны и всю ее фигуру, подавшуюся к нему. Он обнял ее за сухие твердые плечи, поцеловал в пахнущие какой-то степной травкой волосы.
– Не застали, – сказала она, прислоняя скомканный платочек к глазам. – А уж как ждал-то он вас! Все говорил – вот лейтенант мой нагрянет. Спасибо, что проститься приехали. Там он…
Никаноров, неслышно ступая, прошел в горницу и на раздвинутом столе, за которым Иванов еще так недавно угощал его, увидел своего старшего ездового. Он лежал с закрытыми, сильно запавшими глазами. Лицо его, как и у всех покойников, которые долго мучились перед смертью, выражало страдание. На груди умершего лежала картонка с привинченной Красной Звездой, гвардейским знаком и пятью медалями. Никаноров помнил эти начищенные медали на гимнастерке Иванова, и от того, что их уже отделили от хозяина, ощутил безысходную скорбь. Он постоял, поглядел на венок с твердыми жестяными листьями и свернувшейся лентой, на которой были видны только два слова «правления и… организаций», и ему захотелось вновь увидеть Иванова молодым и веселым. Он взглянул в зеркало шифоньера, но наткнулся глазами на плотную материю, которой оно было наглухо занавешено.
В горницу входили старухи, крестились, вздыхали, качали горестно головами. Вошел по-хозяйски немолодой татарин-фотограф, расставил громоздкий штатив с допотопным черным аппаратом. Дарья, две взрослые дочери с мужьями, сорокалетний сын с женой и еще какие-то женщины – видимо, вдовые сестры – выстроились у гроба. Впереди поставили детей: веснушчатых девочек с косичками и мальчишку в топорщащейся школьной форме. На руках держали малышей – совсем грудного и годовалого. Фотограф взял картонку с орденом и медалями, выставил сбоку, чтобы попала в объектив.
Никаноров незаметно вышел, присел возле дома под окном. Из горницы раздались причитания:
– Ой, да на кого же ты нас спокинул-то?..
Это заголосила Дарья. Ей, вопросом же, ответила сестра Иванова:
– Ой, да как же мы станем жить-то?..
К Никанорову подошел Водолахин, инструктор райкома. Был он человеком добрым, чувствительным и горевал неподдельно. Но так как пришлось ему написать в своей жизни много протоколов, решений, резолюций и всяких служебных бумаг, то мысли свои, порой выражал он словами, отформованными в давно устоявшиеся фразы.
– Да, – вздохнул он, – замечательного потеряли товарища. Безвременно от нас ушел. Старейший труженик. И как смело руководству помог… – Тут Водолахин заговорил по-другому: – Этого гада Подшивалова убрать с дороги.
– Как убрать? – не повял Никаноров, уверенный, что уж теперь-то напишет о Подшивалове с таким гневом, с каким, пожалуй, не писал еще ни о ком. В память Иванова.
Оказалось, что из областного города, где Иванов вручил начальству бумаги, откликнулись без промедления.
– Понаехало к нам комиссий и ревизоров разных, – говорил Водолахин, – просто навалом. И из обкома, и из народного контроля, и из следственных органов. Раскрутили узелок. Дня три уж, как вытурили Подшивалова. Теперь сидит в районе, суда ждет.
…После похорон и поминок Никаноров возвращался самолетом в Москву. Он откинул высокую мягкую спинку кресла, прислонился к ней головой и не заметил, как заснул.
И снилось ему, будто они опять всей батареей скачут в эту проклятую гору, и кони выбиваются из сил, и нахлестывают их измученные, разъяренные солдаты, и помогают толкать и тянуть непосильно тяжелые минометы. Но ничего, решительно ничего не получается. И никак он не может выполнить самый главный приказ – открыть огонь по врагу. И вдруг он увидел Иванова. Тот улыбался ему и как тогда, в пустыне перед Хинганом, протягивал флягу с водой.
Найдется добрая душа
Памяти Бориса Бедного —
Человека, писателя, друга.
В те времена студенческое общежитие помещалось во дворе нашего единственного в мире института. И после лекций мы приходили к себе в комнату, чтобы вместе, впятером, идти в столовую. Но в тот раз, за два дня до стипендии, мы долго не расходились, не зная, где же достать денег – хотя бы самую малость – на обед.
– У тебя, Боря, резервов никаких не осталось? – спросил я.
Борис был старше нас, хозяйственней, расчетливей, что ли, он как-то ухитрялся дотягивать до стипендии и часто выручал то одного, то другого.
– Нынче, Витя, у меня пусто, – помотал он головой. – Самому в обрез. Впрочем, погоди!..
Он похлопал по карманам черных, в аристократическую полоску, брюк, заправленных в старые кирзовые сапоги. В карманах что-то тоненько звякнуло. Борис нашел две-три монеты, обшарил свой поношенный пиджак, вынул сложенные вчетверо разноцветные бумажки и вдруг засмеялся:
– Карточки… Смотри-ка, продуктовые карточки завалялись, не отоваренные даже…
Да, карточки… В этих карточках была вся наша скудная месячная норма продуктов. На маленьких талончиках – там и хлеб, и крупа, и жиры – четко обозначено: 500 грамм, 100 грамм, и даже 10 и 5 грамм. И ни грамма больше! Как их ценили, эти продуктовые карточки, как берегли, как боялись потерять!
– Выбрось, зачем они? – сказал Борису первокурсник Мишаня, самый младший из нас.
Месяца три назад карточки отменили, хлеб, масло, колбасы – все стало продаваться в магазинах свободно. Бери, покупай, ешь на здоровье. Но денег у нас почти не было, и жизнь в то время оставалась трудной, такой трудной: еще лежали в развалинах многие наши города со взорванными и разбомбленными электростанциями, заводскими цехами, вокзалами, со скелетами сгоревших вагонов на запасных путях. И в этих городах люди ютились в землянках и глинобитных халупах. Детские дома были переполнены сиротами – их отцов, их матерей взяла война. А в госпиталях еще долечивались подорвавшиеся на минах, пробитые пулями и осколками, безногие, ослепшие, изувеченные солдаты. Их участь миновала нас совершенно случайно.
Зная все это, мы никогда не роптали, хотя жили впроголодь. Стипендия у нас была маленькая, куда меньше, чем у студентов, скажем, инженерных, медицинских или сельскохозяйственных вузов: институт наш считался вузом третьей, самой низшей категории.
Борис стоял передо мной и задумчиво смотрел на продовольственные карточки.
– Нет, – сказал он, – выбрасывать их нельзя, сохраню на память. А деньги, Витя, возьми! – он протянул мелочь. – Может, булочку купишь… Или еще где-нибудь займешь, вот и обед. С миру по нитке…
– Кому на булочку, кому на прогулочку, – срифмовал Гриша. – А у меня даже на булочку нету…
Он посмотрелся в карманное зеркальце, причесал смоляные кудри, поправил растянутый воротник старого свитера:
– Даже на картофель жареный не хватает…
– Нам с Витей уже три дня не хватает, – вызывающе сказал Мишаня. – И мы ничего, не объявляем миру о своем героизме. Правда, Витя?
Мишаня как бы приглашал меня одернуть Гришу, вступить с ним в словесный бой. Но с Гришей, завзятым острословом, так просто связываться не имело смысла.
– Вы люди железного склада, – ехидно ответил Гриша. – А я не стоик. И отнюдь не герой…
Почти всю войну Гриша провел в полковой разведке, заслужил три ордена и много медалей, но никогда их не носил и почему-то любил прикидываться робким и даже трусоватым. Устраивал, по выражению Бориса, маленький цирк. А Мишаня, единственный из нас пятерых, на фронте не был: сначала не подошли года, потом работал на военном заводе, делал снаряды и патроны. И кто знает, может быть, теми самыми патронами мы – и Борис, и Гриша, и Ленька, сейчас молчаливо сидевший по-турецки на своей койке, – еще совсем недавно стреляли по фашистам. А мне пришлось стрелять еще и по японцам, в Маньчжурии.
– Нет, я не герой, братья студенты, – продолжал Гриша. – И не судите меня строго, что покидаю вас в трудную минуту. Я поеду к Братухе-майору. Там тепло, светло и мухи не кусают. А на столе меня ждет семейный обед. И, как вы понимаете, из трех приличных блюд…
Когда Гришу прижимало безденежье, он сразу вспоминал своих однополчан: то какого-то Братуху-майора, служившего теперь в Генеральном штабе, то Веньку-капитана, ставшего комендантом станции Мытищи, то помкомвзвода Лопусова и еще каких-то фронтовых друзей. Изредка они появлялись у нас в общежитии, вели себя скромно и сдержанно, а с нами разговаривали почтительно. Еще бы, ведь мы, по их выражению, «пошли учиться на писателей». Однополчане забирали Гришу с собой, возвращался он поздно и всегда возбужденно рассказывал о своих ресторанных похождениях. А о разведке, о захвате языков, о смертельных схватках в немецком тылу почти всегда помалкивал, несмотря на расспросы Мишани.
С грустью и легкой завистью к Грише я думал о том, что мои однополчане рассеялись, никто из них не попал в Москву, и здесь у меня нет такой поддержки, как у Гриши. Правда, у меня есть Юрка и Валя, друзья давние и надежные, еще по довоенному другому институту, где я проучился два года вместе с ними. Они поженились как раз перед самой войной, за месяц до Юркиного ухода в ополчение: он был близорук, в армию, вместе со всеми студентами, его не взяли. В трудную минуту я всегда иду к Вале с Юркой. Но сейчас неудобно – я уже брал у них в долг и еще не сумел отдать в срок.
На всякий случай я снова проверил карманы своего потертого офицерского кителя, сшитого перед демобилизацией, два года назад. И, не найдя ничего, спросил:
– Так что же будем делать? Какой выход из положения?
– У меня положение безвыходное, – объявил Ленька, затягивая ремень на старой солдатской гимнастерке, которую он носил с матросскими клешами. Он всегда выражался категорически, не выносил недомолвок, половинчатых решений, был самым терпеливым к лишениям и самым резким в суждениях, этот бывший командир санитарного взвода.
Ленька встал с кровати, молча вынул из тумбочки общую тетрадь и снова уселся по-турецки, собираясь что-то писать.
– Безвыходных положений не бывает! – непререкаемо объявил Мишаня. И в его серых, удлиненных глазах вспыхнул фантастический огонек.
Мы рассмеялись: Мишаня любил провозглашать теоретические истины, которые не так-то легко претворять в жизнь.
– Эх, юноша, – вздохнул Борис, – не клевал тебя жареный петух, не клевал!..
И на минуту в комнате стало тихо: за словами Бориса стояло такое, что даже нам казалось жутким. Три года Борис был в плену, куда попал летом сорок второго, расстреляв все патроны и потеряв почти весь свой взвод, при отчаянной обороне безымянной высоты под Воронежем.
– Мы с Витей всегда находили выход, – пробурчал Мишаня. И сегодня найдем!..
– И я найду, – сказал Ленька. – Терпеть буду, на кипятке и хлебе продержусь. Подумаешь, два дня до стипендии. Не продержусь, что ли? В сорок втором, когда мы из окружения пробивались, из-под Харькова, там похуже было…
Если мы вспоминали о пережитом на фронте, Мишаня сразу умолкал. Однажды, правда, и он вставил словечко из своего прошлого. В тот раз Гриша и Ленька почему-то вспомнили новогоднее наступление и дружно перечисляли трофеи – консервы, шнапс, печенье, сигареты, шоколад, – доставшиеся их взводам.
– И нас тоже под Новый год отоваривали, – сказал Мишаня, улучив минуту. – Плавленый сахар давали. Весь день я потом этот сахар у станка посасывал.
На плавленый сахар никто не обратил внимания, и с тех пор Мишаня всегда молчал, если мы вспоминали о фронте, понимая, что не может ничего противопоставить нашей, столь завидной в его глазах, военной судьбе. Но, помолчав, начинал донимать нас своими наивными вопросами. И сейчас напористо опросил Леньку:
– Ну, все ж таки, вы что-то ели в этом окружении? Вам паек-то какой-нибудь интенданты выдавали? А у нас совсем ведь ничего нету!..
– Конечно, ели, – спокойно согласился Ленька. – Сначала дохлый мерин был, его съели. А когда ни кусочка конины не осталось, почки березовые ели. Никогда не ел почки? Березовые? Ремни жевали. Не приходилось? А ты попробуй!..
Мишаня подавленно смотрел на меня. Взгляд его просил: заступись, поддержи…
Но мог ли я поддержать его, если беспощадные слова Леньки напомнили о моем собственном выходе из окружения, когда я тоже ел эти невыносимо горькие березовые почки, ел, чтобы совсем не обессилеть и хоть немного заглушить терзавший меня голод. Мы все, четверо, знали и видели такое, что не укладывалось в обычные человеческие представления о жизни. И объяснить это было невозможно, это мог понять лишь тот, кто сам видел и пережил. И это роднило всех нас, мы иногда понимали друг друга без всяких слов.
Воспоминание о пережитом вновь натолкнуло на мысль о тайничке на дне моего чемодана. «Нет. Никогда, – подумал я. – Еще можно держаться. Выкинь из головы. И не вспоминай!»
Но, будто поняв мои мысли, Мишаня с надеждой спросил:
– А в чемодане, Витя, ничего не осталось?
Этот кожаный чемодан попал ко мне еще в Маньчжурии, когда мы заняли какой-то военный городок, откуда вместе с танкистами только что выбили японцев. Чемодан валялся в кювете, рядом с перевернутой машиной.
– Подбери, – сказал я своему старшине, – авось тебе в гражданской жизни пригодится…
Старшина швырнул чемодан в подъехавшую батарейную бричку, и я сразу же забыл о нем – далеко впереди возникла перестрелка, а в стороне, в болотце, разорвалась мина… Но когда, демобилизовавшись, я уезжал из полка, старшина принес чемодан на станцию. Я не хотел его брать, но дальновидный старшина настоял:
– Вы же опять студентом будете, а это для подспорья, от всей батареи. – И он втолкнул чемодан в тамбур вагона.
Чемодан выручал нас с Мишаней почти весь год. В трудную минуту я доставал оттуда то какую-нибудь заграничную рубашку, то шелковый платок, то узорчатое махровое полотенце, отдавал Мишане, он бежал с этим добром на рынок и возвращался с картошкой, хлебом, пшенным или гороховым концентратом. Теперь в чемодане оставался только тайничок. Но он был неприкосновенным.
– Чемодан, как ни прискорбно, пуст, – ответил я и подумал, что придется все же ехать к Вале и Юрке. А мелкие деньги отдам Мишане.
В этот момент дверь открылась, и появился незнакомый нам коренастенький малый. Он улыбался так широко и весело, излучал такое доброжелательство, что в другое время не улыбнуться в ответ было бы невозможно. Но мы, насторожившись, хмуро смотрели на вошедшего.
Был этот малый в новеньком сером пальтеце, ладно пригнанном, в новой шапке шелковистого темного меха, из-под нее лезли густые, давно не стриженные, пшеничные кудри. На незнакомце висел фотоаппарат, кокетливо сдвинутый чуть вбок, в руке – коричневый фибровый чемоданчик. И свежий румянец на сытом, довольном лице, и весь его новенький, из магазина, вид совсем не сочетались с нашей студенческой одеждой тех, послевоенных времен – ни с выгоревшей Ленькиной гимнастеркой, ни тем более с рабочей спецовкой Мишани, напоминавшей о его заводских бессонных вахтах.
Вошедший продолжал нам улыбаться, вот-вот рассмеется, радовался, ну, просто сейчас возьмет и кинется в объятия, будто братьев родных после военной разлуки встретил. Но, увидев нашу настороженность, покраснел, опустил, растерявшись, веселые глаза.
– Откуда ты, прелестное дитя? – спросил Борис своим звонким и бодрым голосом, в котором всегда скрывалась едва заметная ирония или насмешечка, свойственные характеру Бориса. Этот характер не сломился за три года фашистских лагерей, неудачных побегов, зверских побоев. Борис острит почем зря, беззлобно разыгрывает ребят и остается самым мудрым и самым добрым из всех нас. И, пожалуй, самым талантливым.
Вошедший опять заулыбался, даже хохотнул:
– Я-то откуда? А из Германии я, ребята. Из Дрездена. Демобилизовался вот…
– На демобилизованного солдата, скажем прямо, ты не особенно похож, – заявил Гриша.
– И даже отдаленно не похож, – подтвердил Ленька.
– Так я все же старший сержант! – не то в шутку, не то всерьез воскликнул малый.
Ленька сдержанно рассмеялся, а Мишаня сказал не без ехидства:
– А они, между прочим, все до одного офицеры. Вот в чем вопрос!
– Так я ведь еще целый год, после демобилизации, вольнонаемным делопроизводителем служил. Деньги зарабатывал, – пояснил гость, сообразив, на что намекал Мишаня.
– Тогда все понятно, – миролюбиво сказал Гриша. – Ну, пройди, что ли, расскажешь, как там в поверженном фашистском логове?
– Для начала только представься. Как тебя звать-величать? – спросил Борис.
– Кустиков я, Слава Кустиков, – он подавал каждому руку, повторяя: – Кустиков, Слава Кустиков, Кустиков Слава…
Он присел на стул, поставил чемоданчик, спросил:
– А вы тут все студенты? Все тут учитесь? И все пишете?
– Не пишем, юноша, а двигаем вперед великую литературу, – сказал Борис.
Кустиков рассыпал мелкий смешок, сказал:
– А я ведь тоже… Того, кое-что, ну, это… Написал, в общем.
– Стихи, проза? – деловито осведомился Ленька и снова подтянул флотский ремень на своей пехотной гимнастерке.
– А все вместе, – ответил Кустиков. – И стихи есть. А прозы больше. Я к вам хочу поступить. Примут?
– Сначала надо посмотреть, что за проза у тебя, – солидно сказал Мишаня.
– А то много вокруг института всяких-разных ходит-бродит, – подключился Борис. – Один даже с фанерным ящиком приходил…
– Почему с ящиком? – не понял Кустиков.
– В ящике рукопись. Роман. О будущей бактериологической войне между Парагваем и Уругваем. Живет, заметим, на станции Большие Петухи, а пишет о Парагвае. Две тысячи страниц. За год, говорит, написал. И продолжает угрожать обществу: еще, говорит, пять таких напишу – продолжение!..
Кустиков озадаченно замолчал.
– Пойти, что ли, кипятку принести, – ни к кому не обращаясь, произнес Ленька. – А то совсем живот подвело…
– Возьми мелочь, – сказал я Мишане, – сходи в булочную, хлеба хоть с Ленькой пожуете…
– А ты сам?
– Я сегодня перебьюсь. К друзьям поеду.
Кустиков заинтересованно прислушался, посмотрел оценивающе на каждого из нас.
– Ну, давай, – сказал Мишаня. – Сколько у тебя там?
– На хлеб хватит. Себе только на трамвай оставлю. – И я протянул ему мелочь.
– Так у вас что, денег нету? – удивился Кустиков. – Возьмите у меня, кому сколько надо. У меня есть, ребята…
Он достал новенький оранжевый бумажник.
– Погоди, – остановил его Борис. – Мы тебя не знаем. И ты нас совсем не знаешь…
– Правильно, – поддержал я Бориса. – У чужих мы не берем!
– Ну, почему, ребята? Я же так, по-товарищески, по-солдатски…
Мы не ответили.
– Думаете, я не был нигде, что ли?.. Не верите?
Он скинул пальтецо и пестрый шарфик.
– Вот, – стукнул себя в грудь крепким кулаком. На синем отутюженном костюме переливалось несколько разноцветных муаровых ленточек. Не очень богато, но все же – за Варшаву, за Берлин, еще за что-то. – Ведь вам есть-пить надо. А, ребята? Обижаете!.. – Он даже смутился.
– Ну, как, Боря? – спросил я.
– Можно, пожалуй, и взять. Только уговор: со стипендии все до копейки чтобы отдали!
– Да ладно, – отмахнулся Кустиков. – Отдадите, не сбежите ведь.
– Выходи строиться в столовую! – скомандовал Гриша.
– А может, не в столовую? – Кустиков с надеждой оглядел голые стены с газетным портретом Джека Лондона над Мишаниной тумбочкой, железные койки, покрытые серыми и черными солдатскими одеялами. – Может, лучше у вас посидим? Поговорили бы… Давайте? У вас хорошо… Сходим в магазин, всего купим…
Мы весело и шумно согласились. Кустиков, Гриша и Ленька пообещали быстро вернуться из «Гастронома», Мишаня побежал на рынок за картошкой, Борис – в булочную, а я остался растопить плиту, вскипятить чай и приготовить все к обеду.
Уже через час мы сидели за столом, застланным чистыми газетами, пили сладкое красное вино, заедая его картошкой, квашеной капустой, чайной колбасой, селедкой.
– Закуску только портим, – ворчал Гриша. – Я предлагал, водки надо было купить. А Славка, оказывается, ее совсем не пьет…
– Ну и правильно, – одобрил Мишаня. – Очень нужно горечь эту глотать. То ли дело вино: плавленым сахаром отдает. Понимать надо!
– Как же ты на фронте водку пить не научился? – удивлялся Ленька.
– Так вот, – смеялся Кустиков, – не научился…
– Не клевал тебя, значит, жареный петух, – заметил неторопливо Мишаня.
– Не будем уточнять, юноша, кого клевал, кого нет, – со значением заметил Борис. Он не любил, если кто-то попугайски повторял его словечки и крылатые фразы. – Давайте лучше выпьем за успехи будущего студента, товарища Кустикова!..
Мне хорошо было сидеть со своими ребятами за этим столом, чувствовать полное удовлетворение на душе и готовность сделать всем что-то хорошее, выручить из беды и знать, что эти ребята связаны со мной надолго, может быть, на годы и годы, не только нашей трудной жизнью, но и тем особенным и нелегким делом, которому каждый из нас собирался отдать свою жизнь, тем возвышенным горением, которое каждый чувствовал в душе.
«Чем же отблагодарить вас, ребята? – думал я. – До самой смерти я буду верен вам, буду помогать вам всегда и во всем…»
Кустиков, я заметил, совершенно освоился, расхаживал по комнате в белой рубашке без галстука, который вместе с фотоаппаратом висел на спинке моей кровати, перебирал книги на тумбочках, что-то там искал, то здесь, то там журчал его хохоток, и казалось, будто он давно живет у нас, и было даже странно, как мы без него обходились.
Потом мы пили чай с конфетами в розовых шуршащих бумажках, и Гриша в это время стал читать свои стихи о том, как, в болотах за Полоцком, он водил через линию фронта группу захвата и никак не мог взять языка, как его ругал полковник и разведчики снова отправлялись через болота навстречу смерти. Гришу сменил Ленька, за ним читал Мишаня.
Кустиков слушал, слегка приоткрыв рот, замирая от звучания рифмованных строк, приговаривая, когда стихотворение заканчивалось:
– Ах, здорово! Ах, симфонически… – и голубенькие глаза его были влажными, отрешенными.
– Твоя очередь, – Гриша сказал Кустикову. – Ну-ка, выдай!..
– Да у меня плохо по сравнению с вами. Плохо, ребята…
– Давай, давай, – подбодрил Борис. – И с ними не равняйся. Их уже знаешь сколько в институте строгали? А у тебя все впереди. Давай!
– Я лучше не стихи, лучше я из прозы прочитаю. Можно? Из прозы?
Мы согласились. Кустиков вынул из чемоданчика толстую тетрадь в светлой клеенчатой обложке. На ней чернилами крупно было написано: «Вячеслав Мятежный. Сочинения, том 1-й».
Начало не предвещало ничего хорошего. Борис подмигнул мне и скосил глаза на толстую тетрадь – смотри, мол, на сочинения Вячеслава Мятежного, лови момент! Я понимающе кивнул. Да, чего уж тут ждать от этих «сочинений»? Да еще от Мятежного?
Но неожиданно всех сразу захватило его чтение…
…Ехал по казахской степи всадник…
И я будто увидел и резвого конька, и услышал звонкий перестук копыт в тишине, и ощутил ее всю, эту степь, золотую, притихшую, предвечернюю, с войлочными юртами вдалеке, куда всадник торопился, чтобы попрощаться с невестой перед уходом на войну. И охватывала печаль от неотвратимости их разлуки, от невозможности что-то изменить и как-то помочь этим, в сущности, совсем далеким людям, которые – вот поди ж ты! – стали тебе интересны и дороги, потому что некий Кустиков так хорошо написал про них.
– Молодец! – оказал Мишаня, когда Кустиков прочитал.
– Недурственно, юноша, – объявил Борис. – Можно даже сказать, талантливо.
– Похоже, прозаик божьей милостью, – согласился я.
– Нет, вы взаправду, ребята? – испуганно опросил Кустиков. – Нет, правда?..
– Запомни, – строго сказал Ленька, – в таких случаях мы говорим только правду, одну правду, ничего кроме правды!
– Знаешь, Славка, что бы мы сказали, если бы ты плохо написал? – загадочно спросил Гриша. – Не знаешь? Мы бы сказали… – он выдержал паузу. – Таки да, плохо!
– Думаешь, постеснялись бы? Тут даже родной матери, если у нее таланта нет, поблажку давать нельзя. Так и говорить надо – нету, мама, у тебя таланта, зря ты бумагу портишь, – как на митинге произнес Мишаня.
– Да хватит вам морализировать, – воскликнул Борис. – Давайте лучше по рукописи пройдем, больше пользы ему будет. У тебя, – обратился он к Славке Кустикову, – изобразительный ряд крепкий, деталей художественных много, все видно, все потрогать рукой можно. Это говорит о том, что вы человек талантливый. Но непонятно, какая идея! Для чего все это написано? Что ты хочешь сказать миру?
– Идея у меня будет, – вскричал Кустиков. – Честное слово, будет! Я про идею потом напишу, в другом рассказе…
Мы посмеялись и стали втолковывать Кустикову что-то о форме и содержании, о главной мысли, о композиции и сюжете, обо всем сразу, что узнали сами не так давно на лекциях и творческих семинарах.
– Нет, степь у тебя здорово описана. Будто красками. Откуда ты знаешь эту степь?
– Жил я там. В Казахстане. Мать в совхозе фельдшером работала, а я каждое лето пастушил, в каникулы. Перед войной еще…
– А что это за Мятежный? Кто такой? – невинно спросил я, подмигнув Борису.
– А это мой псевдоним, вымышленная фамилия…
– Почему же Мятежный?
– Красиво, не чувствуешь, что ли? Возвышенно. Все читать будут. А то какой-то Кустиков. Не звучит!..
– Нормальная русская фамилия, – сказал я.
– Даже что-то ласкательное, приятное слышится в ней, – поддержал Мишаня. – Кустиков… Хорошо! Представляю кустики над речкой, черемуха, весна, жаворонки поют. Хорошо!..
– Ты вот что, – строго сказал Борис, – ты выкинь из головы эти мятежи. Забудь. Он – Мятежный! Он просит бури!.. И чтобы мы больше не слышали ни о каком Мятежном.
– Да почему, ребята? Разве не красиво?
– Смешно. Ну, как ты не понимаешь? – опросил я.
– И глупо даже, – сказал Гриша. – У нас в Новозыбкове, в городской газете был один, Васька Фомичев. Напишет заметку о районной бане и подпись: Виталий Дарьяльский. Ну, теперь понял?
– Так я-то ведь не про баню пишу!
– В том-то и дело: ты войну прошел, у тебя талант. Должен что-то интересное написать. И вдруг – Мятежный!..
– Дремучая дореволюционная провинция твой Мятежный… – сказал я.
– А я вижу его, братцы, – перебил Ленька. – До плеч кудри, мрачный взгляд, в зубах – трубка, в руке – палка. Не идет, а шествует. Мятежный!
– Добавь ему широкополую шляпу! – подсказал Борис.
– Ну, ладно, – растерянно согласился Кустиков. – Как скажете, так и сделаю. Вы больше меня знаете.
– Это уже речь не мальчика, но мужа, – одобрил Борис. – И еще вот что: завтра сходишь в парикмахерскую.
– Зачем? Я же сегодня на вокзале брился. У меня борода медленно растет…
– Опять не понимает, – вздохнул Гриша. – Патлы отрежешь, вот зачем!
– Ну, почему так грубо: патлы? – вступился я. – Твои золотые кудри, Слава, надо укоротить. Сделать спортивную полечку.
– Да, – согласился Ленька, – твои кудри – проклятое наследие Мятежного. А с этим, Слава, надо решительно покончить.
– Ну, хорошо, хорошо, как скажете. Вы тут, в Москве, все знаете…
Кто-то включил репродуктор, куранты как раз били полночь, и мы стали разбирать постели. Один Кустиков растерянно стоял посреди комнаты, хотел о чем-то спросить, но, кажется, стеснялся.
– Тебе куда ехать-то? Где остановился? – спросил я.
– А нигде. Я к вам прямо с Белорусского. Рюкзак и еще чемодан оставил в камере хранения, а рукописи с собой взял, чтобы не пропали, в случае чего.
– Что же нам с тобой делать? – спросил Ленька. – Койки узкие, вдвоем не поместимся. На полу вот если? Постелить, правда, нечего…
– Да и засекут на полу сразу же, если проверять заявятся. Нет, на полу никак, – рассуждал Гриша.
В общежитии у нас, бывало, не раз ночевали наши гости: приезжавшие откуда-нибудь из глубинки родственники, Гришины однополчане, какие-то случайные молодые люди, проявившие к нам повышенный интерес и сами что-то пишущие, устраивались на свободных кроватях, а утром исчезали, порой навсегда. Но недавно, под угрозой исключения из института, нам запретили оставлять в общежитии посторонних. И по ночам иногда являлась проверка – комендант, дворник и участковый.



![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)




