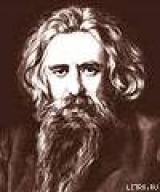
Текст книги "Оправдание добра (Нравственная философия, Том 1)"
Автор книги: Владимир Соловьев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
VI
Личность человеческая не находит окончательного себе удовлетворения или благополучия ни во внешних житейских благах, ни в себе самой (т.е. пустой форме самосознания). Единственный для нее выход представляется, по-видимому, в том соображении, что человек
не есть только отдельная особь, но и часть собирательного целого и что свое настоящее благополучие, положительный интерес своей жизни он находит в служении общему благу или общей пользе.
Таков принцип утилитаризма, находящийся в очевидном соответствии с нравственным принципом альтруизма, который требует жить для других, помогать по возможности всем и служить чужому благу как своему собственному. По мысли самих представителей утилитаризма , их учение должно в практическом применении совпадать с альтруистическую моралью, или с заповедями справедливости и милосердия. "Я должен, – пишет, например, Милль, – опять повторить то, что противники утилитаризма редко имеют справедливость за ним приз нать, – именно, что счастие (happiness), образующее утилитарное мерило правильного поведения, не есть собственное счастие действующего лица (в отдельности взятого), а счастие всех тех, к кому относится его деятельность. Между своим собственным счастием и счастием других он, по требованию утилитаризма, должен быть так же беспристрастным, как если бы он был незаинтересованным и благосклонным зрителем. Этика пользы находит всецелое выражение своего духа в золотом правиле Иисуса Назаретского. Поступать так, как желаешь, чтобы с тобой поступали, и любить ближнего, как самого себя, вот что составляет идеальное совершенство утилитарной нравственности" (J.S.Mill, Utilitarism, 5 ed. Lond., 1874, pp. 24 – 25)86.
Не оцененное Миллем различие между этими двумя принципами – утилитарным и альтруистическим – состоит в том, что правило жить для других предписывается альтруизмом как должное отношение человека к подобным ему, или как нравственный долг в силу чистой идеи добра, тогда как по учению утилитаризма человек хотя и должен служить общему благу и беспристрастно судить между своими и чужими интересами, но в последнем основании лишь потому, что такое отношение (будто бы) всего полезнее или выгоднее ему самому, так что нравственная деятельность не нуждается в каком-нибудь особом, самостоятельном принципе, противуположном эгоизму, а есть следствие того же эгоизма, правильно понятого; а так как эгоизм есть у всякого, то утилитарная мораль годится для всех без исключ ения и, таким образом, имеет в глазах своих последователей преимущество перед моралью прямого альтруизма, утверждается ли этот последний в силу простого симпатического чувства или же во имя чистого долга. С этим связано другое преимущество утилитаризма,
по мнению его сторонников, а именно: они утверждают, что этот принцип совершенно соответствует действительному историческому происхождению нравственных чувств и идей, которые все явились лишь результатом последовательно расширяемых и развиваемых соображе ний собственной пользы, так что самая высокая система нравственности есть лишь наиболее сложная трансформация первоначальных побуждений себялюбия. Если бы это утверждение и было справедливо, то вытекающее отсюда преимущество для утилитаризма было бы все– таки лишь кажущимся. Из того, что дуб происходит от желудя, а желудями кормят свиней, никак не следует, чтобы и сами дубы могли служить пищею свиньям. Точно так же, предполагая, что высшее нравственное учение имеет генетическую связь с эгоизмом, т.е. про изошло из него путем последовательных видоизменений в прошедшем, мы не имеем права заключать, что эта высшая мораль и в настоящем, совершенном своем виде может опираться на своекорыстие, или быть пригодною и для эгоистов. Очевидный опыт этому противоречи т: большинство людей – ныне, как и во все времена, – находили для себя более полезным отделять свою пользу от пользы общей. А с другой стороны, самое предположение о первоначальном значении себялюбия, единственного основания всякой деятельности, противор ечит истине.
Взгляд на происхождение нравственности из индивидуального эгоизма достаточно опровергается тем простым фактом, что именно первоначально господствующее значение в жизни существ принадлежит не индивидуальному, а родовому самоутверждению, которое для отдель ных особей есть самоотречение. Какую пользу себе или какое удовлетворение своему индивидуальному эгоизму может находить птица, полагающая свою жизнь за птенцов, или рабочая пчела, умирающая за общую матку?67 Решительное преобладание индивидуальных побужд ений над родовыми и вместе с тем возможность принципиального и последовательного своекорыстия являются лишь в человечестве на известной ступени развития личного сознания, а поэтому и утилитаризм, поскольку он требует от личности самоограничения и самопож ертвования не во имя каких-нибудь более сильных, чем она сама, начал, а лишь во имя ее собственного правильно понятого себялюбия, – такой утилитаризм может иметь смысл лишь как практическое учение, обращенное к отдельным людям в данном состоянии человече ства. С этой только стороны нам и следует его здесь рассмотреть, тем более что вопросы об эмпирическом происхождении тех или других чувств и понятий не относятся прямо к предмету нравственной философии.
VII
"Всякий желает себе пользы; но польза всякого состоит в том, чтобы служить общей пользе; следовательно, всякий должен служить общей пользе". В этой формуле чистого утилитаризма верно только заключение, но его действительные основания вовсе не содержатся
в тех двух посылках, из которых оно здесь выводится: эти две посылки неверны сами по себе и притом поставлены в ложное соотношение между собою.
Неверно, будто всякий желает своей пользы, ибо весьма многие желают лишь того, что им доставляет непосредственное удовольствие, и находят это свое удовольствие в предметах совершенно бесполезных и даже вредных – в пьянстве, карточной игре, порнографии и
т.п. Конечно, и к таким людям можно обращаться с проповедью общего блага, но при этом необходимо основываться на чем-нибудь другом, а никак не на их собственных желаниях.
Далее, и те люди, которые признают преимущество пользы или прочного удовлетворения над минутными наслаждениями, полагают свою пользу совсем не там, где указывает утилитаризм. Скупец отлично понимает, что все мимолетные удовольствия суть прах и тлен перед настоящими прочными благами, которые он и заключает в прочный несгораемый сундук, и в распоряжении утилитаристов нет таких аргументов, которые заставили бы его опорожнить этот сундук для целей филантропических. Скажут ли они ему, что собственная польза
требует согласовать свои выгоды с выгодами ближних? Но ведь он исполнил это требование. Положим, в самом деле, что он добыл свое богатство, давая деньги в рост; это значит, что он оказывал услуги своим ближним, помогал им в нужде, ссужая деньгами. Он рис ковал своим капиталом и за это получал известную прибыль, а они теряли эту прибыль, но зато пользовались чужим капиталом в то время, когда не имели собственного. Все дело происходило к обоюдной выгоде, и обе стороны беспристрастно судили между своими и ч ужими интересами. Почему же, однако, ни Милль, ни кто-либо из его единомышленников не согласится признать поведение этого благоразумного ростовщика настоящим образчиком утилитарной морали? Потому ли, что, накопляя деньги, он ими не пользовался? Это невер но: он ими пользовался в наибольшей мере, находя высочайшее удовлетворение в чувстве обладания своими сокровищами и в сознании своего могущества (см. "Скупой рыцарь" Пушкина)87, притом, чем больше накопленное богатство, тем более пользы может оно впослед ствии принести другим людям; так что и с этой стороны своя и чужая выгоды оказываются уравновешенными.
Если утилитаристы не согласны признать деятельность благоразумного ростовщика за нормальную человеческую деятельность, то это объясняется лишь тем, что их требования в сущности идут гораздо дальше простого соглашения своей пользы с чужою: они требуют, чт обы человек жертвовал своею личною выгодой в пользу общего блага и в этом находил свою истинную пользу. Но такое требование, прямо противоречащее понятию "своей пользы", обусловлено метафизическими предположениями, совершенно чуждыми доктрине чистого ути литаризма, а помимо них оно вполне произвольно.
Действительные случаи самопожертвования происходят или 1) в силу непосредственного движения симпатических чувств, когда, например, кто-нибудь без всяких размышлений, с опасностью собственной жизни спасает погибающего; или 2) в силу сострадательности, сос тавляющей постоянно господствующее свойство характера, как, напр., у людей, по личной склонности посвящающих свою жизнь служению страждущим; или 3) в силу высокоразвитого сознания нравственного долга; или, наконец, 4) в силу религиозного вдохновения како ю-нибудь идеей. Все эти мотивы вовсе не зависят от соображений пользы. Люди, над волею которых эти побуждения, порознь или в совокупности, имеют достаточную силу, будут жертвовать собою для блага других, нисколько не нуждаясь в основаниях иного рода68.
Но есть множество людей без природной доброты, без способности к нравственным и религиозным увлечениям, без ясного сознания долга и без восприимчивости к голосу совести. Вот именно на таких людях утилитаризм и должен бы был показать свою силу, убеждая их в том, что истинная польза их состоит в служении общему благу даже до самопожертвования. Но это явно невозможно, ибо эти люди именно тем и отличаются, что полагают свою пользу не в благе других, а исключительно в своем эгоистическом благополучии.
Под пользою в отличие от удовольствия разумеется прочное или обеспеченное удовлетворение, и было бы совершенно нелепо доказывать практическому материалисту, что, полагая жизнь свою за ближних или за идею, он этим обеспечивает себе прочное удовлетворение
своих, то есть материальных, интересов.
Ясно, что утверждаемая утилитаризмом связь между тою пользою, которую всякий желает для себя, и тою, которую это учение считает настоящею или истинною, есть лишь грубый софизм, основанный на двояком значении слова "польза". Берется сначала та аксиома, чт о всякий хочет того, что его удовлетворяет, далее все фактическое многообразие предметов и способов удовлетворения обозначается общим термином "польза", затем под этот термин подставляется совершенно новое понятие общего блага, которому дается тоже назва ние пользы, и на этом тождестве термина при различии и даже противуположности самих понятий строится то умозаключение, что так как всякий желает себе пользы, а польза состоит в общем благе или наибольшем благополучии всех, то всякий должен желать этого о бщего блага и служить ему. Но на самом деле та польза, которую желает себе всякий, не имеет необходимого отношения к всеобщему благополучию, а та польза, которая состоит в общем благополучии, не есть та, которую желает всякий, и одной подтасовки понятий
недостаточно, чтобы заставить кого-нибудь хотеть не того, чего ему на самом деле хочется, или находить свою пользу не в том, в чем он ее действительно находит.
Различные видоизменения утилитарной формулы не делают ее более убедительною. Так, исходя из понятия пользы как прочного удовлетворения, можно утверждать, что личное счастие не дает прочного удовлетворения, так как оно связано с предметами случайными и пр еходящими, тогда как общее благо человечества, поскольку оно относится и ко всем будущим поколениям, есть предмет неизменно пребывающий, и потому служение ему может удовлетворять прочным образом. Если этот аргумент обращен ко "всякому", то всякий может н а него возразить следующее. "Пусть устройство моего личного счастия не даст мне прочного удовлетворения, но забота о счастии будущего человечества не дает мне вовсе никакого удовлетворения, ибо я никак не могу удовлетвориться таким благом, которое если и будет когда-нибудь существовать, то во всяком случае не как мое благо, так как меня при этом, наверное, не будет; поэтому если в личном благополучии нет для меня пользы, то в благополучии всеобщем и подавно: как могу я искать себе пользу в том, чем я за ведомо никогда не буду пользоваться?"
Истинная мысль, к которой тяготеет утилитаризм в лучших своих представителях, есть идея солидарности всего человечества, вследствие чего частное благополучие каждого человека связано с всеобщим благополучием. Но эта идея не имеет своих корней в почве ути литаризма и не вмещается, как практический принцип, в пределах утилитарного и вообще эвдемонистического образа мыслей. Можно даже вполне признавать истину всеобщей солидарности и те последствия, которые из нее вытекают по естественному порядку вещей, не
выводя, однако, отсюда никакого нравственного правила для своего поведения. Так, напр., распутный богач, живущий исключительно в свое собственное удовольствие и никогда не ставящий благо ближних целью своих действий, может, однако, не без основания указы вать на то, что в силу естественной связи вещей его изысканная роскошь способствует развитию промышленности и торговли, наук и художеств и дает заработок множеству неимущих людей.
Всеобщая солидарность, как естественный закон, существует и действует чрез отдельных лиц независимо от их воли и поведения, и если я, заботясь только о своей личной пользе, невольно содействую пользе общей, то чего же еще от меня больше требовать с точки зрения утилитаризма? А с другой стороны, всеобщая солидарность далеко не есть то же самое, что всеобщее благополучие. Из того, что человечество солидарно в себе, вовсе не следует, что оно должно быть непременно счастливым: оно может быть солидарным в бе дствиях и гибели. Поэтому если я и сделал идею всеобщей солидарности практическим правилом моего собственного поведения и в силу этого жертвую своими личными выгодами для общего блага, а между тем человечество осуждено на гибель и его "благо" оказывается обманом, то какая от моего самопожертвования будет польза и мне, и самому человечеству? Таким образом, если бы и было возможно идею всеобщей солидарности, в смысле практического правила, связать внутренно с принципом утилитаризма, то это было бы для нег о совершенно бесполезно.
Утилитаризм есть высшая форма эвдемонистических взглядов, и несостоятельность этой доктрины есть осуждение всей той практической философии, которая своим высшим началом ставит благо в смысле благополучия или своекорыстного удовлетворения. Кажущаяся реаль ная всеобщность и необходимость этого принципа, состоящая в том, что все непременно желают себе благополучия, оказывается совершенно мнимою, ибо 1) общее название блага или благополучия относится в действительности к бесконечному множеству различных пред метов, несводимых ни к какому внутреннему единству, а 2) всеобщее стремление к собственному благополучию (в каком бы смысле ни разумелось это слово) ни в каком случае не заключает в себе ручательства и условий для достижения этой цели. Таким образом, при нцип благополучия остается только требованием и, следовательно, не имеет никакого преимущества перед принципом должного, или нравственного, добра, единственный недостаток которого состоит ведь именно в том, что он может оставаться только требованием, не
имея собственной силы необходимого осуществления. Напротив, при этом общем недостатке нравственный принцип имеет перед эвдемонистическим огромное преимущество внутреннего достоинства, идеальной всеобщности и необходимости, ибо нравственное добро, определ яемое не личным произволом, а всеобщим разумом и совестью, есть по необходимости одно и то же для всех, тогда как под благополучием всякий имеет право понимать все, что ему угодно.
Итак, у нас пока только два требования – разумное требование долга и природное требование благополучия – 1) все люди должны быть добродетельны и 2) все люди хотят быть счастливыми. Оба эти требования имеют естественные опоры в существе человека, но оба н е заключают в себе достаточных оснований или условий для своего осуществления, при этом они фактически не связаны между собою, весьма обыкновенно противоречат друг другу, и попытка принципиального их соглашения (в утилитаризме) не выдерживает критики.
Требования эти неравного достоинства, и если бы в качестве принципа практической философии приходилось выбирать между недостаточно сильною, но зато ясною, определенною и возвышенною идеей нравственного добра и столь же бессильною, но, сверх того, неясною , неопределенною и низменною идеей благополучия, то, конечно, все разумные основания были бы в пользу первой.
Но прежде чем утверждать печальную необходимость такого выбора, вникнем глубже в общую нравственную основу человеческой природы, которую мы до сих пор рассматривали главным образом лишь в особом развитии ее трех частных проявлений.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОБРО ОТ БОГА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЕДИНСТВО НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ
I
Когда человек поступает дурно в каком-нибудь отношении, например когда он обижает своих ближних положительным или хотя бы только отрицательным образом – отказываясь помочь им в нужде, ему бывает потом совестно. Вот настоящее душевное зерно всего человече ского добра и отличительный признак человека как существа нравственного.
Что, собственно, здесь испытывается? Во-первых, у нас является чувство жалости к обиженному, которое не проявилось в момент самой обиды, и это доказывает, между прочим, что наша душевная природа может иметь внутренние движения более глубокие и вместе с т ем более сильные, нежели наличность материальных мотивов: чисто мысленная рефлексия в состоянии вызвать то чувство, которое было глухо к внешним впечатлениям, невидимое чужое бедствие оказалось более действительным, нежели видимое.
Во-вторых, к этому простому (хотя уже утонченному отсутствием видимого предмета) чувству жалости присоединяется здесь новое его (еще более одухотворенное) видоизменение, так как мы не только жалеем того или тех, кого прежде не жалели, но еще жалеем о том , что тогда их не пожалели, жалеем, что были безжалостны, – к сожалению о потерпевшем от обиды присоединяется здесь сожаление о самом себе как обидчике.
Но этими двумя психическими моментами дело далеко не исчерпывается. Всю свою душевную остроту и нравственную многозначительность разбираемое чувство получает от третьего момента, состоящего в том, что мысль о нашем безжалостном поступке вызывает в нас кр оме естественной реакции соответствующего чувства – жалости еще более сильную реакцию другого, по-видимому вовсе сюда не относящегося, чувства – стыда: мы не только жалеем о своем жестоком поступке, но и стыдимся его, хотя бы ничего специально-постыдного в нем не было. Этот третий момент настолько здесь важен, что характеризует собою все душевное состояние, так что вместо "мне совестно" мы прямо говорим "мне стыдно", J'ai honte, ich schame, mich, I am ashamed. В древних языках слова, соответствующие "со вести", не были употребительны в живой речи, заменяясь словами, соответствующими "стыду", ясное указание на то, что первичный корень совести заключается именно в чувстве стыда. Что же это значит?
II
Если мысль о допущенном нарушении любого из нравственных требований сверх соответствующего воздействия со стороны пострадавшего нравственного элемента вызывает еще воздействие стыда, которого требования в его собственной области (отношении человека к его низшей природе, или плоти) не были, однако, нарушены данным поступком, не имевшим ничего противного стыдливости или чувству человеческого превосходства над материальною природою, то, значит, ясно, что различение в нравственной природе человека трех коре нных основ не должно переходить в их разделение, что эти три корня на известной глубине срастаются в один и что нравственный порядок во всей совокупности своих норм есть по образующей сущности своей только расчленение одного и того же начала, обращенного в ту или другую сторону. Чувство стыда, будучи реальнейшим образом связано с фактами половой сферы, перехватывает за пределы материальной жизни и, как выражение формального неодобрения, сопровождает всякое нарушение нравственной нормы, к какой бы област и отношений она ни принадлежала. Во всех языках, насколько мне известно, слова, соответствующие нашему "стыд", неизменно отличаются двумя особенностями: 1) связью с предметами половой сферы (("(?z, ((((((, pudor pudenda, honte – parties honteuses, Scha m – Schamtheile) и 2) применением этих слов ко всем случаям неодобряемого нарушения нравственных требований вообще. Для того, чтобы отрицать особое половое значение стыда (или специальную постыдность плотских отношений между полами), а равно и для того,
чтобы ограничивать стыд одним этим значением, нужно прежде всего отречься от человеческого слова, признав его за бессмысленную случайность.
Общий нравственный смысл стыда есть лишь дальнейшее внутреннее развитие того, что заключается уже в особом первоначальном его проявлении по поводу фактов половой жизни.
III
Сущность жизни, ее главное дело – для животных, – несомненно, заключается в увековечении чрез воспроизведение в новых единицах той особой формы органического бытия, которая представляется тем или другим животным. Я говорю, что это есть сущность жизни для них, а не только в них, ибо первенствующая и единственная в своем роде важность генитального интереса внутренно ими переживается и ощущается, хотя, конечно, лишь невольно и безотчетно. Если посмотреть на собаку, ждущую лакомого куска, то ее поза, выраже ние глаз и все ее существо как будто свидетельствуют, что главный нерв ее субъективного существования заключается в желудке. Но самая прожорливая собака совершенно забывает о пище в пору любовного влечения, а если это самка, то добровольно отдает щенятам и свой корм, и самую жизнь. Здесь отдельное животное как бы признает добросовестно, что его единичная жизнь сама по себе не важна, что дело не в ней, а только в сохранении данного типа органической жизни, передающегося через бесконечный ряд исчезающих о собей. Образ бесконечности – единственно доступный для животного. Но отсюда понятно огромное, основное значение генитальной области и для жизни человеческой. Если человек есть по существу больше, чем животное, то его выделение из животного царства, его в нутреннее самоопределение как человека должно начинаться именно в этой источной области, в этом средоточии органического бытия. Всякий другой пункт был бы сравнительно поверхностным. Только здесь животная особь чувствует бесконечность родовой жизни, пола гает себя (как оно и есть) лишь конечным явлением, лишь средством, орудием родового процесса и без всякой борьбы и задержки отдается этой бесконечности рода, всецело поглощающей отдельное существование; и здесь же, в этом средоточии жизни человек сознает недостаточность этой родовой бесконечности, в которой животное находит свое высшее. И на человека его родовая сущность предъявляет свои права, и через него она хочет увековечиваться; но его внутреннее существо отвечает на такое требование: "Я не то же,
что ты, я сверх тебя, я не род, хотя от рода, – я не genus, а genius88. Я хочу и могу быть бесконечным и бессмертным не в тебе только, а сам по себе. Ты влечешь меня в бездну своей дурной, пустой бесконечности, чтобы поглотить меня и уничтожить, но я ищу себе той истинной и полной бесконечности, которою мог бы поделиться и с тобою. То, что у меня от тебя, хочет смешаться с тобою и втянуть меня самого в твою бездну, над которою я поднялся, но мое собственное существо, которое не от тебя, стыдится этого с мешения и противится ему, оно хочет, как единственно себя достойного, того истинного соединения, в котором увековечиваются оба соединяемые".
В чувстве полового стыда – и этим определяется его огромное принципиальное значение как основания не только материальной, но и формальной нравственности – человек признает для себя постыдным и, следовательно, дурным, недолжным не какое-нибудь частное и с лучайное уклонение от какой-нибудь нравственной нормы, а самую сущность того закона природы, которому подчиняется весь органический мир. Важно здесь не столько то, что человек вообще стыдится, сколько то, чего он стыдится. Обладая этою способностью стыда , не замечаемою у других животных, человек мог бы быть определен как животное стыдящееся. Это определение, лучшее многих других, не отмечало бы, однако, в человеке носителя особого мира, или нового порядка бытия. Но тот факт, что человек прежде и больше
всего стыдится именно самой сущности животной жизни, или коренного проявления природного бытия, прямо показывает его как существо сверхживотное и сверхприродное. Таким образом в этом стыде человек становится человеком в полном смысле.
IV
В генитальном акте воплощается бесконечность природного процесса, и, стыдясь этого акта, человек отвергает саму эту бесконечность как недостойную себя. Недостойно человека быть только средством, или орудием, природного процесса, в котором слепая сила жиз ни увековечивает себя на счет рождающих и гибнущих особей, поочередно вымещающих друг друга. Человек, как нравственное существо, не хочет повиноваться этому природному закону вымещения поколений, закону вечной смерти, он не хочет быть вымещающим и вымеща емым, он ощущает, сначала смутно, и потребность и способность вместить в себе самом всю полноту вечной жизни. Идеально он ее уже вмещает в себе, в самом этом акте своего человеческого сознания, но этого мало, ему надо осуществить идеальное в действительн ости, без чего идея есть только фантазия и высшее самосознание – только самомнение. Сила вечной жизни как факт существует: природа живет вечно и сияет вечною красою; но это равнодушная природа – равнодушная к отдельным существам, которые своею сменою под держивают ее вечность. Но вот между этими существами оказывается одно, которое не согласно на такую страдательную роль: находя свою невольную службу природе постыдною для себя и награду за нее в виде личной смерти и родового бессмертия – недостаточною, э то существо хочет быть не орудием, а обладателем вечной жизни. Для этого ему не нужно создавать из ничего никакой новой жизненной силы, а только овладеть тою, которая дана в природе, и воспользоваться ею для лучшего употребления.
Мы называем гениальными людей, у которых живая творческая сила не тратится вполне на внешнее дело плотского размножения, но идет еще и на внутреннее дело духовного творчества в той или другой области. Гениальный человек есть тот, который помимо жизни род а увековечивает себя самого и сохраняется в общем потомстве, хотя бы не производил своего. Но такое увековечение, если на нем остановиться как на окончательном, очевидно оказывается призрачным, ибо совершается на той же почве сменяющих друг друга и исчез ающих поколений, так что ни тот, о котором помнят, ни те, которые помнят, настоящею жизнью не обладают. Значение гениальности в общепринятом смысле есть только намек на настоящее дело. Присущий нам истинный genius, говорящий громче всего в половом стыде, не требует от нас высоких способностей к искусствам и наукам, дающим славное имя в потомстве. Но он требует гораздо большего: как настоящий genius, т.е. связанный с целым родом (genus), хотя и выше его стоящий, он обращается не к одним только избранника м, а ко всем и каждому, всех и каждого остерегая от всего этого процесса дурной бесконечности, через который земная природа вечно, но напрасно строит жизнь на мертвых костях.
V
Предмет полового стыда есть не внешний факт животного соединения двух человеческих особей, а глубокий и всемирный смысл этого факта. Смысл этот прежде всего выражается, но далеко не исчерпывается тем, что при таком соединении человек подчиняется слепому
влечению стихийной силы. Если бы тот путь, на который она его увлекает, был сам по себе хорош, то следовало бы примириться с темным характером этого влечения в надежде со временем войти в его разум и свободно принять то, чему сперва невольно покорялся. Н о настоящая сила полового стыда в том, что мы стыдимся здесь не вообще только своего подчинения природе, а своего подчинения ей в дурном деле – дурном вполне; ибо тот путь, на который влечет нас плотский инстинкт и от которого остерегает чувство стыда, – путь, в начале своем постыдный, в конце оказывается и безжалостным и нечестивым, чем ясно обнаруживается внутренняя связь всех трех нравственных норм, уже заключенных в первой. Половое воздержание есть не только аскетическое, но вместе с тем и альтруист ическое и религиозное требование.
Закон того животного размножения, которого мы стыдимся, есть закон вымещения или вытеснения одних поколений другими, закон, прямо противный принципу всечеловеческой солидарности. Обращая силу своей жизни на произведение детей, мы отвращаемся от отцов, ко торым остается только умереть. Мы не можем ничего создавать из себя самих, – то, что мы даем будущему, мы отнимаем у прошедшего, и чрез нас потомки живут на счет предков, живут их смертью. Так поступает природа, она равнодушна и безжалостна, и мы за это, конечно, не отвечаем; но наше собственное участие в этом равнодушном и безжалостном деле природы есть уже наша вина, хотя и невольная, и мы эту вину заранее смутно чувствуем в половом стыде. И мы тем более виновны, что наше участие в безжалостном деле п рироды, вытесняющей прежние поколения новыми, относится ближайшим образом к тем, кому мы особенно и всего более обязаны, к нашим собственным отцам и предкам, так что это дело оказывается противным не только жалости, но и благочестию.
VI
Тут есть какое-то великое противоречие, какая-то роковая антиномия, которую мы должны во всяком случае признать, если бы даже и не имели надежды разрешить ее. Деторождение есть добро; оно добро для матери, которая, по слову апостола, спасается деторожден ием89, и, конечно, также добро для отца, участвующего в этом спасительном деле, добро, наконец, для получающих дар жизни. А вместе с тем также несомненно, что есть зло в плотском размножении, не случайное и внешнее зло тех или других бедствий, сообщаемых рождаемым вместе с жизнью, а существенное и нравственное зло в самом плотском акте, чрез который мы утверждаем собственным согласием темный путь природы, постыдный для нас своею слепотою, безжалостный к отходящему поколению и нечестивый потому, что это
поколение – наши отцы. Но ведь это зло природного пути для человека может быть исправлено только самим человеком, и то, чего не сделал человек настоящего, может быть сделано человеком будущего, который, родившись тем же путем животной природы, может отре чься от него и переменить закон жизни. Вот разрешение рокового противоречия: зло деторождения может быть упразднено самим же деторождением, которое чрез это становится добром. Но эта спасительность деторождения будет призрачна, если рождаемые будут делат ь то же, что и рождающие, так же согрешат и умрут. Ведь вся прелесть детей для нас, особая, человеческая их прелесть неразрывно связана с предположением и надеждою, то они будут не то, что мы, будут лучше нас – не количественно лучше, на один или два гра дуса, а по самому существу, – что они будут люди другой жизни, что в них действительное наше спасение – нас и всех предков наших. Должна же человеческая любовь к детям иметь в себе что-нибудь сверх того, что есть в куриной, должна же она иметь разумный с мысл. Но какой же разумный смысл в том, чтобы цель своей жизни с восхищением и умилением полагать в будущем негодяе, осуждая настоящего? Если представляемое детьми будущее отличается от настоящего только порядком времени, то в чем же эта особая прелесть





