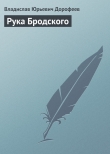Текст книги "Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества"
Автор книги: Владимир Соловьев
Соавторы: Елена Клепикова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Что делать?
– Печатать! – сказали Вы, не колеблясь.
При этом разговоре присутствовал мой московский приятель американист Коля Анастасьев, который и пересказал мне этот разговор.
Спасибо, Женя! Иным я Вас и не представлял – отзывчивым, толерантным, демократичным.
Спустя некоторое время Женя позвонил мне после полуночи из Оклахомы – я вынес этот разговор на заднюю обложку моего мемуарного романа «Записки скорпиона», о котором зашла речь:
– Вы правильно, Володя, сделали, что написали и опубликовали письмо Бродского обо мне и свой комментарий.
После таких слов раздрай между нами окончательно ушел в прошлое.
Дважды спросили, что сейчас пишу. Что мне оставалось? Я раскололся.
– «Записки скорпиона».
– Нас, православных, покусываете?
– Евреев тоже. Что эллин, что иудей – едино.
Едино?
Распотрошу, разоблачу, обесчещу и обессмерчу.
На то я и скорпион.
Возвращаясь к предыдущему нашему телефонному разговору. Когда мы перешли на стихи Бродского, Женя сказал, что лучшие написаны в России. Я добавил пару-тройку первых лет в Америке, когда Ося был одинок, неприкаян и писал «стоячим», до карьерного броска к Нобелю.
Женя: это даром не проходит. Я: с ссылкой на Лену Клепикову, что Ося окончательно испортил себе здоровье уже здесь, тратя неимоверные усилия на добычу «славы и деньжат», которые «к жизненному опыту не принадлежат». Классный стишок Бориса Слуцкого! Женя, оказалось, говорил не о теле: перегородок в душе нет. Я, без ссылки на Бродского: душа за время жизни приобретает смертные черты. Женя, снова не распознав цитату, на этот раз своего вечного антагониста: об этом уже написано – Дориан Грей.
Не помню, кого из нас первым кольнуло, что позабыли покойника.
– Джеймс Бонд высшего класса. Вы знали, что он был летчиком ВВС, потом служил аналитиком Пентагона? Пока его не перебросили на русскую культуру.
– Творческая командировка ЦРУ, – сказал я.
– ЦРУ? – удивился Женя.
Или сделал вид, что удивился?
Или Берт пользовался эвфемизмом, называя ЦРУ – Пентагоном?
Я не стал ссылаться на второе письмо, а просто подтвердил взятую из него информацию, прикусив язык на моей гипотезе о шестидесятничестве как гигантской провокации ЦРУ (вкупе с КГБ?). Но если ЦРУ организовывало первые турне Евтушенко по Америке, то не по его ли почину, пусть и с подачи Берта, Куинс-колледж дал нам с Леной ни за что ни про что двенадцать кусков сразу по приезде в Америку? После выхода «Трех евреев» парочка его негативных персонажей, приблатненных гэбухой питерских литераторов, распространяют инсинуации, что я тайный агент КГБ, а я в действительности тайный агент ЦРУ, сам того, правда, не ведая? А если я двойной агент? Ну и дела!
А тогда сколаршип от Куинс-колледжа и в самом деле свалился на нас, как снег на голову (одновременно с более почетным, но и более скромным грантом от Колумбийского университета, который пришлось отложить на год). Собственно, Куинс-колледж давал только восемь тысяч, а еще четыре добавлял фонд Форда, который помогал советским эмигре со степенями, как у меня, замаливая антисемитские грехи Генри Форда, как нам объяснила Мери Маклер, руководительница программы.
Она же прямо сказала, что в Куинсе нам ничего не светит и даже не хотела подавать туда наши документы, а толкала в университеты, и по крайней мере четыре предложили нам аспирантуру плюс преподавание, мы отказались, о чем Лена с каждым годом жалеет все больше и горше. Вопрос о куинсовском гранте по ротационной системе решали два человека – зав. политкафедрой Генри Мортон и зав. русской Алберт С. Тодд.
В этом году была как раз очередь Берта, и он выбрал нас.
Он был первым американцем – нерусским и неевреем, с которым мы познакомились (вторым и третьим – профессор Колумбийского университета Роберт Белнап и поэт, эссеист и переводчик Гай Дэниэлс). Между прочим, русские принимали за эстонца. Высокий, статный, седовласый, студентки льнули к нему, да и он не остался равнодушным к их девичьим и постдевичьим прелестям. Время от времени на этой почве возникали конфликты с родителями или с администрацией колледжа. А отсутствие внятных эмоций я счел чертой его характера: скрытен по натуре. Оказалось – профессиональный, благоприобретенный навык.
Однажды, правда, я застал его плачущим, задолго до болезни, это было связано с семейными обстоятельствами, замнем для ясности.
Утешая Берта, я вспомнил название фильма с Полем Ньюменом «WASP’s тоже плачут», хотя Берт только White, не чистокровный AngloSaxon (шотландская примесь) и не Protestant, а мормон.
Бертово жмотство не мешало ему быть щедрым. Помимо непыльного гранта, он вводил нас в американскую жизнь, знакомил с нью-йоркскими окрестностями – с ним мы впервые побывали на Лонг-Айленде (мы выехали часов в семь, чтобы поспеть на стоянку бесплатно). С тех пор Лонг-Айленд – наша с Леной еженедельная дача.
Когда наш грант кончился, отношения продолжались – Берт был главным советчиком, когда наш сын поступал в колледж (Джорджтаун был выбран с его подачи), когда мы покупали наш первый кар («Тойота Камри»), ввел меня в компьютерный, а потом интернетный мир, покупал для меня компьютеры, загружал их программами и, как что, оказывал техпомощь. За несколько месяцев до смерти подарил Лене шикарный компьютер (взамен ее устарелого) со всеми причиндалами – монитором, сканером, принтером и коробкой дисков и дискет. Щедрый дар. Как и в отношениях с Сережей Довлатовым, я остался в долгу у Берта. Один раз, правда, я повез его на «Тойоте Камри» пересдавать водительский экзамен – водитель Берт был лихой и время от времени у него отбирали права. Не имея права сесть за руль машины, он рулил самолет, и на мой вопрос, что легче, ответил мгновенно:
– Конечно, самолет. Ни пробок, ни светофоров, возможность столкновения – минимальная.
Еще я был постоянным консультантом Берта по переводам – особенно намучились мы со сленговым и по сути непереводимым Высоцким. Вместе с группой энтузиастов (режиссер-израильтянин, американские актеры, художник Миша Шемякин) Берт готовил спектакль о Высоцком. Мне эта затея казалась обреченной – к сожалению, я оказался прав. А переводчик русских стихов Берт был отменный, чему помогало не только блестящее знание обоих языков, но собственные Бертовы юношеские (и позже) упражнения в поэзии. На вечере в манхэттеновском ресторане «Дядя Ваня» он читал в том числе свои стихи.
Переводить прозу Берт терпеть не мог.
Однажды я спросил его, кто знает лучше: он – русский или Евтушенко – английский? Берт удивленно вскинул брови. Я понял, что сморозил глупость.
На мой вопрос, почему Куинс-колледж из многих претендентов выбрал именно нас с Леной, Берт сослался на нашу статью об академике Сахарове в «Нью-Йорк таймс», за которую мы подверглись остракизму со стороны эмигрантских изданий:
– Неортодоксальное мышление. Мы все были поражены.
Тогда я ошибочно решил, что под «мы» он имеет в виду коллег по Куинс-колледжу.
Я сказал, что эта статья принесла нам символический гонорар – $150 и кучу неприятностей.
– Ничего себе символический! – сказал Берт и, быстро сосчитав в уме, назвал сумму: – 12 150 долларов. За 750 слов!
Для чего мы были нужны ЦРУ? Чтобы держать нас под колпаком?
Или как свежаки – источник новой информации о России? Наше спринтерское диссидентство заключалось в образовании независимого информационного агентства «Соловьев – Клепикова-пресс», чьи сообщения довольно широко печатались в американской и европейской прессе. Одна только «Нью-Йорк таймс» посвятила нашему прессагентству три статьи, одну – с портретом основателей на первой странице. Мы были «старс», но скорее падучие, кратковременные, с мгновенной магниевой вспышкой известности, потому что одно – вести репортаж из тюрьмы, а другое – комментировать ее нравы извне, как мы стали делать в наших более-менее регулярных статьях в американской периодике, сменив одну державу на другую. Что еще хотело выжать из нас ЦРУ, дав нам куинсовский грант? Почему не вступило в прямой контакт? Или все-таки временный приют в Куинс-колледже был нам предоставлен объективным решением ученого совета, пусть и с подачи Джеймса Бонда, а для него это было личным решением – из интереса и симпатии к нам? Последний вариант меня бы больше устроил, но скорее всего решение было принято по совокупности.
Помимо лекций на славик и политикал факультетах мы вели с Бертом подробные беседы о цензуре и КГБ, он записывал их на магнитофон. Свой интерес объяснял тем, что собирается писать на эту тему исследование, которого так и не написал. Во всяком случае, научного. Вот чем он нас поражал (да и не только нас, в славистском мире к Берту относились пренебрежительно) – полным отсутствием у него научных работ. Теперь понятно почему.
Другой профессор-славист Джон Глэд, лет на десять, наверное, младше Тодда, прочитав этот рассказ в нью-йоркской газете, не только подтвердил, но и дополнил его как бы с другой стороны. Берт, оказывается, рассказывал Джон нам с Леной в тайском ресторане на Манхэттене, помимо того, что принимал русский диссидентский десант в Америке, участвовал также в высадке американского студенческого десанта в Россию. Джон Глэд как раз и был одним из сотен студентов, которые получали от Берта Тодда необходимые инструкции перед поездкой в СССР, и властные полномочия у него, по словам Глэда, были весьма широкие. Такой вот случай: Джон Глэд ухитрился потерять свой американский паспорт за несколько часов до отлета – Берт Тодд тут же выдал ему новый. Еще больше поразило Джона Глэда, какие огромные денежные средства были в распоряжении Тодда.
Соответственно с его официальными заслугами – как слависта и переводчика, Берту Тодду был посвящен скромный, в 200 слов, без портрета, некролог в «Нью-Йорк таймс» – сразу же под большим некрологом чудака, который прославился на всю страну тем, что забивал молотком себе гвозди в нос.
Что слава? – Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
В этом моем рассказе два письма и соответствнно – два сюжета.
Они смыкаются на Берте Тодде, который был агент ЦРУ и друг Евтушенко. И теперь еще загадочнее выглядит интрига с получением Женей синекуры от Куинс-колледжа, когда из него по сокращению штатов выгнали Барри Рубина. Само собой, Бродский ввинтился в эту интригу по обеим причинам – объективной и субъективной: чтобы защитить старого друга и чтобы в очередной раз шарахнуть по старому врагу.
Благо есть повод. Да еще какой!
Помимо застарелой обиды, Бродский терпеть не мог конкурентов.
Слышу: «Какой Евтушенко ему конкурент!» В поэзии, наверное, никакой, но в знаковой системе эпохи у Евтушенко место значительно большее, чем в русской поэзии. Не говоря уже об американском, а тем более нью-йоркском культурном истеблишменте: два русских поэта – не слишком много? Два поэта-культуртрегера, два полпреда русской культуры на один космополитичный Нью-Йорк – как поделить между ними здешнюю аудиторию?
Думаю, для Бродского было мучительно узнать, что Евтушенко перебирается в Нью-Йорк для постоянной работы в Куинс-колледже. А с концом вражды (как оказалось, временным) между Америкой и Россией у Жени даже появлялось некое преимущество: он был послом новой России, тогда как Бродский – бывшей. Что Бродский не учел – в Америке подобные доносы имеют обратное действие. Но и в любом случае, на контринтригу (если была начальная интрига) у Бродского уже не было времени. Через два с половиной месяца Евтушенко стоял у гроба Бродского, не подозревая о телеге, которую покойник послал президенту Куинс-колледжа. А если бы знал? Все равно бы пришел – из чувства долга. Как поэт – к поэту. Как общественный деятель – на общественное мероприятие.
Представляю себе настроение Бродского, если бы он мог глянуть из гроба на заклятого врага. Да и не на него одного! А Саша Кушнер, которого Бродский за версту не выносил и который в аварийном порядке, спасая свою репутацию (damage control), прилетел из Петербурга, чтобы демонстративно постоять у этого гроба! Как все-таки мертвецы беспомощны и беззащитны.
Того же Берта взять. Если бы он присутствовал на параде своих жен (плюс любовниц), в который превратились его поминки, и подглядел нас с Евтушенко, которых он тщетно пытался помирить, пожимающих друг другу руки? Или меня на кампусе, читающего его письмо о том, что он был агентом ЦРУ? Или заглянул бы сейчас в мой компьютер, который он же мне и установил, а потом добавлял память и загружал программы, и прочел рассказ, в котором мне осталось, самое большее, два-три абзаца?
Да еще кой-какие вопросы.
Догадывался ли Евтушенко со товарищи о роли, что предназначалась им в «куинсовском» проекте ЦРУ? Понимал ли Берт сверхзадачу порученной ему культурной миссии? А как в самом ЦРУ – сознавали в его мозговом центре, что проамериканский литературный диссидент подтачивал сами основы советского государства, оправдывая худшие подозрения КГБ? В конце концов, «империя зла» рухнула, но, как мы видим, не в одночасье. Мой друг Джеймс Бонд выполнял патриотический долг и вместе со своими подопечными московскими литераторами также приложил к тому руку.
Святое дело?
Зависит от того, как посмотреть.
P. S. Два стихотворения
Ну не поразительно, что два упомянутых поэта, которых Бродский считал своими кровными врагами – Кушнер и Евтушенко, – не сговариваясь, с разницей в три года – в 2002-м и в 2005-м – посвятили ему по стихотворению, где каждый назвал его своим братом? В обоих анонимно, но зримо присутствую я: Кушнер называет меня «недругом вздорным» и почти прямым текстом говорит, что я измыслил их вражду на месте братства, а Евтушенко своими словами пересказывает изложенную здесь гипотезу, что два русских поэта-полпреда не поделили между собой Америку. Однако Евтушенко – отдам ему должное! – рассказал о контроверзах собратьев по поэзии, в отличие от бесстыдника Кушнера, который объявляет свое братство с покойником нерушимым, хотя по жизни они если и были братьями, то на манер либо Ромула и Рема и Каина и Авеля, а в «Трех евреях», как читатель помнит, я сравнивал их с двумя другими библейскими братьями – Иаковом и Исавом. См. также в этом томе рассказ «Живая собака» на тему их братства. А теперь две эти братские эпистолы Бродскому на тот свет.
Кушнер:
Поскольку я завел мобильный телефон, —
Не надо кабеля и проводов не надо, —
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато —
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
Что был, не правда ли, горячий голос брата.
Тогда мне незачем стараться: ты и так
Все знаешь в точности, как есть, без искажений,
И недруг вздорный мой смешон тебе – дурак
С его нескладицей примет и подозрений,
И шепчешь издали мне: обмани, приляг,
Как я, на век, на два, на несколько мгновений.
Евтушенко:
Как же так получилось оно? Кто натравливал брата на брата? Что – двоим и в России тесно? И в Америке тесновато?
Как с тобою мы договорим? Нас пожрал теснотой и ссорами наш сплошной переделкинский Рим, да и выплюнул в разные стороны. Дружбой мы не смогли дорожить. Может, чтоб не мириться подольше, и не надо нам было дружить, ибо ссорясь, мы сделали больше. Мертвым нам не уйти, как живым, от кровавого русского римства. Мы с тобою не договорим. Мы с тобою не договоримся.
Поэт и мухаНервический монолог с. – петербургского литератора Р.Х., бывшего члена бывшего Союза советских писателей с 1968 года
Его первое слово было: муха.
Владимир Набоков. Дар
Могущество мух: они выигрывают сражения, отупляют наши души, терзают тела.
Блез Паскаль. Мысли, 367
Кто знает, если рассудить, может, и мухи нам посланы в утешение.
Чарлз Диккенс. Крошка Доррит
Я – тоже муха.
Уильям Блейк
Толстые большие мухи гудели возле уборной так, как будто давали концерт на виолончелях.
Ильф
Твоею тезкой неполною,
по кличке Муза…
ИБ. Муха
В детстве – папа, а теперь вот я, но по разным причинам. Папа – из гигиенических соображений, борясь с невидимыми вирусами и микробами, потому что разносчики, к комарам снисходителен, хоть и досаждали сильнее. Комары тоже попадались в расставленные повсюду ловушки, как, впрочем, и другие животные, – редкий гость, чертыхаясь, натыкался на свисавшую с потолка липучку, а кошка чуть не померла, выпивши неосторожно мухомора с блюдца, но главной добычей оставались они.
Любил наблюдать, как прилипнув одним крылом к клейкой поверхности, отталкивалась лапками, дергалась и билась, запутываясь все больше и больше, и вот уже только изредка вздрагивала в предсмертных судорогах, пока не замирала навеки, подобно ископаемому насекомому в янтаре или современному в паучьей паутине. Одну как-то пытался отцепить, но измазался клейкой массой и сам чуть не прилип – спасательных акций больше не предпринимал. А пауков папа специально разводил по углам и иногда производил подсчет вражеским потерям, включая паучьи трофеи. Клейкие спиральки были самым эффективным оружием, но была своя прелесть следить, как жадно пьет смертельную влагу из блюдца, а потом сваливается кверху лапками да так и плавает мертвая, и за пауком, который живую еще, трепещущую, пеленал, как ребенка или мумию, переворачивая с бока на бок, пока не получался кокон.
Конечно, оставалась какая-то премудрая разносчица, а то и две:
«Неистребимый народец», – говорил папа, имея в виду мушиный, никакой другой, и гонялся за ними целыми днями с мухобойкой, которую сам же и смастерил: палочка с прибитым на конце куском резины, а хлопала почище пушки с Петропавловки – каждый раз вздрагивал, а мама в конце концов оглохла, хотя на самом деле оттого, что травила меня хиной, когда я был еще нежеланный эмбрион-фетус, аборты Сталин запретил, а потом уже я сам не хотел рожаться, потому что шла война народная, священная война, за правое дело, и маме сделали кесарево, изъяв меня насильственно, но какое это имеет отношение к мухам? А, вот – мама оглохла и перестала реагировать, и я ей завидовал, потому что из-за всех этих папиных хлопков стал нервический ребенок, хотя на самом деле была тысяча других причин, пришлось обратиться к известному психиатру, фамилию забыл, да и неважно, но я ему нагрубил, и он сказал, что все упирается в мою распущенность и дурное воспитание, и накатал на меня телегу директору школы, но это опять другая история, хотя на самом деле та же самая.
Было все это на даче в Сестрорецке, в году так 53-м, 54-м, 55-м и так далее – как себя помню, папа ловил мух, а я каждый раз вздрагивал, и облегчение пришло только, когда он наконец устал и умер от рака в больнице, кажется, Куйбышева, на Литейном проспекте, за решеткой, но вход с Жуковского – всегда думал, в честь поэта, тем более рядом Некрасова, но оказался изобретатель самолета, а не братья Райт.
В конце концов и сам пристрастился, но просто прихлопывал ладонью на оконном стекле, которое муха не видела, принимая за свободный выход на волю, а потом отрывал сначала одно крыло, а потом другое и наблюдал, как живая и здоровая бегала по полу и иногда вздрагивала, пытаясь взлететь. Отучился, прочтя «Муху-Цокотуху», а спустя много лет успокаивал себя, что другие в детстве поступали хуже, надувая через соломинку лягушку и пуская в пруд, – как она пытается нырнуть и не может, как моя муха взлететь. А пойманные стрекозы летали большой компанией на продетой через них нитке с болтающейся иголкой на конце – и это тоже не я, а Сережа Князев с соседской дачи. Он же отрывал пауку лапки и складывал их вокруг беспомощного тела, приглашая нас наблюдать за их безнадежным танцем по направлению к хозяину. Еще был приятель, который взрезал своей кошке живот, чтобы заглянуть внутрь, а другой поджег зажатую стальной пружиной мышку и следил, как горящая и издыхающая тянулась к кусочку колбасы, из-за которого и попалась в мышеловку. Ах, дети, дети…
Уже став писателем, выстроил литературный ряд от «Мухи-Цокотухи» до «Мухи» Блейка, «Мух» Сартра и «Повелителя мух» Голдинга вплоть до Бродского, пусть и соперник – не в хронологическом порядке, а по мере знакомства с художественной литературой, им посвященной. Набралось с дюжину, но это была только присказка, а главным сюжетом стало воссоздание утраченной и никогда не написанной комедии про мух автора «Пчел», «Птиц» и «Лягушек» – потому и подзаголовок был игривый: «Перевод с древнегреческого». Поэма принесла известность, был избран почетным членом Общества защиты животных, хоть недоброжелатели и утверждали, будто занял амбивалентную по отношению к мухам позицию, что так и не так.
Знали бы про мои теперешние ночные бдения!
Еще травили клопов, но это совсем другая история, написать которую уже не успею, да и кому это все надо: читатель схлынул, оставив всех нас на произвол судьбы. Тем более методы другие: кровати сдвигались к середине комнаты, став ножками в консервные банки то ли с керосином, то ли с хлоркой, но клопы были хитрыми и смелыми и ночью сбрасывались десантом с потолка и кусали люто. Тараканов почему-то тогда не было, и знал только по книжкам, путая со сверчками, так как не видел ни тех, ни других. Клопы, как и комары, были зловреднее мух, но папа почему-то оставшиеся ему годы посвятил борьбе с последними как разносчиками, хоть сезон охоты был ограничен летними месяцами. Это была страсть, и, как любая, внушала страх и зависть.
А теперь вот, соорудив самодельную мухобойку из сложенной вчетверо газеты «Час Пик», сам охочусь по ночам за одной-единственной.
Сюда бы охотника папу, хоть у него и пахло изо рта, и это было сильнее, чем любые идейные разногласия, всякие разные там конфликты отцов и детей и прочая лажа. Как-то дал мне выпить из своего стакана – чуть не стошнило. Папа заметил и обиделся, но промолчал, а я давился и пил. Сок яблочный – подумать только, какие были времена! – одиннадцать копеек, а самый дешевый томатный – девять.
А сейчас?
Любую цифру назовешь – ошибешься, меняются каждый день, мыслию не угнаться. Если бы только цены – все к чертям собачьим. От прежней иерархии ценностей следа не осталось. Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан? Если не нужна литература и умирают журналы, то кто я теперь? Какой, к черту, поэт, когда Катька, для которой был кумир, и та не выдержала. Выходила за поэта – поэт и красавица, поэт и муза, – а как началось, так подпускать перестала:
– Как надоел…
– Тебя слишком много…
– Как можно так навязываться…
Неужели это прелестное нежное теплое тело, эти зеленоватые шнифты во все лицо – а походка! обалдеть! – весь этот совершенный физический аппарат принадлежит такому ничтожеству? Да сколько угодно!
Выходит, тогда и Венера Милосская… А почему, собственно, нет?
Была просто поклонница, сопливка, ошивалась на литературных тусовках, взял из ничтожества, Пигмалион – Галатея, ввел в литературный мир на свою голову, стала искусствовед, ревновал безумно, приняв литературного соперника за любовного. Или в самом деле успели снюхаться до его отвала? Как узнать, как узнать? Ее спрашивать бесполезно, а теперь уж и некого. Но явно предпочитала его стихи моим – это точно, а значит, его – мне. Пусть гений, что с того, но шпана, блатарь и жлоб – с него станет! Ему на дружбу раз плюнуть, хоть и не были никогда друзьями, но враги до умопомрачения. А теперь думаю: только бы не умер прежде меня, сердце у него хуже моего, хотя хуже некуда, кто раньше умрет? только бы не он! Ненавидеть можно живого, иначе смысл жизни утрачивается, хоть и так уже утрачен. Ревновал не ее, а к нему – вот! С кем другим – сколько угодно, но только не с ним.
А какие скандалы устраивал! Пока ИБ не отвалил в известном направлении – с глаз долой, из сердца вон. Это, конечно, была не победа, но устранение соперника – поделили между собой пространство: он там, я здесь. А потом гласность началась – успел попользоваться, выйдя из подполья, в котором никогда не был, новые стихи за старые выдавал, которые будто бы в стол писал, хоть всегда писал только для Гутенберга. Враг-друг тем временем вернулся, не утруждая себя телесным возвращением в пенаты и продолжая жить в Нью-Йорке, Венеции, Париже и далее везде, – но стихами. И вот у разбитого корыта, а он – в лучах тамошней, а теперь и здешней. Но не всем же гениями! Где с ним тягаться – так ей тогда и сказал, а теперь кричу на весь мир, но никто не слышит. И телефонный звонок и дверной молчат, и я один, все тонет в лицемерье – в лицедействе? в фарисействе? – вчерашние друзья бросили и подались кто куда: кто в бизнес, кто в Америку и проч. Вот именно, что прочЬ! И она ушла – так просто взяла и ушла.
Liebestod, гибель любви.
Вот незадача – в школе немецкий учил, а на кой теперь леший, когда даже еж кумекает по-английски.
Остался один – один на один с мухой.
Заместо музы – муха.
Поэт и муха.
И еще раз чуть не стошнило, в гостях у тети Муси, почти Музы, – сколько мне тогда? семь? восемь? Сталин еще жив, помню точно. Брат двоюродный, балбес лет уже под 30 и насмешник, и когда я заметил, что летает, и стал ловить, потому что, если сядет на еду, надо тут же выбросить, а поймал великовозрастный и раздавил прямо в моей тарелке с винегретом, измываясь над гигиеническими правилами нашего дома.
Вот тогда путем шока излечился наконец от мухофобии, а сейчас совсем по другой причине, потому что единственная и преследует лично меня, как императора Веспасиана, или Тита, или Домициана – или Диоклетиана? Нет, это из другой компании, а тот из Флавиев, как и примкнувший к ним Иосиф. Кого именно, не помню точно. А путал все со всем, метафорическое сознание, неуловимое сходство, обрывки знаний, хоть и числился среди литературных собратьев эрудитом и даже снобом, но это не трудно, – клаку с клоакой, кокетку с кокоткой, факира с халифом, Ван Гога с Гогеном, Шумана с Шубертом, Эдипа с Эзопом, мизантропа с филантропом, конъюктивит с промискуитетом, фауну с флорой, водопад с фонтаном, Парфенон с Пантеоном, Палестрину с Палестиной, Барселону с Братиславой, парламентеров с парламентариями, друзов с друидами и даже асфальт с сургучом, а ольху – с орешником, не говоря уже об императорах Калигуле и Каракалле. Божий дар с яичницей, но это о другом. Великий путаник – а это откуда?
Жена ушла вместе с остальным читателем, который не от меня одного, а от всей литературы схлынул, на фига она ему теперь, но все равно лично обидно. На стадионах выступал, писательский билет достаточно было предъявить, чтобы любая пошла, за каждой дыркой не ушивался, выбор был колоссальный, пока Галатею не подцепил, пусть вторичные половые признаки, но мы же цивилизованные люди, черт побери, это и есть наш павлиний хвост, соловьиная песнь и проч. и проч. А теперь что? Мускулатура? Автомат Калашникова? Бабки? В смысле баксы, грины, зеленые, потому что наши не в счет.
А что теперь в счет?
Долларизация секса. Деэротизация человека. Стебаное время. Волчье племя. Собачья жизнь, да и та не задалась. Никчемушник – вот кто я. Литература накрылась, мозгá не та. Пора уже вырубиться из этой жизни, отвалить к едрене-фене на свалку истории.
На один день пришлось – поэму в «Юности» зарубили и набор книги рассыпали: коммерческой ценности не представляет. Жертвы собственного успеха, потому что первыми на баррикадах в борьбе за свободу, был Гаврош, а теперь кто? Вернулся в пустой дом, один кот посреди комнаты развалился, лето, жара, кто на даче, а кто в Израиле, оглядел полки с рукописями: по-средневековому скрипторий, а в моем случае – кладбище никому больше не нужных стихов. И сам никому не нужен – жена ушла, читатель бросил, лучший друг предал, хоть никогда другом не был и не предавал, но кислородные пути перекрыл, дышать нечем, за грудь хватаюсь, нитроглицерин не сосу, а глотаю. Лег рано, долго вертелся, черные мысли одолевали, вот и порешил кончать с этой бодягой, тем самым подтвердив свою поэтическую сущность. Хотя кому до этого дело? Устал, слишком долго живу, засиделся в гостях, телефон молчит, дверной тоже, в почтовом ящике пусто – одни счета, которые нечем оплачивать, уже и на плаву не держусь, никогда не служил, жил на стихи и переводы благодаря дружбе народов, а сейчас какая дружба? Разбежались кто куда, а кому некуда – ничтожат друг друга. Весь вопрос – каким способом? Пистолета нет, цианистого калия нет, даже веревки надежной нет, не говоря уж о крюке, а этаж второй, руки-ноги переломаешь и жив останешься – всем на посмешище, а друг-враг будет злорадствовать, хоть и нет ему до тебя никакого дела, что самое обидное: я о нем – днем и ночью, а он обо мне – никогда. Почему я не женщина? Тогда был бы шанс! Однолюб и одноненавистник – вот кто я! Его только и любил, а потому ненавижу – как жаль, что тем, чем стало для меня его существование, не стало мое существованье для него. Дошел до ручки – его словами заговорил, собственных нет, даже мое сокровенное выразил не я, а он. Что делать, что делать. Вот тогда она и появилась.
Свет включил, очки надел – никого. Показалось.
Повернулся на другой бок, чтобы дальше думу черную думать, – на чем остановился? Пытаюсь вспомнить – никак. Завтра додумаю, утро вечера мудренее, да не тут-то было: опять чувствую – не один. Снова включил свет, снова надел очки и притаился: слежу. Вот тут папу и вспомнил. Эта та самая, которую он так и не поймал.
Подошел к окну, раздвинул шторы – август 1993-го, улица Ленина в городе Санкт-Петербурге, который все еще называю Ленинградом, у собратьев темно, что ни говори, прозаикам легче, а мне уже не перестроиться, пытался, но не успеваю, замыслы и мысли устаревают на глазах еще до того, как садишься за машинку, многие компьютер приобрели, только что бы я на нем писал? – назад, к гусиному перу! Может, так и назвать? Ускорение! Когда время несется, как ракета, поэт должен думать медленно, как черепаха. Хоть и неизвестно, как она думает.
Вот она! Сидит на краешке ночной лампы и задними лапками слюдяные крылышки чистит. Маленькая, но такие как раз самые зловредные.
Со сложенной вчетверо газетой подкрался и застыл: на прозрачных крылышках узор, как на листьях, темные глазки в орбитах вращаются, как у стрекозы, а лапками так и сучит. Прицелился для верняка – хлоп! – лампа вдребезги, тьма кромешная, вот черт! Осторожно продвинулся к выключателю, чтобы не порезаться осколками – и минут пятнадцать, наверное, ползал по полу, убирая. А потом опять лег, в комнате такая тьма, что можно спать с открытыми глазами, черные шторы против белых ночей, пытаюсь успокоиться и заснуть, какое там – чувствую, на плече сидит. Или кажется? С головой накрылся, но душно, задыхаюсь, а когда одеяло сбросил, на нос села, не отвязаться. Вспоминаю, среди осколков ее вроде не было, думал, отлетела куда-нибудь в угол и лежит лапками кверху, как в детстве в мухоморе. Снова надеваю очки и иду к выключателю, на все натыкаясь, хорошо хоть, не на стекло. Между рамами мертвые лежали, но считалось, что заснули летаргическим сном, а к весне оживут. Мама, когда газетные полоски отклеивала, сбрасывала их тряпкой на улицу, а папа сердился. «Где мухи?» – спрашивает. «Так они же мертвые…» – «Какие же они мертвые? – возмущается папа. – Это у них зимняя спячка, как у медведей. А потом они проснутся и вернутся домой – мне же их и ловить». А на самом деле рад – что бы он делал в оставшиеся ему годы без охоты на мух? Открытия сезона ждал с предвкушением. Завел специальную тетрадку, где вел подсчеты трофеям. Судя по годовым цифрам, то ли мух становилось все больше и больше в мире, то ли он с каждым годом совершенствовал свое искусство по истреблению мушиного племени, и неизвестно, чего бы достиг, если бы не смерть в больнице Куйбышева от рака двенадцатиперстной. Вот прообраз моей смерти, если бы не сердце и если сам не опережу, потому что передается по наследству, хотя не обязательно.