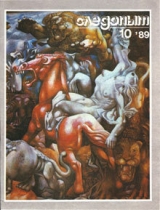
Текст книги "Счастья маленький баульчик"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
16
В вестибюле госпиталя, широком и низком, подпертом с боков снопами солнца из окон, а в середине – четырьмя прохладными колоннами, было людно и шумно. Возле Колонн и везде скромными и счастливыми родословными кусточками стояли раненые и их родные и близкие. Держа в руках забытые узелки с гостинцами, матери, жены, дети жадно смотрели на своих сыновей, мужей, отцов. И какой-нибудь раненый с перебинтованной головой, пряча за дымом махорки свою безмерную радость, как плохой актер, озабоченно хмурился и журил своих за то, что вот, мол, побросали все и поехали невесть в какую даль. А корова? А хозяйство?.. Родные виновато топтались и… и смотрели, смотрели на него, не сводя глаз… То-то! уводил в сторону полные счастья глаза свои перебинтованный, глубоко затягивался цигаркой и, уже более обстоятельно и спокойно, обсказывал им свои отличные дела.
Замирая сердцем, Катя метнулась к одним, к другим… «Господи, да откуда ему быть здесь?» – опамятовала себя. Схватила Митьку за руку, устремилась по широкому маршу лестницы на второй этаж.
– Эй, гражданка! гражданка!.. Это куда вы разбежались? Ну-ка, назад!
За столом у окна недовольно насупленная старуха в белом халате и колпаке.
Катя и Митька сбежали обратно. Катя комканно стала объяснять, что им бы… отец вот его тут! здесь он! в вашем госпитале! вот письмо! вот тут написано!..
– А я для чего здесь поставлена? – строго перебила старуха. – А она для чего тут лежит?.. – Старуха хлопнула по толстой лохматой книге – книга капризно фукнула пылью в солнце.
Извиняясь и торопливо повторяя фамилию мужа, чтобы ее скорей, скорей отыскали в этой толстой книге, Катя опрометчиво называла старуху «бабушкой», чем ввела ту в окончательную насупленность и раздраженность. Старуха водрузила очки, листала книгу и бунчала, передразнивая: бабушка… Колосков… внучка какая нашлась… Вдруг бросила книгу, вскрикнула:
– Иван?!
– Иван! Иван!
– Да что ж ты, голубка, раньше не приехала?
– Что?!
– Живой, живой! Не пугайся! Господи, ведь три дня как отправили-то его! И ты – вот она!
– Куда отправили? Куда?!
– В Алма-Ату, в Алма-Ату, голубка. С Москвы эшелон шел, ну и его туда, к ним, значит…
– Зачем?!
– Не знаю, не знаю, – стала уводить глаза старуха. – Иди-ка на второй этаж поскорей. К главной нашей. Там укажут тебе. Иди, иди, голубка! – Катя и Митька побежали по лестнице. – Господи… – качала вслед головой старуха.
Госпиталь был переполнен. Вдоль всего длинного темноватого коридора, разбавленного больничным запахом и светом из открытых дверей палат, у стен стояли кровати. Из провалившихся сумраков кроватей страданием и тоской смотрели на продвигающихся Катю и Митьку большие глаза раненых. Тут же в застиранных пижамах, места себе не находя, слонялись кто ходячий. И походили они на грустные и измученные матрасы. Стерильно полыхали белые медсестры – разводили раненых, укладывали, накрывали заботой, как простынями. Пахло гниющими бинтами, мочой и больным, изнуренным потом.
Главврача на месте не оказалось, пришлось сидеть в приемной, ждать. Из коридора в открытую дверь все время заглядывали сестры, санитарки, еще какие-то люди… Вроде бы случайно и безразлично, но вскоре забыв о «безразличия», столпились в дверях и с безжалостно-сострадательной откровенностью разглядывали Катю и Митьку. Только что головами не качали.
Митька напряженно потупился на стуле. Катя не знала, куда глядеть, мяла руки, лицо ее горело.
Какой-то раненый в костылях, медлительный, как журавель, вплыл в приемную. Незаметно как-то оказался сбоку Митьки. Начал подталкивать его пряником. Светло смущающийся, кхекающий. Митька взял. Прошептал: «Спасибо». Пряник был шершавый, в табачных соринках.
– Это еще что такое?! – В приемную входила пожилая властная женщина. Глянула на санитарок: – Вам делать нечего? – и те пропали; раненый завтыкал за ними костылями. – Вы ко мне?.. – приостановилась властная.
Катя и Митька вскочили.
– Доктор… я… я… здравствуйте!
– Почему без халатов?.. Немедленно в гардеробной оденьте халаты! И зайдете ко мне. Одна. Вы поняли меня?..
– Поняла, доктор… я…
– Идите! – и главврач пронесла себя в свой кабинет за дверь в дутых дерматиновых пузырях.
Катя и Митька кинулись было из приемной, но санитарки тут же обрядили их в свои халаты. «Иди, иди, дочка, не бойся!» – сказала одна из них, пожилая, и вдобавок перекрестила зачем-то Катю.
Через несколько минут дерматиновые пузыри отпахнули красное, злое лицо главврачихи.
– Семкина! Позови Марка Ефимовича!
– Бегу, Домна Викторовна! – сорвалась одна из санитарок.
Проходя через приемную, Марк Ефимович подергивал, ежил правое плечо. Был он лысый, в толстых очках, халат его развевался на стороны. Скрылся за дверью. Семкина, поглядывая на Митьку, о чем-то шепотом сообщила товаркам. Раненый не расслышал, задергал ее за рукав… Снова водил головкой.
Из кабинета Катю будто вытолкнули. Она кусала платок, давилась, захлебывалась слезами. Не успел Митька вскочить, как выбежал Марк Ефимович. Как не своей поводил неуверенно перед плачущей Катей рукой, робко взял Катю за локоть. Держал так. Хотел говорить, и не мог. Полнился слезами, уводил голову, дергал плечом. Стаскивал очки…
Опять выпахнулась главврачиха. Окинула всех взором разгневанно. Ставя будто последнюю, злобно-радостную точку, отчеканила Марку Ефимовичу:
– Где гарантия, что он бы снова не выкинул что-либо подобное? Где, я вас спрашиваю?
Марк Ефимович удушливо стал водить головой. Ему не хватало воздуха. Как в свидетели всех призывая, недоуменно, тихо заговорил:
– Гарантию ей, оказывается, подавай… На живого человека. А?.. – И вдруг закричал: – Ты, ты – гарантия! Сама! Стопроцентная, тупая, раз и навсегда заведенная!.. Настенный механизм с выскакивающей кукушкой!.. Но я… я… я поломаю твою гарантийную кукушку! Я сокрушу… я сворочу ее к чертовой матери, так и знай!.. Покукуешь тогда…
– Да как вы! ты! вы! ты!., вы забываетесь! – задохнулась властная. – Вы!.. Немедленно в мой кабинет! Немедленно! Слышите?!
Но Марк Ефимович уже не слышал, Марк Ефимович быстро вел Катю по коридору. «Гарантию!» А? Я покажу тебе гарантию! Чинуша! Проходимка!
Сплавила, сбагрила человека! Занимайтесь им, лечите, а я в стороне. Мерзавка! – врач вдруг бросил Катю и застучал кулаком по своей ноге, придавленно крича на весь коридор: – Это же коновал! Бревно! Туп-пица! Нуль в хирургии! – Раненые испуганно расступались перед ним. – Сказать такое! Жене героя! Родной жене! Но вы, милая, не обращайте, не обращайте, на каждую скотину обращать внимания – крови не хватит. Меня не было четыре дня – и вот результат. Воспользовалась! Сбагрила! Но она… она ответит за это! Поверьте мне, ответит! А вы, милая, не обращайте, забудьте! И поверьте мне, как врачу поверьте, второй раз муж огорчать вас не станет. Поверьте! Второй раз на такое не идут. Как врач вам говорю. Ведь одинаково у них все, одинаково. Банально до слез, до боли… Не хочет возвращаться к родным, не пишет, не отвечает на письма, скрывает все от врачей, прячется в себя… Но сколько их по нашим госпиталям. Сколько! Это другой парад победы. Совсем другой. Без генералов он, без барабанов, без фанфар. Это награды наши идут. Награды. Живые вывернутые медали идут, обугленные, до кости штандарты, до жути оплавленные ордена… Через души наши идут, через души, сквозь наши сердца… И эта мерзавка… и эта… эта… На колени, гадина, на колени! – в бессилии стукал по колену Марк Ефимович. Со слезами шептал: – На колени!.. – Сзади накатились санитарки с Митькой и раненым, но Марк Ефимович уже снова спешил, ведя Катю. Сдергивал очки, отмахивал платком слезы, снова накидывал очки, говорил, говорил без передышки: – Простите меня, милая! Простите! Не удержался. Простите. Сейчас мы зайдем ко мне. Сейчас. Обсудим все спокойненько. Обсудим, – Марк Ефимович остановился перед застекленной, занавешенной изнутри белым дверью. – Сейчас, сейчас, – искал по карманам ключи. – Сейчас… И теперь, милая, только от вас, только от вас все зависит… Сейчас… Мы обсудим все, обсудим, чем ему заняться. Поверьте, тысяча дел для него найдется, тысяча! Сейчас… – Стал близоруко шарить в замке. Открыл: – Проходите, милая!.. А ты, ты, сынок… ты постой, – остановил он Митьку. Беспомощно оглянулся. Искал. К нему сразу придвинулись санитарки и сестры. – Ага! Вот и займитесь мальчиком, чем рты попусту разевать! – Он ласково подтолкнул к ним Митьку. Скрылся за дверью.
Санитарки окружили Митьку, заглядывали к нему, раненый в костылях стеснительно трогал его голову.
17
Через трое суток на узловой станции Арысь перед посадкой в товарные вагоны люди проходили санпропускник. От станции на отшибе к плоскому зданию бани вилась нескончаемая очередь. Высокая железная труба, взятая в скрипучие проволочные растяжки, полоскала черным дымом прямо в полупустыню, Там вдали у горизонта в белом мареве знойными сухарями проплывали верблюды. И все вокруг: и сама баня, и очередь к ней, и станция справа, и дальше глинобитные дувалы и дома, точно густо павшие в молитве мусульмане с проостренной ими в небо мечетью-мольбой – все зыбко пошевеливалось, словно приглушенно бормотало в этом белесом зное полупустыни. Ни деревца вокруг, ни тенечка…
Пока мылись, солнце перекатилось на самый край полупустыни и там остывало. У его подножья молитвой падал мусульманин, обугленный, как муравей, На мечети бился горлинкой голосок муллы.
Потом товарняк «пятьсот-веселый» стучал и стучал за убегающими лучами солнца, а в вагонах вповалку спали помытые, намаявшиеся пассажиры.
Наутро навстречу поезду, как зеленый прохладный кораблик, выплыл из голой степи городок Джамбул. Но не успел состав вползти в станцию, еще лязгали буфера, шипели тормозные шланги, еще плыл, никак не мог остановиться деревянный обшарпанный вокзал, а вровень с вагонами уже бодро побежали какие-то люди в полувоенных картузах, но с винтовками настоящими. «Выгружайсь! Выгружайсь! Вагоны освобождай! Приехали!»
Вот тебе и городок зеленый Джамбул! Думали, остановятся на полчасика – паровозик попьет водицы, отдышится – да и дальше постучат, и к вечеру, глядишь, и Алма-Ата, а тут – на тебе! – новая пересадка. Скоро так, глядишь, и в голой степи пересадки начнут устраивать…
А эшелон минут через пять – точно вымолоченный на пути людьми и вещами, полностью вышелушенный, пустой – погнал назад, и полувоенные, вися на подножках, целеустремленно и строго смотрели вдаль. Люди побрели через пути к вокзалу, к приподнятому деревянному перрону, закидывали наверх детей, вещи, сами лезли. Перрон на глазах превращался все в тот же вялый, измученный, бесколесный табор.
На знойном и пустом, как степь, базаре неподалеку от станции Катя и Митька долго спорили под вывеской «Ремонт часов». В конце концов Катя решительно дернула дверь хибарки – и Митьке ничего не оставалось, как проследовать за ней.
Маленькие Катины часики толстый недовольный человек долго разглядывал увеличенным жутко глазом. Точно пойманную блоху. Ковырял внутренности отверточкой, пинцетиком – проверял на всяческий ход. Наконец скинул «глаз» в руку, не глядя на Катю назвал цену. «Да вы что?!» – возмутилась Катя. «Ладно, ладно! – сразу остановил ее злым, безоговорочным взмахом пухлой руки. – Ладно… – и будто голодной собаке кинул: – Еще три сотни…»
Необычного, странного вида пирожки жарились в бараньем жиру на прокопченном противне. Походили они на длинные африканские пироги, севшие на мели. И мели эти вдруг ожили, закипели. Прокопченный узбек в тюбетейке лопаточкой снимал, скидывал готовые, золотистые в большую чашку, тут же ловко защипывал в тесто новой требухи, новые кидал «пироги» на мели. Его прокопченный сынишка ползал на карачках, совал под противень в ржавую прогоревшую печку кизяк. Отворачиваясь от жара, железным прутом вышуровывал в густой долгий дым короткие горстки искорок.
Не слушая предупреждений матери, Митька выхватил из чашки, начал перекидывать с руки на руку длинную огненную эту пирогу, не удержался, откусил ароматной золотистости, катал, перекатывал во рту, обдувал, студил, капля слюнями на землю, но снова не удержался – раньше времени проглотил. Прослушал – и сломался от боли…
Потом прокопченный узбек держал на вытянутой руке прокопченный чайник и со всепонимающей грустью смотрел, как веснушчатый русский парнишка, точно жадный птенец вытягиваясь и закатывая глаза, пил, заглатывал из носика чайника тепловатую воду, ухватив себя за тощие ляжки…
А полдень набивал и набивал степной жары в городок. За вокзалом было полно деревьев, полно отдохновенной тени, но люди маялись на голом знойном перроне – уходить с него было нельзя: поезд могли дать на следующий день, а могли вот, в следующую минуту.
Чуть касаясь матери спиной, Митька сидел на чемодане, а баульчик – у него на коленях. Осоловелый, но упорный Митькин карандаш торчал над раскрытой тетрадкой. Ждал словно. Ждал из этой стоялой жары хоть какой-нибудь мысли, дуновения ветерка…
– Мам, как ты думаешь, если папе показать… если прочесть ему мои «Дорожные наблюдения» – они ему понравятся?
– Понравятся, Митя… Он очень любил читать. И тебе всегда читал. Сказки… Ты это не помнишь, конечно… Маленький был…
– Помню… – не совсем уверенно сказал Митька. И тут же хотел рассказать про трактор. Только где это было? Ну конечно в деревне! Осенью. Перед правлением колхоза. Трактор стоял большой, масленистый, жаркий, бил черными чубами из трубки вверх. А наверху, как на небе, вцепившись в железные, гладко-белые палки, сидел тракторист-дяденька (отец сидел?), и такой же черный, масленистый, чубатый белозубо улыбался. Кто-то подхватил Митьку сзади под мышки (дедушка подхватил?) и кинул на верх этого высокого, горячего чудища. Прямо в руки дяденьке. И трактор как обезумел – и понесся по выгону, и побежал. Выкатил из деревни – и открытый всему миру проселок быстро забултыхался Митьке навстречу, бил в лицо то горячим, моторовым, то холодным, с осенней, вывороченной стерни, а когда Митька вертелся головой назад, к деревне, проселок сыто швырялся масляной землей. И дяденька что-то пел, кричал и дергал, дергал вместе с Митькой эти гладко-железные палки…
Так было это или не было?.. Себе в подтвержденье Митька хотел спросить… и осекся; согбенная спина матери опять вздрагивала, голова приклонялась за платком то к одному плечу, то к другому…
«Папа… что сделать… чтобы мама… не плакала?..» – впервые написал в тетрадке карандаш… и глядя на эти медленные, трудные слова, словно не им, Митькой, написанные… слова, закрывшие все в «Дорожных наблюдениях». Митька не выдержал и заплакал… Открытый всем во внезапной безысходности, беззащитный.
– Ну что ты, сыночек! Что ты!..
– Ма-ма-а-а… – некрасиво и больно наморщивалось, кривилось в плаче веснушчатое мальчишечье лицо…
И опять измученно смотрели они на дикоусые, остановившиеся часы в конце перрона, на змеевые белые рельсы, мучительно уползающие к горизонту…
18
Товарняк на Алма-Ату заорал, ударил станцию вечером, почти на закате дня. Целый день, подлец, выжидал чего-то на запаснике. И сотни людей посыпались с перрона, бежали к нему, падали, рассыпаясь по рельсам детьми и вещами…
Катя и Митька бежали вдоль состава, пропуская и пропуская вагоны с насмерть бьющимися людьми. Все так же взревывая, стегал паникой паровоз. И вдруг: «Сюда, сюда, мамаша!» В начетверть сдвинутой двери вагона присел на корточки парень – фиксой улыбается, пальцами манит: «Ну!..» Катя кинула наверх Митьку с баульчиком, чемодан, сумку, сама взлетела, вздернутая парнем. Смотри-ка, вагон-то пустой почти! Справа вон только люди какие-то. В карты вроде бы играют. Под нарами.
С левой половины вагона быстро натаскали соломы, накидали ее к стенке, уселись прямо напротив двери: как повезло!
В широко расставленных ногах парня, внизу, появилась голова старика в малахае и молчком начала пихать в вагон мешок. «Куда?! Спецвагон!» – выпнул мешок парень. Но старик опять карабкался и мешок за собой тащил. «Спедвагон, морда!» – заорал парень, пихнул сапогом старика в плечо. Старик и мешок исчезли. Снова появились. «Сгинешь ты, гад, или нет?!» Парень отдирал руки старика от двери. «Да что вы делаете-то?! – вскочила Катя. – Ведь свободно!..» – «Заткнись!» – процедил в ее сторону парень. Вдруг ударил старика кулаком в лицо. Старик оторвался от двери, упал вниз. «Да как ты смеешь, подлец! – закричала Катя. – Ну-ка пусти!» Она хотела спрыгнуть к старику. «Сядь на место, сука, пока по рогам не вмазал!» Парень толкнул Катю от двери… Да что же это!..
По путям к поезду быстро шел кривоногий низенький казах в форменной железнодорожной фуражке. За ним катилось полаула казахов: женщин, детей, стариков. Старик у вагона поднялся, отирая с лица кровь, заспешил навстречу своим. Показывал казаху в фуражке на вагон, на парня. Весь аул повернул к вагону.
– В чем дело? Что за спецвагон? Я начальник станции. А вы кто такие? Предъявите документы! – сразу потребовал казах в фуражке.
В дверях уже стояло несколько человек. «Товарищ! Товарищ!» – кинулась было к двери Катя, но ее загородили, оттеснили назад.
– Да что вы, гражданин начальник! Какой спецвагон! – фальшиво рассмеялся глыбастый, в майке, в сплошной татуировке мужик. – Парень пошутил, а вы уж и поверили. Строители мы. Бригада. Ждем остальных – вот и заняли. Должны подойти. Строители мы.
– Но вы не имеете права занимать целый вагон! Сколько вас? Откуда? Какая организация? Документы! – не отставал в фуражке.
– Да ладно тебе, товарищ! Грузитесь! Места всем хватит! Загуляли где-то наши – видать, не подойдут. Грузитесь! – И глыбастый одной рукой, как штору, сдвинул дверь вправо до упора. Проходя мимо Кати, выдохнул злой водкой: – Шуточки любишь шутить, красотка!..
Казах в фуражке колебался. Но тут опять взревел паровоз, и он махнул рукой своим: грузитесь! В вагон полетели мешки, тюки с шерстью, казашатки в тюбетейках, лукавые девчонки с многокосичками завзвизгивали, полезли женщины, удойно взбалтывая тяжелыми монистами, в малахаях закряхтели аксакалы-старики.
Потом, в эту последнюю ночь перед Алма-Атой, было пятеро оскалившихся финками бандитов в полуосвещенном громыхающем товарном вагоне и овцами сбившиеся на солому к стенке женщины, дети, старики…
На станции Алма-Ата в зное привокзальной площади, меж тележек с ишачками ходила полураздет тая, босая женщина. Она останавливалась перед возчиками в ватных халатах, о чем-то умоляюще их просила. С ней ходил мальчишка с баульчиком, лет семи, тоже босой и полураздетый. Старики-возчики подозрительно слушали, потом зло отмахивали их руками, отворачивались к своим ишачкам, деловито поправляли упряжь. Женщина и мальчик шли дальше.
Их догнал старик-казах, тронул женщину за плечо. Ласковые, вековыми степными ветрами задутые щелочки глаз. Улыбаясь, показал на своего ишачка с тележкой. Идя к тележке, женщина, чуть не рыдая, благодарила и благодарила старика. Тот смеялся, похлопывал ее по плечу. Втроем уселись на тележку. Старик прикрыл женщину какой-то мешковиной, протянул обоим по большой лепешке. Затем накинул веревочным кнутиком ишачка по боку. Ишачок постриг ушками, подумал и с места побежал – частоколушки загородил на мостовой.
– А-айда, Джайран, а-айда! – оборачивался, подмигивал, смеялся старик. – А-айда-а!
Ишачок бежал. Старик смеялся. Не замечая освобожденных слез своих смеялись с лепешками в руках женщина и мальчишка. Смеялось в листве над головой бегущее солнце.
– А-айда, Джайран! А-айда-а-а!..
Ни в одном из четырех госпиталей Алма-Аты Колосков Иван Дмитриевич в списках раненых, находящихся на излечении, значиться не будет…
Спустя год, 23 июня 46-го года, в городе П-ске, по улице Грибоедова, во дворе пимокатной артели слепых стоял высокий мужчина в прорезиненном длинном фартуке. К его груди застывше прильнула женщина. Платок с головы у нее съехал, рассыпав на лицо, на закрытые мокрые глаза, с сильной проседью короткие волосы. На обгоревшем, как оплавленном лице мужчины жуткой медалью вывернулась пустая, точно кровью сочащаяся глазница. Другой глаз – как выпуклый застрявший кусок свинца. Одной рукой мужчина прижимал к себе женщину, другой – слепо тыкался, цепко хватал длинными пальцами парнишку лет восьми: по плечам его, по лицу, сбив с него кепку. Парнишка удерживал баульчик у груди, и, будто от цепких этих лихорадочных тычков, из глаз его проливались слезы.
– Катя!.. Митя!.. Сынок!.. – откуда-то из-за маленького, стянутого рта, как из жизни другой, отрывались прерывистые слова.
Вокруг трех этих людей суетилась какая-то пожилая женщина в черном халате. Все сгребала в одно чемодан, сумку, узелок. Но все это разваливалось у нее, падало, и она, словно боясь остановиться, все сгребала и сгребала, плача и бормоча:
– Да что же вы стоите-то? Да что же вы стоитето? Что же вы стоите-то?..
В низких открытых окнах полуподвала, как слепая, настороженная рощица перед грозой, застыли обнаженными глазами инвалиды.








