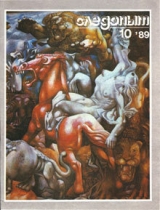
Текст книги "Счастья маленький баульчик"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
6
В райисполкоме Дмитрий Егорович Колосков находился в громкой должности главного агронома района, но более неподходящей работы для 63-летнего старика придумать было трудно: круглый год приходилось мотаться ему по району из одного конца в другой: в устойчивую погоду – с Иваном Зиновиевичем на полуторке, в распутицу и метели – с Пантелеевым-Спечияльным на лошадях. Но понимал старик, что надо, и не роптал.
И вот маленький, сухонький этот старичок идет и идет где-нибудь межой, попыхивая самокруткой, наматывает да наматывает намозоленной саженью, а рядом – агроном и сам председатель еле поспевают… Однако всякое случалось в трудное то, тяжелое время…
Однажды пыхтел за ним, в бороздах спотыкался председатель Калмогоров из кержаков. Краснорожий, тучный. Отставал, вконец задыхаясь, платком отирался, снова догонял. И вот, когда остановились передохнуть, вдруг предложил ему, Дмитрию Егоровичу, мешок муки-крупчатки. Взятку. За то, чтобы Дмитрий Егорович не вносил в сводку земельный клин за Воробьевой балкой. Шесть гектаров. Весной это все произошло. В тоще1, мокрой лесопосадке. С глазу на глаз.
Смотрел на деревню вдали Дмитрий Егорович, курил задумчиво и вспоминал всю краснорожую родню Калмогорова, окопавшуюся с ним в сельсовете. Наверняка уже есть «решение» этого липового сельсовета: пустить клин под пары… А засеваться клин будет, а осенью так же споро, ничего не подозревая, колхозники снимут с него урожай, а урожай тот осядет в сусеках самого Калмогорова и всей его глотовой родни… Ловко!
– Ну, Егорыч, – ныл негодяй. – Мешок крупчатки – и по-людски, по-доброму, а, Егорыч?..
– Два!
– Че?!
– Два мешка – и по рукам!
– Вот энто по-нашенски, вот энто… ятит-твою!.. – Калмогоров схватил руку Дмитрия Егоровича и затрясся с нею. Как со вступлением поздравлял. В шайку свою подлую.
А Дмитрий Егорович вроде бы смущался. Говорил, чтоб осторожней там, с мешками-то. Когда в кузов класть будут. С Иваном Зиновиевичем. А то люди кругом…
– Егорыч! Понял! Лечу! – И уже в следующий миг Калмогоров пыхтел прямо по пахоте, словно лихорадочно-жадно пересчитывал сапогами ее вывернутые тучные ряды: мое! мое! много! много! – пела, подбрасывала, тащила вперед эту тушу борова неуемная радости… Долго смотрел вслед Дмитрий Егорович. До тех пор, покуда Калмогоров, точно обожравшись этой земли, пахоты этой, не стал выкарабкиваться из нее жуком навозным на чистый взгор у деревни. «Ну погоди, подлюга!» Скрипнув зубами, Дмитрий Егорович отвернулся и пошел махать саженью дальше.
Через час он стоял в кузове полуторки и говорил окружившим машину колхозникам: бабам, подросткам, детишкам да старикам:
– Тут вот какое дело, товарищи… Ваш дорогой председатель, Федор Лукич, и ваше уважаемое правление… – Дмитрий Егорович широким жестом распахнулся на крыльцо сельсовета, где стоял сам Калмогоров и вся его родня. – …так вот, товарищи, они поручили мне, как представителю района, за ваш героический труд для фронта, для победы и в честь приближающегося дня Первое мая… да и пасха вон через три дня… – Народ засмеялся. – Одним словом, товарищи, мне поручено раздать вам муки. Пельмешки чтоб там, пироги на праздник! – Народ радостно загалдел. – Вот тут в двух мешках двести с небольшим килограмм. Мы их сейчас и поделим поровну на всех… Марья Семеновна, как у вас?
Седенькая старушка-учительница, раскрасневшаяся и гордая от порученной ей миссии, оторвалась от подсчетов, воскликнула:
– По полтора килограмма выходит на человека, Дмитрий Егорович! – и добавила с отчаянной хитрецой – Если не считать сельсовета…
– Ну вот и отлично! А сельсовет считать не будем. Чего его считать, если он – дарит? Иван Зино-виеч, открывай борт, весы подавай. Подходите, товарищи! Да хорошенько помните своего дорогого председателя, Федора Лукича! А ты, Федор Лукич, всегда поручай мне такое приятное дело. Вон на посевную скоро приеду – готовь еще мешка три! Все раздам!
Народ хохотал. На крыльце сельсовета трещал, перилы выворачивал красный, как рак, Калмогоров.
Через неделю Калмогоров приехал в город, пришел куда следует и сам решительно «арестовался».
Липовый сельсовет был разогнан. Колхозники выбрали новый. Правильный, свой. Дмитрия Егоровича «за геройство» шарахнули строгачем, но на работе, подумав, оставили.
Бывали в районе и другие случаи…
Еще раньше, месяца за полтора до посевной, в конце марта, проверял Дмитрий Егорович в одном колхозе с местной агрономшей семенную пшеницу. И что-то в поведении этой агрономши и другой женщины – кладовщицы, крутящейся тут же, показалось подозрительным ему. Суетятся обе, из рук все роняют, кладовщица красная, агрономша наоборот – белая. Что за черт! Между делом послал за председателем – прибежал раздетым, без шапки, Никонов, такой же старик, как и Дмитрий Егорович. Перевешали зерно – нехватка ста с лишним килограмм. Агрономша в слезы, кладовщица за ней.
– Поделили, мерзавки?! – подступился к ним Дмитрий Егорович.
Никонов вдруг взмолился.
– Егорыч! Не виноватые оне. Я взял.
– Ты-ы?!
– Я, – опустил седую голову Никонов.
– Да ты… ты… мать-перемать! Где зерно?!
– Смолол… Зимой еще… И продал.
Дмитрий Егорович задохнулся на миг, покрутил головой, приходя в себя.
– Петя, не шути… мы ведь с тобой вместе…
– Правда, – тихо, но твердо сказал Никонов.
У Дмитрия Егоровича сузились глаза.
– Та-ак… Значит, ты, гад, подумал, мол, воевали, вместе под смертью ходили – он меня выручит, покроет в случае чего… Так?.. Отвечай!
Никонов молчал.
– А ну собирайся иди, сволочь! – И Дмитрий Егорович, как заразу какую, обошел Никонова, выскочил из склада в пасмурную улочку деревеньки и заметался возле полуторки.
От раскапоченного мотора поднял голову Иван Зиновиевич, с удивлением, растерянно смотрел, как Никонов мучительно пронес мимо красные, полные слез, моргающие глаза – точно не хотел, не мог пролить их при нем – и дальше сгорбился и шел, сдер-гивая слезы, сморкаясь. Мокрая жирная улочка по-степенно задиралась боком, но Никонов не замечал этого, не осторожнил шаг – шел, как во сне, как-то раздумчиво и обреченно елозил, откидывал назад сапогами, точно медлил до поры, не выбирался на обочину к своей избенке, где на завалинку – теперешней участью его – уже опадала старуха-жена, с будто проткнутым – немым, без воздуха – криком… Иван Зиновиевич поспешно спросил, что случилось…
– Заводи машину! Вот чего случилось! – заорал на него Дмитрий Егорович.
Внимательно, долгим взглядом посмотрел на бегающего начальника шофер. Но промолчал. Опустил капот, пошел за рукояткой, крутанул ею в передке полуторки. Мотор тряхнулся, равномерно задрожал.
Тут подходит к Дмитрию Егоровичу какая-то сгорбленная старушонка, кланяется в пояс и протягивает небольшой мешочек. Что еще такое! Дмитрий Егорович взял. Зерно. Пшеница. А старуха уже костыляет от него. Баба какая-то, тоже с мешочком. Старик. Еще баба. И все суют ему мешочки, наволочки с зерном, в руки или на землю прямо кладут, к сапогам. Молодуха. Лицо одутлое, землистое. Положила мешочек, «извиняйте» сказала, повела в сторону тоскливые глаза, и сама за ними повелась… Медленно протаскивались эти люди, впечатываясь в память и в то же время смазанно и быстро, и ошарашенный Дмитрий Егорович только рот раскрывал, не успевая ничего спросить, выяснить. А люди клали и клали мешочки… Как жизни свои складывали к его испуганным, пятящимся ногам…
И стыд, и внезапный, неосознанный еще и оттого непереносимый вдвойне, задохнулся, заворочался вместе с сердцем, булыжником затолкался в груди. Господи, да что же это!.. Лет семи парнишка протягивает мешочек – из завернутого рукава взрослой телогрейки ручонка как сизая дряблая ветка… Лицо Дмитрия Егоровича перекосило, правый глаз, вытаращился, стал вспыхивать стекленеющей жутью, болью…
– Стой! – Дмитрий Егорович схватил парнишку за плечи. Задыхаясь, отворачивая в сторону страшное свое лицо, быстро, лихорадочно спрашивал: – Кто… кто-кто-кто-тебя-послал? Сынок? Кто?
– Мамка.
– А где? откуда зерно?.. Говори, не бойся. Ну! – легонько встряхнул – голова парнишки в кепке как скуластый подсолнух мотнулась.
– Дали… в правлении…
– Когда?!
– Вчерась, – прошептал парнишка.
Стеснилось снова в груди, задавило. «Да ведь голод в деревне. Повальный голод! Как же теперь…»
Поникше, виновато стоял парнишка, не решаясь уйти.
Вдруг Дмитрий Егорович стал совать ему мешочек. Обратно.
– На, на! Не бойся, сынок, бери! Домой скорей. И смолоть, смолоть! Сегодня же! Слышишь? И всем скажи!.. Давай, дуй!
Парнишка вяло побежал, как подбитая птица замахивая рукавом и полой телогрейки. И Дмитрий Егорович, не в силах оторвать от него глаза, давясь слезами, странно как-то – неуверенно и отрывисто – подергивал, помахивал ему рукой. Как крестил его, крестил: сынок… я… я… я все для тебя… я… сынок!..
Медленно, словно только б не стоять на месте, полуторка отъезжала от деревни. Отработав так в неуверенности километра два, остановилась совсем.
Перед мертвым полем в серых снеговых проплешинах, как посланцы голода с пустыми корзинами, сбились в кучу, растерялись тополя. Позади, взятая на небо, отрешенно, тихо бредила деревня…
В голове красно кололо, вспыхивало. Знобясь, Дмитрий Егорович придавленно сидел перед мотающимся «дворником», и работающий вхолостую мотор вытряхивал в истерзанное сознание ждущие чего-то, раскидистые, ни за что не зацепливые мысли…
– Егорыч, может в Киселево? – осторожно подсказал Иван Зиновиевич.
Дмитрий Егорович поднял голову, перевел дух.
– Да, да, Зиновиеч, давай в Киселево. Там поймут. Иванов – человек. Давай, родной, побыстрей, давай…
Иван Зиновиевич с места рванул машину.
Часа через два примчали мешок пшеницы, сбросили его на крыльцо склада, развернулись и уехали.
7
Даже снаружи этот вокзал не казался таким огромным, каким был внутри. Словно осадив для разбега глубоко назад, он стремительно взбегал по широкой каменной лестнице на второй, открытый этаж и тянулся к высоченным окнам, к свету. Внизу же, придавленным и остановленным, наконец, табором – люди. Но табору без движения, без дороги – не жизнь, и вот стоит, топчется на месте, сидит, лежит на длинных деревянных диванах – осоловевший, измученный. Гул голосов серый, разреженный, как пар.
– Митя, не отставай! Держись за меня! – понукала разинувшего рот Митьку Катя. Людской поток, вынесший их из подземного туннеля, растекался по всему вокзалу. Люди облегченно скидывали с плеч, ставили на пол вещи, но сразу как-то растерянно застывали. Точно на обширное, незнакомое болото вышли – и завязли: куда дальше? куда?..
– Митя, держись, я тебе сказала! – Катя с вещами упорно проталкивалась к кассам, которые сразу заприметила, как только вышли из туннеля. «Сперва – билеты, а уж потом – разглядывать все», – рассудительно думала она.
Растянутая вдоль касс толпа не билась, не сражалась, как в Рубцовке, но как-то вежливо и долговременно давилась. Касс много. А в какую? Да и где тут крайнего-то искать?..
– Катя, Катя, сюды! – возле одной из касс подпрыгивала рука и голова Панкрата Никитича. – Сюды, Катя!
Катя помахала в ответ. Нашли Меланью Федо-сеевну, и та встретила их удовлетворенными словами:
– Вона! – кивнула она на супруга, потерянно как-то выглядывающего из очереди. – Настрополи-ла – и, почитай, первый в очереди стоиг. А то б вышагивал опять… Давай вешшички-то да к нему ступай. А то – выглядывает.
Но напрасно Панкрат Никитич сломя голову бежал по туннелю к кассам – поезд Новосибирск – Харьков ушел два часа назад, а на проходящие – билеты не компостировали. Мест не было. Даже в общие вагоны. Вот тебе, бабка, и Юрьев день!
Привокзальную площадь – обширную, утренне-сизовато-дымную – вдоль и поперек прострачивали люди. Дальше площадь и прилегающие улочки втягивала в себя другая улица – более широкая, подпирающая дальней частью асфальтового языка розовато-серебристое небо горизонта, но ближе увязившая себя в тяжелые дома в лепнине, как в торты. С боковых улочек теснились, ярясь и огрызаясь, грузовики и легковые автомобили. Заполошно трелькал, тащил искристую паутинку краснопузоподвешенный трамвай. Огораживаясь пустотой, бежали у обочин лошади с телегами с похмельио-тлеющими мужичками. Как по наждакам, по тротуарам торопливо шаркался густой пешеход. Овисло и слепо, как перед чихом, замерли топольки, будто только на время выпущенные из асфальта. И на целые кварталы лениво потягивалось равнодушное стекло магазинов. А в нем – брошенные, испуганно преломляющиеся – двое провинциалов. Мальчишка с баульчиком и женщина с кирзовой сумкой.
Долго ходили вокруг здания оперного театра, величественного и таинственного. Поколебавшись, купили билеты и пошли за детворой и взрослыми внутрь. Сидели на самой верхотуре. Снизу, как из колодца в жаркий полдень, приятно опахивала музыка. А по сцене волоокими козами в пушистых белых штанах капризно взбрыкивали вверх балерины. Их удерживали, как укрощали, балеруны – все мясистые, как бифштексы, знающие свое дело. Митька балет отверг. Полностью. Катя частично одобрила.
Отоварив в магазине карточки, забрели в парк культуры и отдыха. Долго глазели на чертово колесо, упорно улезающее в небо, на диковинные какие-то железные качалки, которые бултыхались со смеющимися ребятишками по земле в огороженной площадке. Митька прокатился на привычной карусели. Он сидел верхом на обшарпанном верблюде. Потом вышли к летней эстраде, где на скамейках, на самом солнцепеке сидели зрители, а в затененной раковине, прямо на полу, как просторный ситцевый луг, волновались цыганки; их, как и положено, по краям застолбили плисовые цыганы с гитарами.
Вдруг вся эта декорация колыхнулась и закатилась песней. И повела ее, повела, раскачивая, вол-нуя, дальше, дальше, быстрей, быстрей.
На сцену вымахнул солдат. Прямо из публики. Вся грудь в медалях. Саданул об пол вещмешок, пилотку и пошел бацать сапожками. И волнистые кудри руками назад зализывает. «Да это ж солдат – цыган! Прям с фронта!» – ахнул народ и в ладоши задубасил. Хор «узнал» своего, взвизгнул, наддал. Плисовые тут же окружили солдата – и гитарами, гитарами его подначивают! А тот уже дровосеком рубит сапоги, аж на груди медали хлещут. А плисовые за ним, за ним, да жарче, жарче!.. Одна цыганка не выдержала, сорвалась. Крутанула ситцем и пала к солдату поляной – и выгибается, и назад, и кругами, и волнуется, волнуется, монистами рассыпаясь. А солдат схватился за голову – не сон ли это! – и давай обколачивать поляну, и давай: и дровосеком, и обколачивает, и дровосеком, и обколачивает! И кричит по-своему на весь парк: застолбил! застолбил! моя! на век! не подходи! убью-у! Хор – как стеганули – вскачь, плисовые гитары душат. Тут цыганята сыпанули на сцену – что началось!..
Часто-часто Митька хлопал в ладошки. Поворачивался к матери: ну же, мама, ну! – и та, словно разучившись, неумело, как старушка, хлопала, виновато улыбаясь…
Вечером, возвращаясь на вокзал, проходили длинным сквозным сквером. Справа затихала улица, слева залезало на ночь в деревья и кусты закатное солнце. Устало присели на скамейку. В кустах напротив рыскали, шарились чудные какие-то собаки. Они вынюхивали понизу солнце – и задирались акробатами. Их хозяева терпеливо ждали, провиснув поводками.
Мимо по аллее простучала каблучками дамочка, капризничая ненужным уже зонтиком и дергая за собой, как собачонку, вяньгающего мальчишку лет четырех, сопливого и в матроске. Митька удивленно проводил их взглядом: странные все ж таки люди в большом городе: с собаками – как с детьми, с детьми – как с собаками… А, мам?.. И снова повернулся к диковинным собакам и их диковинным хозяевам.
Были тут какие-то жирные псы, слюнявые и недовольные как старики: два кучерявых, будто опилками набитых, кобелька, во время прихрамывающего бега одинаково-продольно разматывающих мордами как пустыми саквояжами; как трубы длинные и певучие суки: здоровенный – с телка, но хлесткий, как прут, угольно-черный пес с болтающей утюгом мордой; какие-то сплошь заросшие шавки… И все сытые, гладкие, холеные… А, мам?..
А Катя с непонятно откуда нахлынувшей злобой невольно только прикидывала: сколько же сжирают эти паразиты?.. И вспомнились тут ей два прошлогодних несчастных гуся…
– Пошли отсюда!
– Ну мам, посмо-отрим…
– Пойдем, я тебе сказала! Людям есть нечего, а они… вывели… Крысы!
А вслед неслось: «Джек, ко мне!», «Джерри, Джерри, брось сейчас же, выплюнь – бяка!», «Ли-инда! Золотце мое! М-му-ух, моя радость!»…

8

Прошлой осенью, недели за две до Ноябрьских, Дмитрий Егорович заявился домой с киластым мешком за плечом.
«Сюрприз», – хитро подмигнул он вскочившим из-за стола Кате и Митьке. Прошел в кухонку, боязливо опустил мешок на пол – и отпрянул. Мешок завозился, в отверстие выдернулись две удивленные гусиные головы. Помотались немного и криком вдарили – как в трубы гвозданули. Вот так трубачи! Вот так сюрприз!
– На работе дали, – пояснил Дмитрий Егорович. – К празднику… Хорошие гуси…
Конечно, на работе разбойников не дадут, тем более к празднику, подумал Митька, однако выглядывал из-за матери с опаской.
Присев на корточки, Дмитрий Егорович стал дергать мешок за край. Желая помочь, значит, гусям, освободить их. Но его не поняли: мелькнул как острый камень клюв – и он отскочил, за руку схватился: до крови, подлец!
Вот тебе и хорошие гуси…
А гуси поборолись с мешком, стоптали его под себя и уже разгуливают по кухне, шеями тянутся во все дыры: под столик, под табуретку, за печку, в помойное ведро один было запустился, но чихнул – не про нас табачок, крепковат. И тут же нарисовал на полу. Другой не отстает – тоже рисует. Гуси тощие, грязные, облезлые. Как окопные генералы, после долгой позиции в тыл прибывшие. Для поправки сильно пошатнувшегося здоровья. Ходят, осматривают свои будущие апартаменты. Ну что ж, вполне пристойно, вполне. Впрочем, хозяева вон только рты поразевали, но это хорошо – почтение. К высокому чину. Это хорошо! Вполне, вполне… Генералы привстали на лапах, как бы потянулись и удовлетворенно замахали крыльями, только календарь зашуршал со стены да сами хозяева чуть с кухни не вымелись.
На другой день Дмитрий Егорович со Спечияльным из штакетника сколотили здоровенный глухой ящик. На огороде. Нечто вроде гусятника.
И генералы без всякого почтения были выселены туда.
Питались гуси черт-те чем: ополосками, картофельной шелухой, ботвой огородной не брезговали. Однако через месяц оправились, посвежели и стали оглашать окрестности жизнерадостными вскриками. Но кто бы не разгуливал по двору – Митька ли, Дмитрий Егорович, из прорабской конторы ли кто – ящик на огороде молчал. Стоило Кате появиться на крыльце – сразу трубили торжественную встречу. Вытряхнет Катя половичок, уйдет в дом – гуси разом оборвут. (Истинные профессионалы – ни единой ноты попусту.) Выйдет с другим половичком – «трубы из футляров» – и встреча еще радостнее вверх! А когда Катя тащила к ящику какую-нибудь бурду в кастрюле, а рядом припрыгивал Митька – трубы гвоздили из ящика не переставая. Митька бежал вперед, как сурдину выдергивал, распахивал дверь, и гуси с распростертыми крылами, как с распростертыми руками, радостно крича, неслись навстречу Кате. И бегали, бегали ласковыми шеями по бедрам ее, по животу, а то и к лицу норовили добраться. И тегали, тегали. «Ну, ну, хватит, хватит!» – успокаивала их Катя, потом выливала бурду в корыто. Извинившись за прозу жизни, генералы приступали к трапезе – щуками процеживались в корыте. В другое, оцинкованное, корыто Катя наливала колодезной воды, и, отобедав, генералы по очереди залезали в него – ванну принимали. Они приседали, нахлынывая воду на себя, как мочалками гуляли шеями по спине, на груди, по бокам; затем, уже на земле, прорабатывали клювами каждое перо, не забывая даже про малюсенькие перышки. А когда они потом ходили с Катей кругами по осеннему, растерзанному огороду – белогрудые, в будто накинутых на плечи чистых серых шинелях, благоухая свежестью и здоровьем, – то это были уже натуральные генералы, сопровождающие даму на прогулке.
На безопасном расстоянии спотыкался о кочки Митька. И стоило приблизиться ему чуть, как кавалеры, извинившись перед дамой, кидались к нему как с пиками наперевес: ш-ш-ш-ш-шы-ы-ы! Митька откатывался назад. А гуси возвращались на исходную позицию – по бокам Кати и чуть позади ее.
– Мам, давай!.. – просил Митька, заранее плещась смехом.
– Не надо…
– Ну мам!..
Катя убыстрила шаг. Головы кавалеров испуганно вздрагивали, поспешно болтались вслед. Догоняли, укоризненно тегали: что это еще за шуточки с вашей стороны!.. Катя еще быстрее. Да что же это! – вскрикивали кавалеры.
– Еще! Еще! – смеялся, подпрыгивал Митька.
Катя бежала, вскидывая ноги в тяжелых кирзачах, размахивая руками телогрейки. Благим матом орали кавалеры: держи-и! удира-ет! Мчались за ней, крылами растопыриваясь на пол-огорода. Чуть с ног не сбивали, догоняя, и тегали, тегали сердито: да что ж это такое? тега! никакого этикету не соблюдать! тега! да как можно! тега! мы к вам с самыми серьезными намерениями, а вы? жестокая! Т-тега!
Митька сучил ногами у самого живота, совсем заходился. А Катя уже гладила, успокаивала обидевшихся кавалеров.
Дальше по кругу опять шли чинно, благородно – дама чуть впереди, кавалеры чуть позади: ну вот, другое дело! А то бежать… Дама – и бежать. От кавалеров! Надо ж такое придумать! Тега!
В том году декабрь лег быстро, и сразу высоко поставились неподвижные, синевато-бело-искристые дни. Задумчиво-кучерявые дымы из печных труб слезили, донимали солнце. По улицам бежали, жарко всхрапывая, лошади с розвальнями и кошевками. Бодреньким поскрипывали морозцем пешеходы. В инее, как в морозистых гусеницах, затяжелели деревья и провода.
В дом Влетел Митька – раскрасневшийся, весь в снегу.
– Мама! Дедушка! Мы с Вадькой Пудом… – и осекся.
Один гусь висел, уже подвешенный на веревке возле печки. Уже ощипанный, без головы, с обрубленными лапами. Будто в кальсонах на последнем своем параде. Другой голо съежился в пере на коленях у Кати. Шмыгая покрасневшим носом, Катя зло дергала перо и этой же рукой сдергивала слезы с ресниц.
– Дедушка! Дедушка! – бросился в комнату Митька.
– Ну, ну… ты ж мужик… – Дмитрий Егорович обнял его, расстегивать стал тулупчик.
– Дедушка! Гуси! Генералы! Дедушка!..
– Ну, ну, не надо, сынок…
– Гу-си-и-и-и… – уткнулся в грудь дедушки Митька.








