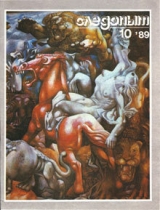
Текст книги "Счастья маленький баульчик"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
3
Из железного ржавого унитаза, как из басовой трубы, грохотала железная дорога. Пакашиваясь на унитаз, Митька торопливо умылся и, уже вытираясь полотенцем, испуганно наткнулся взглядом на какого-то мальчишку сзади в зеркале на стене.
Мальчишка таращился, лицо его будто пережевывалось и было в желтых пятнах… «Да это же я!» – рассмеялся Митька. Судорожно давнул педаль сбоку унитаза и, как от обвала, от лавины, выскочил в спасительный коридорчик.
Из нижней полки Катй уже подняла и закрепила столик, доставала еду из кирзовой сумки. Митька уселся на вчерашнее место – к окну, навстречу движению. Плотные перелески выкидывали, веером разворачивая утреннему солнцу, поля в зеленой, гуляющей на все стороны пшенице и далекие, завалившиеся за край земли деревеньки. Вдоль железной дороги на открытых местах торопливо городились серые щиты снегозадержания. Внезапно провалившись, извилистая речка испуганно засеребрилась в оползневелых берегах. Замахался фермами железнодорожный мост, и снова выскакивали перелески, торопливо расстилали солнцу зеленые поля.
А в самом вагоне из каждого закутка в проход, к солнцу смотрела сдернутая с привычного места и стучащая неизвестно куда жизнь людская, со, своими радостями и печалями, надеждой и разочарованием.
Вчерашние солдаты исчезли – ни вещмешков, ни шинелей, – сошли, видно, ночью или под утро: Катя и не слыхала. Уже умытый, опрятный, тихий, старик поглаживал ладонями колени, покачивался и осторожненько намекал жене насчет «капиточку». Чайку чтоб, значит, сообразить; глаза у него красненько грустили, как у виноватого окуня.
– Станцию жди! – зло обрывала его старуха и передразнивала: – Капито-очку! – Она рылась в сидорке и, утихая, все доварчивала: – Капиточку ему подавайте…
Старик глянул на Катю: во какая! и с такой я живу! А?.. Катя улыбнулась, о чем-то тихо сказала Митьке. Тот схватил маленький алюминиевый бидончик и побежал в другой конец вагона; привязанная к дужке крышка зазвякала как ботолко на жеребенке.
– Вот… кипяточек… – Митька застенчиво навесил перед стариком закрытый крышкой горячий бидончик. Старик аж поперхнулся изумлением: откуда? как?
– А из бака, из бака! Титан называется! – затараторил Митька, лишний раз показывая свою полнейшую осведомленность образцового железнодорожного пассажира, роль которого он сразу же взял себе, едва отправившись с матерью из железнодорожного пункта А в железнодорожный пункт Б. – Пыхтит как паровоз… Титан..» – Тетенька-проводница вскипятила. Только что!
С благоговением, обеими руками принял бидончик старик. Открыл крышку, вдыхал пар, головой качал, все Митьку благодарил. Принял было от старухи «злую» пачку чаю, однако пачка так начала толкаться у него в руках, что пришлось отложить. Старуха Выхватила, и старик деликатно смотрел, как она засыпает чай в бидончик, – учился. Весело, как вчера, позвал Катю, приглашая их с Митькой в свой закуток: кавалеры-то сошли ночью, один теперь кавалёр-то остался, да и тот больной, хе-хе… Старуха и Митька с ожиданием смотрели на Катю.
Катя рассмеялась, выдвинула из-под полки чемодан. Митька радостно подхватил. Быстро перебрались.
– Ну вот, давно бы так! А то на самом проходе… Толкают, задевают все кому не лень, а тута как у Христа за пазухой!
Катя и Митька смеялись.
Чай в бидончике заварился крепкий, душистый. Старик пил его трепетно, обняв кружку ладонями, глаза блаженно закатывал, раскачивал в восхищении головой, точно и не кружка это с чаем у него в руках, а его расплесканная вчерашней попойкой душа, которую он наконец-то собрал кой-как в эту кружку и осторожно, по крохам, маленькими глточками переливает сейчас на свое, положенное ей, душе, место.
Чуть придя в себя, спросил:
– Далёко путь держите, дочка?
Катя подавала Митьке хлеб и замерла, как застигнутая врасплох. Опустив глаза, тихо сказала:
– В. Уфу… – Митька схватил ее за руку.
Но старик не замечал Катиной напряженности, добродушно говорил:
– А мы в Челябу; В Челябинск, значит. Попутчики, стало быть. Хорошо… вместе когда… Никак к сродственникам?
– К мужу, – опять Тихо ответила Катя. – В госпитале он…
Удивился старик, что в конце войны ранило. Хотя война-то… она и есть зараза-война: когда угодно достанет… Стал успокаивать Катю, с уверенной утвердительностью говоря о легком ранений, но увидел, как Катя еще ниже склонила голову, испуганно воскликнул:
– Никак тяжело, дочка?..
Катя кивнула.
– Так-так-так! – поспешно затоковал старик, ожидая поясненья и ловя ускользающий, какой-то больной взгляд Кати.
А та, натыкаясь на напряженно-участливые глаза старика и старухи, почувствовала, что сейчас заплачет. Подбородок ее задрожал, глаза захолонуло слезами.
Старик и старуха мгновенно поняли, что не надо дальше расспрашивать, не надо. С деликатной поспешностью простых, душевных людей наперебой успокаивать стали, утешать:
– Ничего, ничего, дочка! Все наладится! Поправится твой муженек! Поправится! Вона у нас Кольша… зеть… тоже, какой тяжелый был – выходили! Поправится, как пить дать! Да-а!..
И замолчали оба разом. И не знали, куда глядеть. И словно взбаламученные их мысли, за окном неслись, рябили по косогору утренне рослые тени вагонов.
Чуть погодя старик кхекнул и начал с нейтрального, поинтересовавшись, где Катя и Митька сели. На какой станции?
Катя назвала городок, что с юго-запада присоседился к Алтаю.
– Смотри ты, и мы тама! – обрадовался старик. – Рядом с ним мы. Шестьдесят верст до деревни нашей… – И вдруг прищурился дошло: – А ты, никак, дочка, наша – деревенская, а? Иль ошибаюсь я? Может, городская?
– Да из деревни мы! – рассмеялась Катя. – Из Зыряновского района. Два с половиной года в городе-то.
– Из Зыряновского, значит? – словно подвох готовя, подозрительно переспросил старик.
– Да, да! И я вас знаю! Вы – Панкрат Никитич! (Старик и старуха испуганно переглянулись). Вы из Покровки! А мы – рядом, из Предгорной!
– Из Предго-о-орной? Земляки-и? – выпучил глаза старик. – Да что ж ты цельны сутки-то молчала? А? Да-а! Сутки едет – и молчит! Знает – и молчит! Ну ба-аба! – мотал он удивленно-радостной головой.
Быстро выяснилось, что, оказывается, Панкрат Никитич знает Дмитрия Егоровича. И знает давно. Еще со времен мутной колчаковщины, когда ту наплескало со стрежневой Транссибирской на Алтай, и она долго усыхала там в двадцатые годы по глухим, медвежьим углам. Дельный, толковый был командир Дмитрий Егорович. Не какой-нибудь горлопан залетный с кобурой да в кожане, а свой, доморощенный, из крестьян. Хоть и до революции еще своим горбом в образованные выбившийся, а все одно свой, потому как на той земле, откуда вышел, остался, потому как понимал, жалел мужика. Этот не сыпал людей в бой, как картошку. Этот, другим разом, и улепетнуть от противника за стыд не считал. Полежит в кусточках, отдышится, перекурит, да и ударит совсем по другому селу, где его… ну никак этим разом не ждут. И ударит-то совсем уж «бессовестно» – на рассвете: и бегут колчачишки, подштанники поддергивая да матерясь. Осторожный был партизан Колосков, хитрый. Не пришлось, правда, Панкрату Никитичу быть под его началом – в других местах с винтовкой бегал он в то время по тайге, но наслышан был про дела боевые Дмитрия Егоровича, много наслышан. А после, уже в коллективизацию, и встречался с ним не раз. Уже лично. Бывал тот и на пасеке у него. А вот и со снохой да внуком его довелось познакомиться. Да где! В поезде! Скажи кому – не поверит! Деревни-то в пятнадцати верстах друг от друга!..
Тут же вспомянули сторонку свою родимую и объединенные тихой и радостной благодарностью к ней умолкли, вслушиваясь в перестук колес…
Но быстро пробежала череда приятного и радостного мимо Кати, и опять виделся ей одинокий за околицей тополь, и рядом с ним – Иван. Ссутулившийся, в телогрейке, сидорок – в руках. Какой-то внезапно осиротелый. Точно разом и навсегда отрубленный от родных. От отца, от жены, от сына… Толпились низко злые непролившиеся облака, отрешенно шуршал сохлой осенью тополь, а мимо вниз по угору, к зябнущему Иртышу, к переправе, уже подвигался обоз новобранцев. Молчащий, вслушивающийся в себя, как пухом облепленный бабами, ребятишками и стариками. И слышался только вязкий позвяк копыт и колес о камни и сырые скрипы телег…
Улыбка Кати стала остывать…
4
Митька достал из своего баульчика тетрадку и остро отточенный карандаш. С обложки тетрадки сморщенным, мудрым яблоком улыбался народный поэт Абай в тюбетейке. Пониже него было написано: «Дорожные наблюдения и впечатления Дмитрия Колоскова».
Раскрыв тетрадь, Митька посмотрел в окно, на убегающие лесистые взгорки, на пятящиеся в небо высокие скалы. Укрепил поудобнее руку на баульчике и написал: «Природа горного Алтая довольно-таки разнообразна и интересна».
Панкрат Никитич проследил за Митькиным взглядом в окно, затем за петляющим карандашом, любознательно спросил:
– Митя, и чего это ты отметил в тетрадку?
– Я записываю дорожные впечатления, дедушка. Мне так посоветовал Боря. Мой друг, – объяснил Митька и озабоченно добавил: – Боюсь только, не хватит тетрадки – дорога предстоит еще довольно-таки длинная.
– Ишь ты! – хлопнул себя по коленям старик и поделился со всеми восхищенным взглядом.
Катя погладила Митькину голову, сказала:
– Он у нас круглый отличник! – но увидев смущение Митьки, смягчая его, поспешно добавила: – Как и его друг Боря.
Митька мягко отстранился от материной руки, склонился к тетрадке и запетлял карандашом дальше.
В прошлом году, вконец измученный обещаниями, Митька не выдержал и пошел записываться в школу сам. Один.
А что на самом-то деле! Обещают, обещают каждый день, а сами не ведут. Ни мама, ни дедушка! Давно уж все записались: и Вадька Пуд, и Гостенек, и… и… ну все-все! А у него и пенал уже есть, и две тетрадки, и карандаш, и стиральная резинка, и чернильница-непроливашка, и… портфель… будет… наверное… И не записан! До сих пор! Август на дворе!
Митька вымыл на крыльце в тазу ноги, посмотрел на утреннее, но уже снопастое солнце, – жарковато, пожалуй, будет, подумал, однако пошел в дом, надел короткие вельветовые штаны, застегнув у колен пуговицы, затем носки, ботинки и свою, любимую капитанку – длинный зеленый шерстяной пиджак с двумя рядами золотых пуговок, пущенных по животу, и двумя – из шелковых шнурков – якорями на обшлагах рукавов. На пуговках, само собой, тоже якорьки.
Из ящика комода, порывшись, Митька достал метрики. Так, Дмитрий Иванович Колосков 1938 года рождения, 15 января. Не хватает, правду сказать, Дмитрию Ивановичу четырех месяцев до семи хотя бы лет, но это уже пустяки, мелочи. Читать-то Дмитрий Иванович – запросто, считать до сотни – хоть среди ночи разбуди, писать и то – шпарит печатными, не угонишься, как заборы городит. Так что чего беспокоиться? Запишут.
Митька взял большой и плоский географический атлас под мышку, навесил на сенную дверь замок. Ключ положил под крыльцо. Отправился.
Первая, серьезная книга, с которой Митька познакомился, была книга Чуковского «Чудо-дерево». Дмитрий Егорович купил и привез ее как-то из города (это еще в деревне было), и привез, как оказалось, на свою и Катину «погибель» – Митька денно и нощно ходил за ними с этой книгой, чтобы ему ее читали. А тут уж кто под руку попадет – мама ли, дедушка – неважно: лишь бы читали. Митька не ныл, не канючил – он просто приходил, к примеру, в дедушкину комнату, солидно забирался на табурет и сидел, серьезный, с книгой в руках. Будто он ученик и пришел на урок. А будет урок или нет – за это он, Митька, не отвечает. Пришел, сидит – и все!
«Митька, ведь ты ее наизусть знаешь! Сколько можно читать одно и то же? Не надоело?» – Дедушка глядел на него поверх очков, оторвавшись от своей газеты.
С большим удивлением глядел на дедушку Митька. Странное дело такие речи слушать! Разве может надоесть книга?.. Если это – книга?
Дедушка крякал, откладывал газету, брал у Митьки «Чудо-дерево».
И только живя уже в городе и заявившись как-то со своей любимой под мышкой к своему соседу, Боре Виноградскому, Митька обнаружил у него полное понимание и поддержку.
Однако Боря книгу читать не стал, тем более что Митя сразу с порога заявил, что он умеет читать… эту книгу. Боря полистал «Чудо-дерево» и попросил Митю прочесть… ну, хотя бы вот эту страницу.
С готовностью попугая Митька отбарабанил всю страницу от начала и до конца. Да еще пальцем по строкам вел, как бы показывая, где он в данный момент читает. Чтобы Боре было легче следить.
Боря удивился. Однако с проницательностью истинного исследователя попросил прочесть еще раз… нет, нет, эту же страницу, только с другого места – со средины, и отчеркнул это место ногтем. Чтобы Мите было видно, откуда начинать.
Ученик, как утопающий за соломинку, начал бубнить весь текст опять от начала страницы. Пальцем, однако, вел от указанного Борей места, то есть со средины, и палец этот его все замедлялся и замедлялся, пока не стал окончательно внизу страницы – все «прочел» палец. А продолжающийся, замирающий Митькин голосок уже зачитывал ему, этому чертову пальцу, окончательный приговор. И куда только спрятать его от стыда, этот палец!
«Так, так! – довольно потер руки Боря и, заглянув Митьке в опущенное лицо, весело и участливо спросил: – Ничего не знаем, да, Митя?»
Митька еще ниже склонил голову. А ведь так учила его читать очень красивая девочка Лена. У нее еще был упругий красивый бант на голове и такое же, как бант, упругое прозрачное платьице. И была она от этого красивая и упругая, как стрекоза. В деревне это еще было. Перед самым отъездом сюда, в город. На дне рождения. Они сидели рядом на диване, и Лена так читала. Митька тогда сразу научился. И выходит, он и не умеет читать…
«Ну, ну, не плачь! Твое дело поправимо. У тебя отличная память. Я быстро научу тебя читать».
И действительно: не прошло и двух месяцев, как Митька свободно читал. А заодно и до сотни считать выучился.
«Ну, Боря! Ну-у, Боря!» – восхищенно мотал головой Дмитрий Егорович, когда Боря, собрав всех Виноградских и Колосковых в одной комнате, начал демонстрировать Митькины и свои, разумеется, как педагога, успехи. «Забили ли партячейки хозяйств в этой крайней ситуации тревогу? – вопрошал у дедушки, развернув его газету, пятилетний Митька. – Нет! Не забили! Партийные собрания и заседания у них шли своим чередом…» – чирикал по-русски Митька, не понимая половины слов. Сраженные успехом педагога и ученика, сестры взмахивали руками вокруг: «Какая прелесть! Какая прелесть!» А Дмитрий Егорович все гудел, никак в себя прийти не мог: «Ну, Митька! Ну-у, Боря!»
…Начальная школа им. Ушинского, куда держал путь Митька, была известна ему давно и преотлично. Еще с той зимы, когда Боря учил его читать. В хорошую погоду. Митька, держа Борю за руку, шагал с ним в эту школу. За плечами у Митьки горбатился Борин ранец. Если не тяжелый был, не полностью набит учебниками. Когда же Боря сам нес ранец – Митьке давал чернильницу-непроливашку, закутанную в теплый, стянутый сверху веревочкой, мешочек. И хотя чернильница называлась «непроливашкой», Митька нес ее не раскачивая и не болтая, держа руку с ней чуть впереди себя.
У дверей в свой класс Боря принимал чернильницу, благодарил Митю и говорил, чтобы тот шел теперь домой. Митькины глаза сразу наполнялись слезами. «Ну опять!» – Боря возводил взгляд к потолку. «Ведь договорились!.. Ну хорошо, хорошо, не плачь! Но только один урок! Только один! Слышишь?» Митька кивал:, он слышит. Тут же радостно плескался звонок, ребятишки с шумом кидались из коридора в класс, и Боря, подхваченный ими как наводнением, крутил головой, пытаясь что-то еще сказать Митьке, но дверь захлопывалась. А по коридору уже шли учителя. К Бориному классу подходила высокая, красивая учительница с длинной черной косой. Останавливалась. С улыбкой смотрела на Митьку. Митька опускал голову. В руках у него была шапка и мохнашки-рукавички. Учительница гладила Митькину стриженую голову и уходила в класс. Потом уборщица, тетя Зина, выносила табуретку: «Садись, Митя!»
В расстегнутом полушубчике сидел Митька по середине коридора и, скосолапив ноги в катанках под табуретку, дымно парился в солнце, которое ласково заступило ему на спину из окна. С катанок на пол стаивал снег. А справа и слева из полуоткрытых дверей классов, как из дрессированных ульев, летело солнечно, сильно:
…Ма-ша лю-бит ка-шу!..
…пятью пять – двадцать пять!
пятью шесть – три-и-идцать!..
Блаженно улыбаясь, Митька шептал себе: «Это школа…»
…В учительской за столом сидела совсем незнакомая Митьке тетенька. Она что-то быстро писала длинной ученической ручкой. «А где же учительницы?» – подумал было Митька, но тут же уставился на ручку тетеньки, на перо. Перо шустрым сверчком бегало и пело на бумагу… Ловко! Так даже Боря не смог бы, наверное…
Тетенька вздрогнула.
– Фу ты! Как напугал!.. Чего тебе?
Митька бодро поздоровался и сказал, что пришел записываться в школу. В первый класс.
– Так… – удивленно разглядывала его тетенька. – И сколько же тебе лет?
– Мне сейчас шесть, но скоро будет семь. У меня и метрики есть, тетенька! – Митька поставил атлас к ноге, расстегнул капитанку. Протянул тетеньке метрики. Снова взял атлас под мышку.
Тетенька повертела метрики в руках и, не найдя ни на одной из их сторон того, чего искала, протянула Митьке обратно, сказав, что рано. Не дорос. На следующий год.
– Тетенька, я… – Митька хотел сказать, что он уже и…
– На следующий год! – строго посмотрела тетенька. – Иди!
Митька пошел.
– Стой!.. Что это у тебя?..
– Это атлас, атлас! – кинулся назад к столу Митька. – Географический! Мне Боря его подарил! Насовсем!
– Он же не нужен будет тебе. До пятого класса…
– Это же интересно, интересно, тетенька! Вот смотрите, смотрите, это Австралия, а тут уже Новая Зеландия, а это…
– Не надо! Не показывай! – нахмурилась тетенька. – Иди домой. Придешь через год… Иди, иди! – видя, что Митька стоит, заотмахивала она рукой.
– Это же интересно… тетенька…
Как вышел из школы – Митька не помнит.
Наткнулась на него Оксана Тарасовна, бывшая Борина учительница. Во дворе. Спросила, что он тут делает… Да что с ним?!
– Не при-и-иняли!! – отчаяньем и тоской прорвалось из Митьки.
У Оксаны Тарасовны сузились темные глаза. Постояла. Решительно закинула косу на спину и, схватив Митьку за руку, потащила за собой.
Митька стоял со своим атласом в учительской и ковырял ногтем краску на двери. От стола смазывались тихие слова: «…я не знаю, Оксана Тарасовна, какая до меня была завуч, но у меня порядок будет!..» – «…но, Мария Ивановна… два года ходит… читает… считает…» – «…распоряжение гороно, только 37-й год… школа переполнена… своих в Ленинку… Игорь Николаевич…» – «…так знает, знает Игорь Николаевич!.. еще весной!» – «…под вашу ответственность… под вашу… я умываю…»
И вот наконец Митька был подозван к столу, и Оксана Тарасовна, взяв у него метрики, светло и торжественно объявила ему, что он принят в первый класс «Б» и пусть завтра приведет в школу маму или дедушку.
Митька бросился было к двери, но Оксана Тарасовна со смехом остановила его и попросила прочесть им какое-нибудь стихотворение. На прощанье.
– Какое? Я много знаю…
– Ну… самое любимое. Атлас пока можешь положить.
– Не-е, с атласом лучше, Оксана Тарасовна. – Митька откашлялся и начал:
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается…
Красный от слез и радости Митька звенел, как колокольчик. Покачивая головой, шевелила за ним губами Оксана Тарасовна. «Тетенька» сидела испуганно-прямо и во все очки таращилась на маленького восторженного карапета с атласом под мышкой…
…Едет пахарь с сохой, едет – песню поет;
По плечу молодцу все тяжелое!..
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
5
– Рубцовка! Рубцовка! – испуганно мчал вскрики по вагону потный выпученный мужичонка. – Рубцовка! Чего сидите-то! Рубцовка!
Все разом вскочили, всполошно засуетились, полетели в проход вагона мешки, узлы, чемоданы. Взвизги женщин, рев детей.
Катя металась по закутку, быстро собирала посуду, остатки еды. В узелок все засовывала, в сумку. Тут же пыхтел с сидором Панкрат Никитич – уминал в него здоровущие кирзовые сапоги, которые вез в подарок «зетю» Кольше и которыми только что хвалился Кате. Но теперь вот чертовы сапоги не лезли обратно в сидор, хоть тресни! Старуха маялась, глядя. Не выдержала, выхватила сидор, сама запыхтела. «Ничего не могет! Ничего! Только б болтать! Только б болтать!.. На, держи!» Панкрат Никитич виновато подхватил сидор, но охлестывая веревкой его горловину, еще и Митьке успел подмигнуть, дескать, ну грозная – беда! Митька быстро улыбнулся в ответ: он понимает и сочувствует дедушке. Однако сам торопливенько застегивал пуговки капитанки, спешил.
Из соседнего закутка все время вылетал испуганный детский голосок: «Где? где рубцовка? саблями, да? мам, саблями, да?» Привычно-четкий шлепок матери выпульнул в проход вагона мальчонку лет четырёх. Белоголовенького, со спустившейся проймой коротких штанишек. Мальчонка испуганно потоптался и судорожно запустил указательный палец в правую ноздрю. Как на замок спасительный закрылся, й на Митьку воззрился в ужасе. Митька рассмеялся и успокоил малыша, заверив его, что это станция такая, название, и никаких «рубцовок саблями» там нет и быть не может. Не бойся, глупенький!..
Малыш недоверчиво посопел, но «замок» все же разомкнул.
– Кампас-с-си-ировать! Кампас-с-сировать! – улавливаемой птицей заметалось по вагону.
Вздрогнул малыш, к Митьке вертанулся – а?!
Митька и тут детально разъяснил, что означает это слово, ничего страшного в нем нет, и погладил малыша.
Катя поторопила Митьку, но тот уже одет – короткие вельветовые штаны, длинная капитанка, баульчик в руке, – вышел в проход вагона, стал у окна: он – образцовый пассажир железной дороги. «Так, станция довольно-таки интересна и разнообразна», – любознательным поплавком покачивается, водится в окне торчащий вверх козырек его кепки.
А по перрону, не дожидаясь полной остановки поезда, уже бежали, волочились, толкали коленями тяжелые связки мешков, чемоданов, падали железнодорожные пассажиры – все стремились куда-то вперед, вперед поезда, вытаращивая глаза.
Малыш в вагоне не зря опасался «рубцовки саблями». Была рубцовка. Да еще какая…
В низенькое оконце билетной кассы какими-то упорнейшими, непобедимыми живцами всверливались густо мужики. Мамай! Куликовская битва! И в бьющемся этом, орущем воинстве – неизвестно как попавшая в него – Катя.
– Мама! – кричал Митька. – Ма-а-ама!!
– Стой у вещей! Не отходи… от вещей! – билась, выдавливалась вместе с криком наверх голов Катя. – Не от… ходи-и!
И вдруг пошла лупить кулаками направо-налево. Прямо по башкам. Расшатнулось воинство. Недоумевает: ненормальная, что ли? Катя тут же нырнула к кассе. Вынырнула обратно и вышвырнулась из клубка. Мужики опомнились – в рубцовку!
– Ну, чего нюни распустил? – Катя улыбалась, победно помахивала закомпостированными билетами – Дальше едем! – Платок у нее съехал на ухо, волосы крылом на одной щеке, длинная царапина – на другой: красотка, да и только!
– Ма-ама… – обнялся, прижался к матери Митька.
Внезапно увидели Панкрата Никитича и тетю Малашу. В толпе, неподалеку. Старики растерянно топтались, обставленные своими мешками. «Господи, как же про них-то забыли?» – уже проталкивалась к ним Катя.
При виде ее Панкрат Никитич обрадовался, но тут же сник, и словами, и всем видом своим выражая их досадное со старухой опозданье.
– А все ты, ты-ы! – мстительно заскребла его старуха. Красная, злая. – Люди бегом, бегом, а он вышагивает, а о-он вышагивает: успею, куды мине торопиться, мине спицально билеты приготовлены, дожидаются мине… Э-э!
– Да будет тебе… – стыдился за жену старик.
Катя решительно потребовала их билеты. Старик начал быстро ощупывать себя, прилежно вспоминать, но старуха уже оправляла подол и протягивала билеты Кате. Катя ринулась к кассе.
– Ты глянь, опять эта ненормальная! – испуганно раздавливались на стороны мужики.
Катя лезла.
– Мне только узнать! Узнать мне то… лько! Узна-а-ать!
Нырнула…
– Вот нахалка так нахалка! Второй раз! Без очереди!..
– Да выкиньте ее!
– Да чё ж это тако, мужики?
– Да выкиньте ее, стерьву! Вы-ы-ыкиньте! – упорно ныл поверху гундливый голосок.
Катю выкинули. Но билеты в руках – закомпостированы.
Билеты стариков почему-то пронумеровали не в пятый вагон, как Катя просила, а в восьмой, и Панкрат Никитич сильно огорчился. Катя стала заверять его, что в Новосибирске постараются попасть в один вагон, вместе, что так уж получилось. Просила она. Без разговоров сунули билеты – и все… Но старик все сокрушался, да как же теперь они не вместе-то будут, и жалко это, конечно… ах ты мать честная! Как же?.. Непоправимую оплошность будто допустил. И виноват сам, а не равнодушная кассирша, что выкинула билет – и: следующий!
– Ну, чего привязался к людям? – толкнула его локтем старуха. – Сказали тебе… – И словно извиняясь за непростительную слабость старика, поясняла – Он у нас такой… Привязчивый. Как малой. Не дай бог!
Старик, как нашкодивший, виновато посмеивался.
Нужно было идти в город отоваривать карточки.
У стариков карточек не было. «Нам не положено. У нас все свое должно быть. Мы из деревни. Мы – богатеи!» – пошутил Панкрат Никитич.
– Но может – что без талонов будет? – предложила ему Катя. – Селедка? Чай?.. Мы купим?..
Продолжая чудить, старик яростно охлопался по карманам. Крутанулся к жене: где деньги, жана?! У старухи глаза сразу забегали, как в осаду попав, в окруженье, она зло глянула на мужа, стала ухватывать подол рукой.
Деньги считала долго, отвернувшись от всех. (Старик подмигивал Кате: беда-а!) Принималась зачем-то гмыкать, покашливать, кряхтеть. Шелест денег чтобы заглушить, что ли?.. Повернулась, наконец:
– Вота, дочка, шестьдесят. Перешшитай!
Катя пересчитала – все верно: шестьдесят. Пусть не беспокоятся – если будет что, купит, сдачи принесет.
– Только вы уж, дочка, вешшички-то оставьте, оставьте… – Глаза старухи снова забегали. – А мы покараулим. Оставьте…
Старик долгим взглядом посмотрел на жену…
– Да… да, оставьте, – все прятала та глаза. – А мы покараулим, покараулим, оставьте…
Катя постояла. Густо, всем лицом, покраснела. Сказала, что сама хотела просить их об этом. Пододвинула свои вещи к ногам стариков.
– Митя, давай и твой баульчик. Тетя Малаша покараулит… Ну, чего ж ты?..
Ну уж нет, со своим баульчиком он, Митька, расстаться не может. Никак не может. Даже если б это нужно было для успокоения десяти тетей Маланг! Какой же он железнодорожный пассажир без ручной клади? Неужели не понятно?
– У, упрямый!

Глядя им вслед, старик дергал себя за ухо, отворачивался, стыдился самого себя. Не выдержав, слезливо застенал к жене:
– Чего ж ты, а? Заместо благодарности, а? Чурки мы, выходит, а-а?..
Отвернувшись от него, старуха растопыривалась к полу, улавливала сидора, сгуртовывала их, как баранов, что-то зло бормоча…
– Тьфу! – плюнул в сердцах старик.
Ночью в битком набитом людьми общем вагоне удерживала Катя на коленях голову спящего Митьки. Все те заботы, переживания, трудности и неудобства дальней дороги, спасающие Катю днем, теперь безжалостно ушли, оставив ей – ее: беззащитное, больное, в грохоте колес без исхода бьющееся под вагоном; почему ты столько время молчал? почему ты столько время молчал? почему ты сейчас молчишь? почему ты сейчас молчишь? почему? почему? почему?..
Задыхаясь, мучаясь в летящей, грохочущей этой черноте, сознание торопливо выбиралось наверх, к тусклому свету, к вагону, не могло прийти в себя, отдышаться, стремилось перенестись, перекинуться на другое – здоровое, не больное, спасительное… Она опять старалась надеть на себя все дневное, привычное. Вспоминала работу, дом. Приходят ли поливать их общий огород сестры Виноградские – вон какая жара-то днями стоит? А может, там дожди?.. Думала о Дмитрии Егоровиче. Как он там один?
И все это – тоже ее, тоже неотделимое – отстукивалось дальше и дальше, оставалось где-то там, за вагоном, за поездом, в необозримой лунной ночи…








