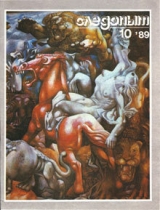
Текст книги "Счастья маленький баульчик"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
9
К ночи схлынуло людское половодье, и как осадком загустело по всему вокзалу согбенными спящими кочками. У туннеля и выхода в город неопасно сочились остатние струйки и ручейки. То были люди с пригородных поездов. Почти без вещей, легкие, прыткие.
Часа в три ночи началась уборка. Пожилые тощие тетки в черных халатах злыми голубятницами шугали сонных пассажиров с вещами мокрыми грязными тряпками на длинных палках из одного конца вокзала в другой. «Уборка! Уборка! Подымайсь! Дома досыпать!»
Господи, да когда кончится-то это всё! Катя с вещами и Митькой перетаскивалась на новое место. Рядом поскрипывали старики со своими мешками. «Нарочно об эту пору гоняют, как есть нарочно! – потихоньку, с опаской, поворачивала тетя Малаша. – Вона какие злые!»
На новом месте заняли целую скамейку-диван. Тетя Малаша тут же умостила голову на сидорок, ноги в вязаных белых носках подобрала на скамейку и засопела под выдавленными на спинке скамейки буквами «НКПС» – что означало: Наркомат Путей Сообщения – как под охранной грамотой. Не спал Панкрат Никитич, потихоньку рассказывал Кате о житье-бытье своем, о промашках своих в жизни, и сам удивлялся на них и посмеивался над ними. Катя слушала, кивала, но постепенно взгляд ее начал растворяться, голосок Панкрата Никитича отодвинулся куда-то, и гул потревоженных людей, звяканье ведер со злыми вскриками уборщиц, стриженая голова спящего Митьки, которую она забывчиво гладила у себя на коленях, вновь зажженная люстра, что, разжиживаясь под потолком, тяжело мазала ее остановленно-журчащие глаза – все это, в полусне ли, в полуяви, навевало уже ей что-то очень далекое, забытое…
Родом Катя была из глубинного алтайского села Рыжухи. Рыжих в том небольшом кержацком селе было не больше, чем в других местах, а прозвание это старинное село получило по имени речки, что рыжей девичьей косой бежала вдоль огородов и бань и вдали, у закатного солнца, расплеталась несколькими вспыхивающими протоками и проточками.
Детей у Алексея и Марии Ипатьевых долго не было. До тридцати пяти лет. И сам Алексей, молчаливый и наполовину уже седой мужик, и жена его Маруся, худенькая, с быстрыми, тоскующими глазами, давно уже не ждали от бога ничего. Были они без детей – как две бездомные собаки на осеннем пронизывающем ветру: и прижимаются Те собаки друг к дружке в пугливой, безнадежной тоске – и согреться не могут… И вдруг на тебе! – понесла Маруся. Да в самое смутное время – в девятнадцатый год! Вот тебе и фистулка пустая! – ошарашенно глядели на нее бабы села и тут же, как-то совсем не принимая Алексея в расчет, ехидненько вещали: «Никак ветром революцьённым надуло бабу-то, хи-хих-хи…» Но Маруся знала, каким ее ветром надуло, и, шагая по деревне, гордо выпячивала в баб маленький свой, острый животик. А когда наконец родилась девочка – «гли-ка, и волосья такие ж, как у Алешки, и насупленная такая ж… ну купия отец!» – бабы только руками развели: чудеса-а!
И родители, и мать Алексея, старая Григорьевна, души, что называется, не чаяли в дочери своей и внучке. Бывает любовь к ребенку тщеславная, на людей, показушная, балованная. А бывает – выстраданная, самоотверженная, зрячая, и ребенок расцветает в свете и тепле такой любви. И уж года два с половиной – три Катюшке было, а все, бывало, сидели родители зимними вьюжными Вечерами и под добрый, уютный потреск печи бесконечно-молча смотрели на дочь свою, играющую за столом какими-нибудь своими тряпочками, пуговицами, палочками. Осторожным счастьем замирал на столе свет трехлинейной лампы. А ©ни будто до сих пор не верили, что эта серьезная, спокойно-сосредоточенная девчушка, что играет вот сейчас прямо у них на глазах, – их девчушка, их счастье… «Ну опять! – обрывала сладкий их сон Григорьевна, входя в избу и клубясь морозом. – Вы чего, ребенка никогда не видали?..» И, размотав шаль й скинув телогрейку, склонялась к внучке – словно От Сглаза загораживала. И гладила, гладила рассыпчатые волосики крючкастой рукой. «Не бойся, доча, их, не бойся. Играй, играй…» А сама все гладила и гладила, оторваться не могла. Счастливые родители смеялись, как дети.
Как-то в один из дней поздней осени Маруся шила, горбясь у окошка. Алексей был на конюшне, Григорьевна у соседки судачила, а Катюшка где-то возле избы играла. И вдруг точно толкнул кто в грудь Марусе. Вскочила, заметалась по избе. Вылетела во двор – простоволосая, раздетая, в алешиных здоровенных пимах дальше, на улку. Туда-сюда – нет Катюшки.
Стала Маруся. Снег косо несет на землю. Внизу Рыжуха вязнет в шуге. На той стороне, как в овчине, запорошенная пашня… И как волчица жмурясь и внюхиваясь в несущийся снег, Маруся пошла, пошла вдоль домов, и побежала…
А Катюшка в это время преспокойно шла себе по закраине Рыжухи в сторону от деревни. Снег круговертью кидало на тонкий, гладкий лед, узко завязывало на промокшем, извилистом краю закраины, вышвыривало и завьюживало белыми кострами на открытую вялую воду, где он сразу сгорал. Поджариваемая черным холодом шипела шуга.
Одета Катюша, считай, по-зимнему: в теплую кацавейку, в длинную юбку, платок теплый, варежки вязаные. На ногах вот только – стоптанные и закривелые сапожки, которые, похоже, у нее уже промокли – да что за беда! – зато остальное все по-зимнему. И санки железные везет за собой чин по чину: как же, зима, снег…
Катюшка останавливается и топочет сапожками по льду – во все стороны испуганно разбегаются белые трещинки. Идет дальше. Снова останавливается и топочет – трещинки еще пуще бегут. Смотрит. Думает. Опять топочет… Потом стоит и, словно целиком охватывая сознанием речку, слушает и смотрит се, наклонив голову набок и покручивая ею. Речка завораживает, зовет Льстиво, властно тянет. Девчушке хочется подойти поближе и потрогать шипящие, пахнущие холодом белые лепехи, но что-то удерживает ее… Она толкнула санки. Храбрыми лебедями полетели санки к воде, но там споткнулись и исчезли, нарисовав спокойный круг, который проехал немного по реке и растаял. Катюшка застыла растерянно… «Санки сплятались!» – радостно «догадывается» трехлетний ребенок и с замирающим сердчишком, удерживая смех, продвигается сапожками, крадется к краю ледка, чтобы заглянуть за этот край, и сразу, радостно крича, побежать назад и застукать эти хитрющие санки. Боязливо-угрожающе затрещал лед. Катюшка останавливается и оборачивает голову назад. По пологому, заснеженному берегу в ее сторону бежит какая-то тетенька. Она почему-то раздетая и как конь высоко вскидывает ноги в здоровенных пимах. Катюшка узнает мать. «Вот смесная!»
Маруся подлетела к берегу – лицо белое, глаза выкатываются, – но в последний миг приостановила себя, заметалась вдоль ледка, руки ломала, икала, изо всех сил стараясь говорить спокойно, просила: «Катюша, дочка, иди сюды, иди… ну скорей!., я… я… тятя тама… иди… я тебе… я чё-то… доченька!..»
Недоверчиво, исподлобья смотрит Катюшка на мать: чего это с ней? Потом, не торопясь, трещит к берегу.
Маруся не выдержала, кинулась, проваливаясь по пояс, ломая лед, подхватила Катюшку, на берег ринулась, и хлопала, хлопала по тощей заднюшке, и плакала, и целовала. Выбежала наверх, прижала к груди насупившуюся дочурку и помчалась к деревне, скуля и клацая зубами, как волчица…
А вечером опять бесконечно-радостно сидели возле дочурки за столом Алексей и Маруся, и старая Григорьевна, как с ворчливым кадилом поп, ходила с бормотанием своим, оберегала все, свет лампы запрятывала, словно в углы избы…
Но недолго теплилось счастье в оконцах маленькой этой избёнки. Через полгода загасли они, зачернели, и мимо мертвого на берегу подворья все так же только бежала, ночами плакала Рыжуха-река…
Через деревню в то пасмурное апрельское утро толокся отряд колчаковцев. Голов в триста. Проходили спешно, походным порядком, не останавливаясь. Комбедчики все разбежались: огородами стелились, кто перемахал Рыжуху на лодке, кто в окрестные лески. Алексей тоже было вскинулся… да стыдно стало. Бегать-то как зайцу. Ладил хмуро борону на дворе. На дорогу, на проходящую колонну не глядел.
Богатей Атишев шепнул. Ко двору направился офицер. С ним пятеро. Отшвырнутые от плетня жердины ворот убито запрокинулись… Молчком, пинками погнали со двора. Повели. Мотая уже дулами у земли, ладя, щелкая затворами. Верно, хотели за углом…
Маруся кинулась, закричала. Ей пнули. Она снова. Один отпрянул, маханул шашкой – и закинулась головой Маруся, и спало безвольное тело вниз… Алексей бросился к ней, сшиб на пути одного, другого. Напоролся на штык, поставленный маленьким колчаковцем. Подламывался ногами. Руки тянул. Точно пытался ухватить за горло этого недомерка-колчачишку. Колчачишка беспокоился, трясся свислыми щечками, никак не мог освободиться от Алексея… И Григорьевна откуда-то поспешно выковыляла, и с руками и с глазами до неба… Стрельнули ей – сковырнулась старуха, упала себе под ноги…
А на улице, на бугорке остался стоять ребенок. В кацавейке, с взвесившимися в страхе и боли глазами…
Уходила с угора колонна. На повороте теснясь в очередь – как в землю стремилась. Недомерок-колчачишка бежал вслед, бросал, подхватывал с оторванной башкой колотящегося петушка…
Через дорогу перешел соседский мужик. Подхватил ребенка на руки. Прижал, отвернул от всего, что произошло. Понес через дорогу к своему дому.
Полтора месяца прожила Катюшка у этого одинокого, молчаливого мужика по фамилии Зотов. Потом приехала старшая Марусина сестра, Аграфена, поплакала на могилках, поблагодарила Зотова, в Предгорную к себе увезла племянницу.
Около двух лет Катюшка не говорила. Аграфена и муж ее с болью ждали. Жалели, пестовали. (Свои дети у них, двое, выросли. Жили и работали в городе. Взрослые.) Но ребенок молчал.
Аграфена не выдерживала:
– Да что ж ты молчишь-то, Катюшенька! Что ж ты молчишь-то!..
В бессилии кидала руки по ребенку, причитала:
– Ох, да не будет тебе счастья, ох, не будет… Катюшепь-ка-а ты моя-а…
Муж за столом хмурился:
– Не каркай!.. – Блуждал глазами: – Пройдет…
Аграфена пугалась своих слов, под грудью у себя судорожно гладила напряженную головку:
– Ничо, ничо, наладится, даст бог, наладится…
Глаза ее боялись, стражденько мучались.
– Ничо, ничо… – все запрятывала она в себя ребенка. Чтоб не видел он, забыл…
Но летними догорающими вечерами выходила Катюшка за околицу к одинокому тополю. Садилась на траву и, уперев в колени подбородок, подолгу смотрела на Иртыш, вдаль. Может, думала она тогда, что в той стороне родное ее село, где остались тятя с маманей. А может, Иртыш вдали походил на речку Рыжуху, у закатного солнца расплетающую на ночь свою рыжую косу.
10
Из коридорчика перед тамбуром, держась за поручни под окном, смотрели Катя и Митька на обширный, нескончаемый хоровод больших озер и вертящихся плоско бочажинок. Перемахивая через камышовые островки и кочки, вровень с несущимся поездом бежало, щекоталось в воде закатное солнце… Бескрайняя озерная Барабииская степь…
После большой станции «Барабинск» наутро, едва поезд тронулся – встречь движения, точно требовательно и бдительно пропуская поезд через себя, из дальнего конца вагона сдернулась и медленно пошла песня:
Шысна-ацыть р-ранений хирург на-ащитал,
Дыве пули-и засе-е-ели-и глубока-а-а,
А о-он все в бреду запевал-л, э-напевал-л:
«Э-раскинулось э-моря-а широка-а-а!..»
Шаря по проходу вагона железной клюкой, продвигался слепой мужчина, ведомый мальчишкой лет десяти. Проходя закутка три, мальчишка останавливался, поворачивал слепого лицом к людям. Слепой сразу обрывал песню, бабье лицо его искажалось, и он приблатненной слезливой фистулой кричал:
– Бр-ратишки, сестр-ренки! Па-паши и мам-маши! Обращается к вам инвал-лид войны! Пом-можем несчастному кто чем может! – И выталкивал вперед мальчишку с сумой. Люди торопливо и щедро подавали. И едой, и деньгами. Слепой благодарил, клал руку мальчишке на плечо, шарился клюкой дальше.
Возле Катиного закутка тоже остановились, и слепой уже начал было выкрикивать свое обращение, как Катя кинулась к нему, стала совать в руки жареную дикую утку, купленную десять минут назад на станции. Хлеб, пучки редиски. Слепой как-то испуганно отпрянул, стал недовольно отмахивать ее руки. К мальчишке. Но Катя с какой-то щенячьей мольбой, молчком, совала и совала все это ему, ему в руки…
– Чего стоишь? Возьми! – коротко цеданул слепой. Мальчишка выхватил утку, сунул в суму. Принимал хлеб, редиску. А слепой уже быстро, тряско ошаривал Катины плечи, грудь и, лихорадясь, бормотал: – Спасибо, спасибо, сестренка! Спасибо, спасибо!..
Катя умоляюще пятилась и так же быстро бегала пальцами по рукам слепого, чтобы остановились они, остановились, наконец, и в то же время втягивала, втягивала их за собой… Вскочил Панкрат Никитич.
– Садись, садись, сынок! Сюды, сюды! Отдохни…
Слепой сел. Но будто все еще трясся за Катей. Стащил рукой по лицу – как наваждение снял. Сказал, наконец:
– Ну, ладно, коль люди хорошие… Поедим да отдохнем маленько. Генка, давай суму!
Утку слепой ел жадно. Но видно было – не от голода, а больше – от привычного чревоугодия. Любил, видать, мужик поесть. Он вгрызался в утку, рвал мясо, толстые щеки его медно лоснились. Иногда зачем-то подолгу держал утку на выползшем из рубахи животе. Точно пальцами прослушивал. Снова накидывался.
– Ты б малому-то… Чего ж один-то… – с ласковой укоризной попенял его Панкрат Никитич.
– Обождет, – коротко бросил слепой, вонзаясь в утку.
Мальчишка сидел напротив него, безучастно осев во взрослую телогрейку с прогоревшим боком. На голове, как горшок, командирская фуражка с надломленным козырьком, с пятном пустым, где звездочка. Отечное, землистое лицо. Под глазами синева.
Из нутряного кармана засаленного пиджака слепой достал светленькую четушку без пробки. Чуть взболтнул и приложился, круто запрокинув, вмяв в толстый затылок стриженую голову. Подавшись вперед и брезгливо сдувая водку с красных губ, осторожно ставил четушку на место, в карман. Снова жевал.
– На, пожри сперва… – протянул растерзанную утку в сторону мальчишки. Тот взял и безучастно, без всякого аппетита стал дергать мясо с костей, вяло пережевывал.
Панкрат Никитич поинтересовался, откуда они родом будут: местные ли с Барабы, или с другой какой «местнести»…
– Это еще зачем тебе?… – замер с четушкой в руке слепой.
– Да просто… Может, земляки? Может…
– Х-хы! Земляк какой нашелся! – вдруг зло и грубо оборвал Панкрата Никитича слепой. Приложился к бутылке.
От неожиданности Панкрат Никитич растерялся. Хотел сказать слепому, что он ведь по-хорошему, без умысла какого спросил, но слепой, кривясь от водки, уже цедил сквозь зубы:
– Знаю, что дальше спросишь, знаю. Так я те сам скажу: с рожденья, с рожденья я слепой! Понял? – И неожиданно засмеялся – тонко, по-бабьи. Словно видел разинувшегося от изумления Панкрата Никитича. И все смеялся, поясняя: – Подают лучше, подают, когда «инвал-лид войны!» Уразумел, старик! Хи-их, хих-хих!
Вдруг разом оборвал смех – и точно красная злоба нахлынула на лицо. Торопливо начал шарить рукой возле себя. По Митькиным коленям, дальше лез, к Кате…
– Где? Где? Где она? Куда делась?..
Митька готов был закричать, натужно отталкивал лапу слепого, не пускал к матери, загораживал. Катя вскочила, схватила Митьку, прижала к себе. Вскрикнула:
– Да что вы делаете-то?!
Панкрат Никитич строго спросил:
– Ты что, мужик, сдурел с водки-то?
Слепой сразу замер. Обмяк.
– Так это я так… ничего… все они стервы – известное дело… так это я… – Вдруг выкинул руку с четушкой вбок: – Держи, Генка!
Мальчишка схватил, с жадностью высосал остатки.
Панкрата Никитича как ударили – откинулся на стенку, рот раскрыл.
– Да что ж ты делаешь-то с малым, мужик?
– А чего? Пускай, – равнодушно сказал слепой. – Не уйдет зато. А если и уйдет – наши поймают, все одно не жить. Он знает… – Слепой отвалился к стенке, любовно огладил живот, шумно выдохнул сытостью и теплой водкой.
А мальчишка… мальчишка словно жизни плеснул в себя – взгляд его вспыхнул, оживился, но когда столкнулся с вылезающими глазами Кати и Митьки, ушел в сторону, с ухмылочкой притушился. Мальчишка сплюнул в проход вагона, грубо дернул слепого:
– Хватит болтать! Вставай! Работать надо!
– Он зна-ает, – подленько смеялся слепой, – не поработаешь – водки не выпьешь, хи-их, хих, хих! Зна-ает. Куда ему без меня? Тут главное – следи, чтоб не напился. Вечером пжалста, я разрешаю… Чего он вытворяет – обхохочешься, хи-хи, хих, хих!
Панкрата Никитича затрясло, тихим, вырывающимся голосом сказал:
– Ну-ка, сволочь, немедленно отсель!.. Слыхал?!
– Но! но! ты! ты! – Слепой подымался, пятился. – Я вот крикну счас по вагону – тебя в клочья разорвут!
Панкрат Никитич вскочил.
– Это мы тебя, паразита, разорвем! – Толкнул слепого в проход вагона: – Вон отсель, мразь, пока башка цела!
Торопливо хватаясь за мальчишку, слепой спотыкался по вагону к тамбуру. Зло выбубнивал: «Погодь, кержацкая рожа! Погодь! Счас, кержак, сча-ас! Погодь…»
Из ближайших закутков выглядывали удивленные люди: а где? че? че тако? что случилось?
Сидящий через проход у окна солидный мужчина средних лет, до конца проследив, пока слепой и мальчишка не скрылись в тамбуре, тут же храбро и деятельно поддержал Панкрата Никитича:
– Вы совершенно правильно поступили, гражданин! Совершенно правильно! Таких нужно сдавать в милицию! Только в милицию!
Его жена, полная испуганная дама, стала горячо объяснять всем, чему вот только что они с мужем были свидетелями. «Ужас! Ужас!» – выкатывала она фарфоровыми глазками.
Подивился на таких помощничков Панкрат Никитич – и на место увалился, растерянно говоря:
– Вот так приветили убогого. А? Вот змей, так змей!… Ах ты боров невыложенный! Да что ж это он с мальчишкой-то сотворил!
– А ты пошто встрянул? – вдруг накинулась на него старуха. – Пошто убогого обидел?
У Панкрата Никитина челюсть отвалилась книзу.
– Убо-огого? – И заорал: – Да ты… ты… ду-ура!!
– Сам дурак! – без задержки стрельнула старуха и снова зло долбила: – Тебе какое дело? какое? Пошто грех на нас навлек?
– Э-э, грех… – И неожиданно тихо, с тоской, Панкрат Никитич сказал: – Он же… он же парнишку сгубил… Неужто не жалко? Чурка ты бесчувственная! – И покачиваясь, как от боли, колени поглаживая, тоскливо смотрел в потолок слезами. Старуха с презрением отвернулась.
Вся горя, Катя напряженно смотрела в окно. Стегаемая молниями, степь неслась под клубящим черным небом. По стеклу, словно слезы степи, разбивались, сдергивались торопливые струйки-дождя. Испуганный, как гвоздок пряменький, Митька удерживал мать за руку.
11
Он появился внезапно. Как из воздуха. И сел, ногу на ногу кинул, фиксами на все стороны фикстуля.
– Закурить найдется, пап-паша? – Пропитый голос знойный песок. Сахара.
– Не курю, сынок, – ответил Панкрат Никитич и с готовностью пояснил: – Пчела не позволяет. Пасечник я.
– Ты смотри – не позволяет! – деланно удивлялся, ваньку валял фиксатый. – А с этим как?.. – Фиксатый щелкнул ногтем себя под горло. Кате с Митькой подмигнул: – Позволяет?
Панкрат Никитич доверчиво рассмеялся.
– С этим мо-ожно. Позволя-яет… – И выстрелил: – Но не любит! И захохотал вместе с фиксатым. А тот аж переломился, задергал на колене тощим, жиганским сапогом.
– Профессор, слыхал? – подмигнул солидному гражданину через проход вагона, дескать, ну дает старик! «Профессор» запер дыхание и, как только фиксатый отвернулся, деликатно слинял с чемоданами и супругой дальше по проходу. У Кати похолодело в груди. Она хотела встать и выйти из закутка. К людям. Позвать кого-нибудь. На помощь призвать. Закричать, если что… Фиксатый, не сводя улыбочки со старика, как бы между делом, остановил ее рукой. «Не спеши, симпатичная, посиди…» Рука была – как из железа.
А Панкрат Никитич, доверчивая душа, ничего не подозревая, чуть погодя уже рассказывал весело под перестук колес: «…лет десять мне было всего, И вот, мил человек, пошли мы как-то с ребятёшками на Колюжно-озеро. На рыбалку. Версты три от села. Больно уж рыбы в этом озере было. Да. Как вышли за село, один молодец и достаёт горсть махры из кармана, дескать, налетай, братва, закуривай, я не жадный! Ну, все, понятно, цигарки начали крутить. И газетка нашлась. А я-то курить не умею, не обучен еще. Как быть? Да только разве молодцы оставят Панкратку в беде? Да ни в жизнь! Свернули вот такую козью ногу, что трубу паровозную, запалили и в рот Панкратке сунули. Да. И учат, значит, как курить-то надо. Ты, говорят, Панкратка, вдыхани в себя поглыбже – поглыбже, не бойся – и неторопливо так, понемножку и выпущай дым-то, а в это время и говори… мда… «так, мол, твою так, да так, мол, твою эдак!» По-матерному, значит, пущай. Втянул в себя храбро… ну, глаза-то и выпучил, ровно ерш на крючке! Воздуху нету, посинел весь (какой тут по-матерному пущать). Молодцы, как положено, по горбу постучали. Прокашлялся. Слезы ручьем. Но – живой. Да. Не горюй, говорят, Панкратка, – за первым разом завсегда так. Второй раз легче пойдет. Ладно, утешили. Второй раз заглотил. И впрямь полегче (по-матерному даже успел чуть пустить). Да. И так, помаленьку да полегоньку и наладилось курево-то. Идем дальше, заглатываем и по-матерному выпущаем. Да. Тут, глядь, бричка из-за поворота вылетает. Мать честная! Папаня в бричке родной мой, вожжи натягивает! Молодцы по кустам рассыпались, а я стою как пень при дороге – и труба моя паровозная во рту книзу сверзилась, и дымит вовсю. Выплюнуть даже не догадался. Ну, папаня и приглашают меня, значит, в бричку. Садитесь, мол, разлюбезный сыночек, домой поедем. Сажусь, едем. Ну как, разлюбезный сыночек, спрашивает, накурился аль нет? Ну, я: да, папаня, да боле никогда, да ни в жизнь! Ладно, говорит, дома порешим, как быть. Едем дальше, молчим. А отец-то мой не курил, да и братья старшие. Староверы, у них с этим строго. Ни-ни! Да. Приезжаем в село, к дому, во двор. Тут папаня и говорит, вот что, Панкратушка, я порешил: спытанье тебе исделать. Я сейчас лупить тебя буду, Панкратушка, как Сидорову козу, но ежли не пикнешь, вынесешь – кури в свое удовольствие, слова не скажу. Ну а ежли заорешь, то уж не обессудь – лупцевать буду кажен день. Для кредиту. Снял вожжи, разложил меня на бричке – и поехал… Как тут не орать? Орал так, что полсела сбежалось. Да… в кровь избил меня папаня-то… Вот так, мил человек, с тех пор и бросил. И не тянет!» – смеясь, закончил Панкрат Никитич.
Но фиксатый почему-то не смеялся, сказал задумчиво:
– Значит, тоже бит бывал… папаша…
– Еще как, еще как, мил человек! – опять засмеялся Панкрат Никитич, но увидал, что фиксатый подымается, всполошился: – Куда ж ты, сынок? Посиди. Чайку сейчас сообразим. А?.. Посиди…
– Спасибо, папаша, да выходить мне скоро… – Фиксатый постоял и добавил странное для старика: – Живи, значит, отец… Не нашел я тебя… – И подмигнул, сверкнув фиксами озорно: – Эх и веселый ты мужик, пап-паша! – И исчез, как появился.








