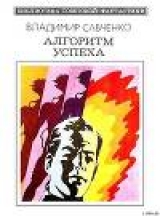
Текст книги "Алгоритм успеха (сборник)"
Автор книги: Владимир Савченко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
В школе и в институте мне плохо давался английский. Ну, не шел – особенно этот кошмарный звук «th». Еле сдавал экзамены. Так было до тех пор, пока в англо-американских научных журналах не появились статьи обо мне. Не только, правда, обо мне: и о Борисе, о ныне покойных Олафе Патерсене, Ване Птахе, Арджуне, Гуменюке… о всей нашей команде психонавтов; но и обо мне был где абзац, а где и два. Откуда и взялось прилежание к «инглишу», понимание его! Надо же было прочесть, проверить, не исказили ли мой неповторимый образ или фактику. Большое дело личный интерес.
А теперь такое отношение прорезалось у меня к нейрофизиологии, психофизиологии, психокибернетике, пси-бионике, к теориям восприятия – ко всему кусту наук, исследующих и объясняющих, почему мы так видим, так слышим и т. п. Фотоэлемент скользит по строкам, штырьки бегло сообщают моим пальцам слова и знаки. Наиболее понравившиеся места я диктую на магнитофон, чтобы потом увидеть в цвете. Читаю, как детектив, до глухой ночи.
Увы, это еще не законченный детектив. Ясно строение глаза, уха. Более или менее известны схемы нервных путей от них в мозг, разветвления их, схождения, перекрещивания… словом, все то, что, по меткому выражению Борюни, можно узнать при вскрытии. А вот что касается взаимодействия живых глаз и ушей с живым мозгом: ориентировки, узнавания образов, расшифровки звуков, поиска и выделения нужной информации – всех основ целесообразного, разумного поведения – ой, худо! «Несмотря на то, что процесс нахождения определенных предметов по их зрительному изображению пока еще непонятен (!), следует допустить…» «Что происходит с акустической информацией на пути ее от уха к мозгу? Ответ на этот вопрос может вызвать лишь разочарование».
Так пишут наиболее добросовестные авторы. Прочие же в преподавательском апломбе просто умалчивают о нерешенных вопросах, будто их и нет; и то сказать, как спросишь со студента, если сам признаешься, что в данной проблеме ни бум-бум!
Эксперименты на кроликах, лягушках, кошках («Для чего нужны кошке нейроны-детекторы изменения частоты в коре мозга? Мы этого не знаем». – П. Линдсей, Д. Норман. «И я тоже».-М. Колотилин.), реже на обезьянах. По большой части они сводятся к тому, что у бедных тварей что-то разрушают или удаляют (участок мозга, нерв, деталь уха или глаза), – и уже одним этим напоминают, да простит меня великая наука, анекдотический опыт, доказывающий, что таракан слышит ногами: если постучать по столу, то контрольный таракан убегает, а подопытный, с оторванными ногами, спокойно остается на месте.
Не пойду я к врачам со своим «недугом». Сдать минимум по профилактике, или там по технике безопасности-это пожалуйста; но искать у них исцеления мне нечего и думать.
…И тем не менее чтение этих «детективов» привело меня в хорошее расположение духа. Привела меня в него одна забористая, как погоня с пальбой за гангстерами, главка под названием «Временное кодирование в нейронах». Там вот о чем речь. Мы воспринимаем звуки с частотой до двадцати тысяч колебаний в секунду (а летучие мыши так и гораздо выше). Но волокна слуховых нервов-так называемые «волосковые клетки»– не могут посылать импульсы с такой частотой: их предел сотни нервных разрядов в секунду, да еще надо иметь запас частоты на передачу интенсивности (чем сильнее звук, тем чаще следуют импульсы). Как же они умудряются передавать высокие ноты? Очень просто: десятки нейронов делят работу между собой. Первое колебание высокой частоты передает одно волокно – и выдыхается на пару миллисекунд; но второе колебание порождает импульс в соседнем нейроне, третье – в следующем… и так, пока первые не подзарядятся и не включатся снова в работу. А если звук не только высокий, но и сильный, нейронов для его передачи включается побольше – все учтено.
Пусть меня заподозрят в дурном вкусе, но я смаковал эту главку с художественным наслаждением. Как-то все сразу прояснилось.
…Ведь потому и трудны исследования, что мозг – очень гибкая и чуткая сверхсложная система, не терпящая грубых вмешательств. И более честная система, чем все органы восприятия. Мир един – и все проявления его, которые мы воспринимаем различными по качествам, разные количественно (самый простой пример: «красный» и «голубой» цвета различны лишь по длине световой волны), хоть и в огромном диапазоне величин. А мозг и качественную окраску впечатлений преобразует снова в единое, универсальное: в импульсы, импульсы, импульсы, бегущие по нейронам. Благодаря этому мы и можем выделять из пестрого разнообразия жизни суть, смысл, главное.
Но если так, то чему я должен больше доверять: тому, как воспринимают мир другие, – или как воспринимаю его я сам?
…Мозг – живой гомеостат, неутомимый в своем стремлении к равновесию, из которого его то и дело выводит жизнь: впечатления, переживания, воздействия среды, процессы в теле, проблемы. Но обычные впечатления-проблемы-процессы выводят его из себя не слишком, восстановить равновесие можно обычными реакциями: покушать, совершить отправления, покраснеть-побледнеть, сказать: «Зайдите завтра» и т. д.
М о е нарушение равновесия куда сильней. Для восстановления его должна произойти глубинная пере-. стройка работы мозга. Вероятно, она уже идет во мне. Как? Какая-то новая интерпретация всех этих шквалов импульсов?
…У меня есть еще одно преимущество перед «неперепутанными» вообще и перед неистовыми экспериментаторами над кошками, в частности: я летал в «радиосутях» – и при этом воспринимал мир совершенно не так.
VII– …Считывание-процесс сознательный и волевой, Я осознаю суть сутей самого себя, цельность натуры, непрерывность своего бытия. При этом я как бы просматриваю и взвешиваю, оцениваю внутренним взглядом дифференциалы-различия своей личности: выразительность здоровья и жизненной силы, свою мужественность (а она существует. Юля, и помимо моей неотразимой внешности), выразительность интеллекта, глубину своей памяти и, наконец, выразительность моего характера. Эти сути, надо сказать, распределены у меня преимущественно в верхней части тела, ибо человек я, как вы знаете, возвышенный…
Это я, следуя наказу Патрика, выполняю свой долг до конца: диктую отчет. Занятие это и обычно-то всегда мне казалось скучным: переводить в слова то, что значительнее, глубже любых слов, а сейчас и вовсе настроение не то. Мысли рассеиваются.
– Но так бывает не у всех. Есть характеры, сосредоточенные в желудке, озабоченные только обменом веществ, работой внутренних органов. У иных душа и вовсе в пятках. Таких мы, конечно, не будем обменивать ни с барнардинцами, ни с проксимцами…
«Вы отвлекаетесь», воспринял я желтовато-зеленую фразу, хотя пальцы мои в этот момент не касались штырьков аппарата для слепых. Слова, может, были и не совсем те: «не отвлекайтесь» или даже «не резвитесь» – но смысл такой, ручаюсь. Уже немного могу.
– Нет, Юля, почему же! Вопрос равноценности обмениваемых характеров важен. Он изучен еще недостаточно, здесь мы можем столкнуться с неожиданностями. Знаете ли вы, что в некоторые одинаково называемые, черты личности мы и наши сменщики вкладываем разное, подчас даже противоположное содержание. Скажем, нравственность…
«Вы невозможны. Макс! Я включила магнитофон»..
Не то чтобы я совсем невозможен, милая Юль Васильна, и не такой уж я пошляк: просто мне сейчас надо пробуждать в людях эмоции. Отрицательные, положительные-любые. Тогда я лучше их понимаю. Информация чувств не сводится к видимому-слышимому – иначе почему мы ощущаем устремленный на нас взгляд?
– Хорошо, продолжаю отчет… Итак, самоконтроль, отрешение от всего земного – я разрешаю (а затем и помогаю) машине считывать в нужной последовательности свои пси-заряды, насыщать их энергией СВЧ-колебаний и передавать на вихревую антенную решетку. Так я стартовал в виде «радиопакета»: поперечник восемьсот метров, длительность две секунды (или, что то же самое, длина 600 тысяч километров), несущая частота двадцать гигогерц, собственная энергия 5,5 мегаджоуля. Это серьезная энергия, в виде пищевых калорий мы такую потребляем за десяток лет. Период вращения моего вихря энергии, естественно, тоже составлял две секунды – таким его сформировала антенна. Вы видели, Юля, как это происходит: столб светящегося ионизированного воздуха над институтом пронзает всю атмосферу – и нет…
«Видела, знаю, не отвлекайтесь», – просемафорила ассистентка зеленым светом.
– Угу… Должен сказать, что я ни малой доли мгновения не чувствовал себя вне материи. Просто перешел из одного состояния в другое-и теперь, в электромагнитном, я куда более плотно, осязаемо как-то ощущал космическое пространство. Наверное, так рыба чувствует воду.
Основная забота в полете была уплотнять свой вихрь, не дать ему растечься. Что же до прочих переживаний, то… наверно, мы сейчас еще в начале своей вселенской эволюции, существуем в космосе на том же уровне, как моллюски в древних морях или черви в почве: интерференционные взаимодействия с окрестными радиоизлучениями носили характер касаний, осязания чего-то расплывчатого, иногда тепла или холода, иногда страха и боли-не выше. Солнце, Земля, затем и Юпитер грели меня радиолучами, как три звезды; я даже подпитывался от них. Но скоро они остались далеко позади.
Растекание энергии, а первого ретранслятора достигла лишь малая доля моего вихря, порождало чувства слабости, усталости, затем и голода, страха, что пропаду в пустоте. Только маячные радиоимпульсы, от ретранслятора, а они все усиливались и усиливались, прибавляли бодрость и надежду. И когда достиг его приемной антенны, энергетической установки, то была бурная радость – утолил «голод», прибавил себе сил и выразительности. И вылетел мощным вихрем вперед!
Нет, конечно, были не только животные переживания. Чувство своей огромности и стремительности, соизмеримых с масштабами и движениями настоящего мира – Галактики, чувство слияния с пространством-временем, могучим и ровным потоком материи. Кроме того, я помнил – отчужденно как-то – свое прежнее состояние: мелкотелесное, с ложной обособленностью от среды (от которой целиком зависишь), но богатое переживаниями и сложностями отношений. Я помнил и как трансформировался, куда стремлюсь, свои задачи… не в словах – в сутях, готовностью исполнить. И конечно, было чувство победы, когда сам осмысленно переключил второй ретранслятор, отправился в обратный путь. Теперь я узнавал окрестный «радиопейзаж»… Вообще, Юля, Галактика в радиолучах выглядит совсем не так, как в видимых.
«Сколько времени вы прожили в пространстве?»
– Сколько прожил?.. Трудно сказать. Когда радиополеты станут массовыми, можно будет сравнить объемы дел и переживаний, установить счет собственного времени. А пока – сколько не был здесь, столько и прожил там.
Я поднимаюсь с кресла.
– Все, Камила… то есть, Юля – простите, пожалуйста! На сегодня хватит. Снаряжайте меня на прогулку. Пойдем в лес.
(Опять неловкость: эк я обмолвился! Значит, сидит, гвоздем сидит в подсознании, что Камила здесь, ждет встречи. А я вторую неделю уклоняюсь. Трусишь, психонавт?..)
Мы, психонавты, все еще чудо-юдо для окрестного населения, даже для многих работников института: глазеют, сбегаются смотреть, набиваются на ненужные разговоры, просят автограф. Ну – звездолетчик без звездолетов, о чем говорить! Чтобы спастись от такого внимания, прибегаем к нехитрым уловкам. Вот и сейчас с помощью Юль Васильны я надеваю надувной жилет, который изменяет мою приметную фигуру, рыжеватый (под цвет отросшей за четыре месяца бородки и усов) парик, очки-фильтры в позолоченной оправе. Сую в зубы ненаполненную табаком трубку… сам бы себя не узнал, не то что другие! Опускаемся лифтом, выходим из института и по набережной направляемся к лесу.
– Юля, придерживайте меня за полметра от столба. Но не раньше!
Сейчас начало октября. Воздух напоен, горьковатым запахом опавшей листвы. День солнечный (чувствую, как греет правую сторону лица) и тихий – стало быть, для меня темный и очень шумный. Только машины, пролетая по набережной мимо, «освещают» себя так, будто у них фары сзади и спереди.
Шаркаю ногами, шаркаю ужасно, во всю подошву: это дает серо-желтый свет. Вспышки его озаряют снизу расплывчатые линии, трепетные поверхности (парапет? основания столбов?..). Я тысячи раз ходил по набережной, но сейчас ни в чем не уверен. Дважды Юля меня вовремя удерживает от соприкосновения с бетонным столбом. Запоминаю картину нарастания света-шума – и далее обхожу их сам,
Справа, где Волга, шум, если скосить туда глаза, – отдаленный и реверберирующий, будто от уносящихся за горизонт реактивных самолетов. Поднимаю глаза: шум переходит в высокие щелкающие звуки, в щипки струн пицуцикато осеннего синего неба. Но если повести глазами вправо, там начинает оглушительно, трубно орать солнце.
Слева – от зданий, деревьев, столбов, оград – шум прерывистый и разнообразный. Легче всего я опознаю деревья при легком порыве ветра: вид листвы воспринимается как ее шелест, а сам шелест – как просвечивающая на солнце и меняющая очертания крона.
Может быть, поэтому я узнал свою любимую рощу, как только мы в нее вошли: стало светлее и шумнее. Вспышки от моих шагов, хоть я больше и не шаркал, сделались куда ярче: это туфли раздвигали ворохи сухих листьев. Вскоре я опознавал не только стволы берез, приближающиеся с высоким – «белым» шипением, и кленов (тон пониже, ворчащий какой-то), но и их по-разному звенящие кроны.
Это пень?
«Да».
– Уфф!.. – Я сел. Сердце колотилось, спина была мокрая, колени дрожали будто крутился на центрифуге с предельным ускорением. Да, работенка! Ничего, это вроде изучения чужого языка: сначала каждый слог труден, гортань протестует против непривычного произношения, ум – против разнобоя фонем и написаний, против несоответствия между громадой усилий и мизерностью результатов. Но в памяти все накапливается новое, обобщается, усваивается – и пошло. Так и тут. Не видать мне, наверно, больше ни солнца, ни неба, ни лиц человеческих, не слышать плеска волн и пения птиц, но опознавать образы всего, ориентироваться вереде, в природной и в цивилизационной, я буду. Нужда заставит, жизнь научит.
– Юля, почитайте мне, пожалуйста, стихи. Хрестоматийные или широко известные, подходящие к обстановке. С выражением.
…Была в юности забава с одноклассниками и одноклассницами: выдавать стихи без слов, через «та-та-та», с должными интонациями и ритмом – кто скорее угадает. Ну-ка попробуем теперь.
Наверно, Юлия Васильевна тоже любила стихи, задача была ей не в тягость. Она, насколько я мог угадать, стояла, прислонившись к золотоголовой березе, равномерно шумящей, смотрела в сторону Волги – и читала будто для себя. Пушкин, Блок, Есенин, Тютчев… «Роняет лес багряный свой убор…» я узнал со второй строфы, «Есть в осени первоначальной…» – с третьей строчки. Оказалось, что в поэзии наши вкусы совпадают.
И замечательно: как только я узнавал стихотворение, то в ритме с зеленовато-желтыми вспышками Юлиного голоса, совпадая с ними, а затем опережая и предугадывая, начинал звучать во мне голос памяти. Голос не мужской, не женский, не окрашенный обертонами, бесцветный будто – и в то же время точно передающий все оттенки чувства и мысли, вложенные поэтом в стих. И даже яснее, богаче выражали сочетания вспышек и голоса памяти чувственный поэтический смысл, суть вещи, чем если бы это был просто голос – пусть и хорошего актера. Я, внимая, даже впал в некий транс.
А после – как отчетливо воспринимал я по вспышкам Юдину речь!
…Еще мы жгли костер – и он звучал музыкально. Затем спустились к Волге, к месту, где впадал в нее ключ с чистой водой, – и щебетанье ручья было чем-то похоже на костер.
VIIIЭта прогулка была для меня открытием мира. Осторожнее сказать, мир приоткрылся мне новыми сторонами, приоткрылся многообещающе, заманчиво – а я-то: читал его потерянным!
И вечером, вернувшись к себе, я решил проверить то, о чем до сих пор опасался и думать: как будет звучать-видеться музыка?
Музыка… Она всегда составляла большую часть моей жизни – не меньшую, чем книги. Странновато для человека нелирического склада души, естественника и прикладника, но так. Я ставлю ее среди искусств на такое же место, на каком стоит среди наук математика: ведь музыка так же беспощадна к фальши, как математика – к ошибке.
Семья наша была без особых достатков, не научили меня игре ни на фортепьяно, ни на скрипке. Но если бы давали дипломы слушателям, мой, несомненно, был бы с отличием. И моя фонотека содержала все лучшие произведения в наилучшем исполнении.
Только выбрать пластинку я теперь не мог.
Я и прежде любил слушать в темноте. Расставить динамики, установить пластинку, опустить на край ее иглу звукоснимателя – и пошло полыхать вокруг во всех красках: то ярким пожаром, то тусклым тлением. Глаза мои (или зрительные участки мозга?) истосковались, видимо, по четким образам, вот они и возникали сейчас. Полупрозрачные, с меняющимися контурами, проникающие друг в друга – волны? змеи? высокая трава под ветром? фантастические животные?.. Подобное я видел на картинах Чюрлениса; сейчас будто шел абстрактный фильм по чюрлёнисовским мотивам.
Но что за произведение, чье? Явно симфоническое.
Не угадал. Снял, чтобы не тужиться, не расходовать зря внимание: сначала надо научиться узнавать. Поставил другую.
Беглые, отрывисто мелькающие вспышки, вначале яркие, медленно тускнеющие: желтые, бирюзовые, лазурные, синие… и все очень чистых красок. Повторяющиеся алые вкрапления… аккомпанемент? Фортепьяно?.. Ритм вальса. Вальс Шопена, других в фортепьянном исполнении у меня и нет. Скорее минорный, чем мажорный… Далее подбирал по памяти мелодии – и нашел, совпало: сочинение 69, № 2, си минор!
И как только совпало, звучащая в памяти мелодия сложилась с ритмично меняющимися вспышками в тот же, что и при слушании-видении стихов Юли, эффект обогащенного восприятия. Не было ни вспышек, ни звуков, ни комнаты, ни фортепьянной музыки – душа трепетала и ликовала от понимания чужой души, понимания мыслей и переживаний, которые только так, а не словами и ничем иным, можно было выразить.
Увертюру «Эгмонт» Бетховена я опознал, не гадая, не подбирая мелодий к вспышкам, – по чувствам, которые только она и вызывала. Шатающимися скалами, синим морским прибоем, стонущим под ударами урагана, громоздились пылающие чюрлёнисовские видения; с ними сливались возникающие в памяти звуки… не симфонического оркестра, нет, самого музыкального смысла этой вещи. И сила, отвага, грозовое веселье переполняли меня.
На следующей пластинке тоже был Бетховен. Седьмая симфония полыхала зарницами на горизонте. Ее я узнал по второй части – Алегретто в форме похоронного марша – самой любимой мною, узнал по вызванным музыкой чувствам задумчивой скорби и гневного горя, горя сильного человека.
…Но что же на первой-то пластинке, которую я отложил? Ставлю снова. Переливчатые фиолетовые блики – партии скрипок. Наплывают желтоватые, в зеленых обводах колышущиеся чюрлёнисовские пейзажи… соло фагота, валторны, тубы? Яркий, как беззвучный взрыв, взлет световых брызг – «tutti» всего оркестра. Брызги опадают-темнеют, волнение цветов и яркостей образует покойно-маршевый ритм. Пауза тьмы-это конец части, игла скользит по просвету. Вторая часть: полупрозрачные мелькания в ином ритме. Это симфония, не фортепьянный концерт, но какая, чья? Пока что особых эмоций не вызывает. Или трачу все силы на угадывание инструментов? Что мне в них!
Снова пауза тьмы. Третья часть: торопливые мелькания в сине-голубой части спектра – флейты, скрипки, альты. Рябь воды под ветерком, кружение ласточек над обрывом… опять не секу, не ухватываю. Пауза тьмы перед последней частью.
И вдруг-что это?! – будто у меня сдернули повязку с глаз. Деревья вдоль берега неширокой реки: ивы, ольхи, осины, выше по косогору дубы, березы, клены – и ветер вьюжными порывами полощет их, звонко треплет листву, изгибает ветви, верхушки. Он то налетает свободно-ритмичными порывами, то отпускает их, колышет цветы, треплет траву справа и слева от меня, покачивает навесной дощатый мостик впереди… Где это, что? Я был в том месте: спускался по крутому склону к реке, увидел-ощутил весь этот пейзаж с ветром – и началось состояние, которое бывает при слушании-понимании музыки (хотя не было музыки). Даже сильнее, драматичнее, с комком в горле. Где это было?!.
Главное – этот ветер, неистовые симфонические порывы, выгиб ветвей, трепет листьев, готовых сорваться и улететь. И облака в ясном небе, и вереница трехсотлетних дубов на гребне в кругу свежей поросли (я еще их видел потом на очень старой фотографии – на век моложе и без поросли у кряжистых стволов). Ветер раздувает облака-паруса, треплет волосы, я перехожу шаткий мостик, поднимаюсь глинистой тропинкой среди травы и цветов… и подкатывает к горлу от вида и понимания всего. Почему?! Тропинка разветвляется: вправо– к темным сараям и дубам за ними, а мне надо влево. На развилке трепещет листвой, уносится по ветру прядями-ветвями, упруго гнет и распрямляет ствол молодая березка. И при взгляде на нее еще гуще тот комок, слезы навертываются. «Во поле березка стояла…»
Вот оно что. Я слушаю-вижу Четвертую симфонию Чайковского, ее финал.
Это было год с месяцем назад. Направлялся в Москву, сошел в Клину. Пренебрег экскурсионным сервисом, направился пехом через весь город – весьма заурядный, со стандартными домами и пыльными улицами-к Дому Чайковского. Один житель указал прямой путь: мостик через реку Сестру. И как только я, удалясь от пятиэтажек, вышел на левый берег, увидел окрестность – зазвучал в голове финал Четвертой.
Да, пожалуй, виноват был ветер, своими порывами в точности повторявший его вихревое, вьюжное начало. И неважно было, что не в поле, а над рекой Сестрой гулял он и что на косогоре стояла березка. Неважно было, что Петр Ильич, как я знал, написал Четвертую гораздо раньше, чем поселился в Клину, в доме, к которому вела тропинка, даже вовсе и не здесь, а в Италии… все это было неправильно и не то. А правильным был ветер, дубы в натуре и на фотографии (в спальне композитора), скрипичные переливы ряби на глади реки, комок в горле, слезы понимания и то, что березка на развилке показалась как раз тогда, когда и в симфонии, утихомирив буйство оркестра, возникала ее простая мелодия. «Во поле березка стояла…»
Потому что эта музыка жила здесь, жила в первичной сути своей. И я шел к ее творцу, который, умерев век назад, тоже жил – крепче и основательнее многих ныне здравствующих.
Пластинка кончилась. Я сидел в темноте-тишине, приходил в себя. Вот, значит, как. Тогда в Клину вид пробудил во мне звуки, музыку, а теперь музыка пробудила видовую память. Рефлекторная дуга замкнулась через глубинный смысл, как объяснили бы потрошители кошек, и идиотизм строгой науки в том, что они еще и оказались бы правы. Но и я тоже прав в своем интуитивном поиске – и прав именно потому, что я не кошка, а «хомо сапиенс». Да, мы видим, как животные, слышим, как животные (многие из них по остроте слуха или зрения далеко превосходят нас), но поскольку мы-люди, то за увиденным и услышанным мы улавливаем нечто скотам недоступное: мысль. Смысл бытия. Вот поэтому я в своей перепутанности и воспринимаю лучше всего то, что содержит большой смысл: поэзию и музыку.
Наверно, понаторев, так я буду воспринимать и речи людей – по содержащимся в них мыслям и глубоким чувствам. Так восприму и творения людей, а в природе все гармоничное, величественное и выразительное.
А то, что мелкое, вздорное, пустое, низкое в людях и в мире, останется для меня невнятным шумом и световым мусором, – так ведь и бог с ним. Я слышу видимое, вижу слышимое, но воспринимаю не звуки и не свет, а то, что за ними. Так обеднел я или обогатился?
Перед тем как лечь, я для пробы поставил пластинку с песнями. Третьей шла моя любимая «Мы люди большого полета». И воспринял вдруг то, чего не понимал, не чувствовал раньше: что певцу-исполнителю нет дела ни до полетов, ни до высоких идеи, а озабочен он лишь тем, чтобы громко и правильно вытянуть ноты, и вообще поет немолодой, не очень здоровый, озабоченный личными неурядицами человек.
Я сломал пластинку о колено.




































