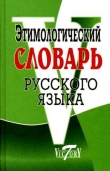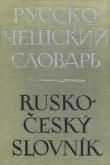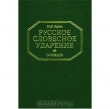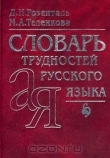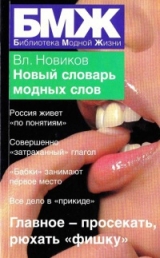
Текст книги "Новый словарь модных слов"
Автор книги: Владимир Новиков
Жанры:
Словари
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
«Попса» – это не халтура, а масскульт (халтура, кстати, встречается и в элитарном искусстве – разве не бывает плохих опер и балетов?). Есть попса высокого уровня – например, песни Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева. «Если б был я султан, я б имел трех жен…» – незамысловатые строки, но пошлостью от них не разит. И комедии Леонида Гайдая, в которых эти песни звучали, тоже можно назвать «попсовыми», но это вершина масскульта, который в данном случае смыкается с высоким искусством.
Нет, дорогие коллеги и единомышленники, товарищи по элитарной культуре! Все-таки «попса» – не от слова «попа», а от слова «populus», народ.
ПОФИГИЗМ
Существительное с обобщающим значением и очень убедительным эмоциональным посылом. Оно бросает вызов всякого рода циникам и пошлякам, тем, кому все по фигу, кто готов всех и все на свете послать подальше. Старые инвективы утратили свою эффективность. Ни на кого уже не действует обвинение в эгоизме: «Да, я эгоист, ну и что?» Еще беспомощнее проповеди типа «Бойтесь равнодушных!» Да если всех их бояться, то даже на свою улицу выходить нельзя, а еще лучше – переселиться на другую планету. И вот не так уж давно появилось иронически-неодобрительное слово «пофигизм», характерное, как отмечают лингвисты, для речи интеллигенции. Все-таки это сословие еще существует, и для тех, кто себя к нему относит, быть пофигистом постыдно.
Пофигист – антоним гражданина. В первые перестроечные годы уставшие от идеологии писатели, вырвавшись за рубеж, иногда поражали иностранцев своей общественной индифферентностью: мол, мне на политику вообще плевать, лишь бы меня печатали да гонорар выплачивали. Такие некрасивые и саморазоблачительные признания были неизбежной реакцией на ту принудительную «гражданственность», которая в советское время лицемерно предписывалась литературе. «Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете» – бодреньким хореем вещал знаменитый поэт. «Я отвечаю за все» – назвал свой роман неплохой прозаик. Увы, эти безответственные декларации лишь прикрывали реальный пофигизм абсолютного большинства – и писателей, и читателей.
ПРЕЗЕНТОВАТЬ
«Позвольте презентовать вам мою новую книгу», – говорили раньше, да и теперь так выражаются многие. А подарок иногда шутливо называют «презентом», Есть в этих словах трогательная старомодная элегантность. Чем больше в языке синонимических красок, тем лучше.
Но в наступившем столетии у глагола «презентовать» объявился двойник. Самозванец, выступающий в совсем ином значении. «Певец презентует свой новый альбом». Это значит не «дарит», а «проводит презентацию».
Такое раздвоение не очень желательно. Во избежание путаницы и двусмысленности некоторые предлагают обозначать публичное представление новинки слегка измененным словом – «презентировать». Может быть, стоит с этим согласиться. Или же говорить и писать: автор представляет новую книгу, певец представляет новый альбом. Так или иначе, хорошо бы вернуть слову «презентовать» изначальный смысл. Презентации, конечно, необходимы. Но хочется и неформального общения, дружеских подарков, трогательных «презентов».
ПРИБАМБАСЫ
Это существительное, употребляется только во множественном числе и относится к удачным жаргонным находкам, обогатившим литературный язык. Уверен, что такое звонкое словцо понравилось бы русским футуристам. А может быть, и Гоголю тоже: вспомним, как в «Мертвых душах» «дама просто приятная» и «дама приятная во всех отношениях» увлеченно говорят о всяких «фестончиках». То есть, по сути, о прибамбасах того времени. Настоящая женщина хороша и без украшений, но все-таки, чтобы чувствовать себя приятной во всех отношениях, ей порой нужны какие-нибудь немыслимые прибамбасы вроде прозрачных шифоновых воланов на рукавах и подоле массивного шерстяного пальто.
Поначалу прибамбасами (по аналогии с «выкрутасами») назвали всякого рода излишества, а также дорогостоящие упаковки, «накрутки» к товару, повышающие его стоимость и по сути бесполезные. Но постепенно это слово распространилось на автомобильный, компьютерный и телефонный дизайн, где оно стало обозначать вполне функциональные дополнения. Недавно мне бросилось в глаза такое сочетание: «антенные прибамбасы для борьбы с помехами телевидению и радиоприему». Но здесь-то уж точно речь идет не о декоративных излишествах, а о практически ценных технических усовершенствованиях. Что же, шутливое словечко поменяет свой смысл на противоположный и будет значить: «необходимое дополнение к чему-либо»? Пожалуй, до такой метаморфозы дело не дойдет, но сама история слова «прибамбасы» отразила важный и вечный парадокс человеческого сознания, сформулированный Оскаром Уайльдом: «Я могу обойтись без необходимого, но без лишнего – никогда».
ПРИКИД
Что было главным для молодых людей во все времена? Одеться со вкусом, по моде, чтобы выглядеть достойно и не вызывать «ревнивых осуждений». Как тот самый Евгений, который «в своей одежде был педант».
Но с пафосом и упоением говорить об этом обычно не принято. Сложный и ответственный процесс одевания обозначается приземленно-грубоватыми глаголами: «прибарахлиться», «припонтиться», «прикинуться».
То же и с наименованиями одежды и обуви. Причем здесь язык особенно динамичен. Стремительно меняется мода, и так же быстро обновляются жаргонные наименования предметов мужского и дамского туалета. У дедов новые ботинки назывались «колесики со скрипом», у отцов – «коры», у внуков – «шузы».
В рассказе питерского прозаика Валерия Попова «Наконец-то!» героиня, балерина по профессии, беседует с подростком, прямо-таки помешанным на поисках фирменных джинсов. Всего на несколько лет он ее моложе, а лексика уже другая.
«– Да, – говорит, – нынче все дело в прикиде. Как ты прикинут, такая у тебя и жизнь!
– В чем дело? – удивилась.
– Ну, как вы говорите, в шмотках. А мы называем это – прикид».
Вот так пройдет десятилетие-другое, придумают юные люди совершенно новое словечко для своих одеяний и снисходительно разъяснят его старшим: «Ну, как вы говорите, прикид».
ПРИКОЛ
За новыми словами не всегда стоят новые смыслы. Иногда словечко появляется исключительно для того, чтобы как-то освежить, заострить, обновить давно известное. Так произошло и с молодежно-жаргонным «приколом». Шутка, розыгрыш, комическая история, смешной речевой оборот, каламбур, хохма, пародия, неожиданный выпад, эпатаж – все это вмещается в безразмерное понятие «прикольности». Сама метафора, лежащая в основе данного слова, отнюдь не нова: колкость всегда осознавалась как необходимое условие остроумия.
Приколы бывают сиюминутными, а бывают и долговечными. До сих пор достают нас своими виртуозными приколами Булгаков, Ильф и Петров, Высоцкий. Звание «прикольного мужика» сохраняется за Жванецким. Но можно ли назвать прикольными шутки Петросяна, Винокура, Задорнова и других эстрадников этого типа? Нет, в молодежной эстетике это всё попадает в беспощадную категорию «отстой». «Прикольность» несовместима со штампом, она требует новизны, изобретательности, верности духу времени. К подлинной «приколь-ности» стремится и журналист, придумывающий эффектный заголовок, и романист, ищущий неотразимый сюжетный ход, и поэт, творящий новые слова и ритмы. Легендарная формула Виктора Шкловского «искусство как прием» сегодня звучала бы «искусство как прикол».
Под знаком «прикольности» живет Интернет. Кликните заветное слово – и «Яндекс» предложит вам более трех миллионов документов на эту тему. Здесь даже объявлен конкурс «на самый прикольный эротический прикол».
Суть слова, пожалуй, даже не в его корне, а в приставке «при», в значении сближения. Мы все хотим общаться, но чтобы при этом не было скучно. Потому и прикалываем друг друга.
ПРОДВИНУТЫЙ
Причастие, совсем недавно ставшее прилагательным. И настолько частотным, что у многих уже вызывает аллергию. Формально оно узаконено толковыми словарями в значении «находящийся впереди, более совершенный по сравнению с другими», с пометой «разг.». Но никакой словарь, конечно, не может указать, сколько раз на дню допустимо произносить этот назойливый эпитет и до какой степени он может быть продвинут из разговорной речи в литературный язык.
Когда юный спартаковский фан на анкетный вопрос «Несколько слов о себе» отвечает: «Продвинутый кекс» – это можно понять. С некоторым усилием мы способны постичь и более заковыристую, но по сути тождественную характеристику: «мегапродвинутый кент». Но, если наш знакомый зрелого возраста скажет о своем отпрыске: «Он у нас такой продвинутый: владеет компьютером, английским языком и борьбой у-шу», – мы, пожалуй, невысоко оценим культурный уровень всего семейства.
Конечно, это все «растленное влияние Запада», и «продвинутый» – калька с английского «advanced». Вирусом «продвинутости» заразили нашу речь, как ни странно, профессиональные филологи, авторы учебников иностранных языков. Им почему-то не режут слух сочетания «продвинутый курс» и «продвинутый уровень», без обиняков выносимые на титульные листы многих пособий. Стоит ли после этого удивляться тому, что название американского фильма «The new guy» переводится у нас как «Продвинутый новичок», что амбициозные губернаторы именуют свои вотчины «продвинутыми регионами»? А в прежние времена прилагательное «advanced» в двуязычных словарях, между прочим, переводилось простым русским словом «передовой». Но это эпитет слишком пафосный и очень ответственный. Назваться «продвинутым» и проще, и безопаснее.
ПРОЕКТ
В романе А. Солженицына «В круге первом» есть колоритный персонаж по фамилии Сологдин. Его прототипом был философ Димитрий Панин, работавший вместе с будущим писателем в «шарашке», то есть в закрытом гулаговском научно-исследова-тельском институте. Сологдин (не случайно его фамилия созвучна с авторской!) выступает против засилья иностранных слов и то в шутку, то всерьез предлагает для них сугубо русские варианты. Так, для французского по происхождению слова «инженер» он изобретает славянский эквивалент – «зиждитель». А как бы перевел Сологдин слово «проект»? Наверное, он возвел бы его к исходному латинскому глаголу «projicere» («выбрасывать вперед») и на этом основании переименовал «проект» в «заброс». Ведь проект – это план, предначертание, идея, как бы заброшенная в будущее.
И сейчас это значение остается главным. Мыслящие индивидуумы продолжают выдвигать разные проекты, чертить эскизы, писать заявки. И все это рассматривается, обсуждается. Не принимаются к рассмотрению только проекты вечного двигателя – так решили однажды академии всего мира. Но чем черт не шутит – может быть, какой-нибудь проект «перпетуум мобиле» возьмет да и осуществится!
Однако ближе к концу двадцатого века слово «проект» и в русском, и в других языках стало приобретать также значение процесса, протекающего во времени, работы, ведущейся на протяжении нескольких лет. Иногда масштабной, иногда вполне тривиальной. Книжная серия, цикл телевизионных передач, большая выставка – все это «проекты». Потому что под проекты выбиваются деньги, а без денег только птички поют, как резонно заметил еще Федор Шаляпин.
Становится жаль многих великих мастеров, не знавших современного значения слова «проект». Не ведал Оноре де Бальзак, что его «Человеческая комедия», состоящая из десятка романов и повестей, – это «успешный проект». Так и работал бедняга, не вылезая из долгов. Лев Толстой по наивности не мог найти жанрового определения для «Войны и мира»: слово «роман» ему казалось мелковатым. Сейчас бы шустрые продюсеры живо разъяснили яснополянскому отшельнику: «Это у вас, Лев Николаевич, такой мегапроект. Ну, типа Акунина». Я уж не говорю об одном старинном проекте из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Не умел его автор Данте Алигьери даже грамотной заявки написать. Назвал свое эпохальное сочинение скромным словом «Комедия». Это уже потом издатели добавили эпитет «божественная», иначе с финансированием вообще был бы провал.
Если же серьезно, то обидно терять тот смысл обращенности в будущее, который присутствует в древнем международном слове «проект». Ну, что «проективного», скажем, в телесериалах о «ментах» или в каких-нибудь ток-шоу без комплексов? Да прекратятся они, и все о них вмиг забудут. Об «удачности» или «неудачности» здесь даже и говорить не приходится. Пустота, заполненная пошлостью.
Думаю, наш язык вернется к исходному значению слова «проект». И оно снова будет означать интересный и многообещающий план, оригинальный замысел. А не всякую протяженную во времени производственную рутину, тягомотную работу, лишенную какого-либо значительного смысла.
ПРОМОУТЕР
Проходя мимо рыночной палатки, вижу стройную девушку в короткой красной маечке. «Удивит приятно вас вкус изысканных колбас», – соблазняет юная гурия народ своим звонким голоском. Как тут не зайти в лавочку и не купить хотя бы из вежливости кусок докторской или Любительской в натуральной оболочке! Но вот в следующий раз на том самом месте девушки уже нет, а к двери колбасного заведения приклеена бумажка: «Требуется промоутер». А, так вот как называются те, кто подносят нам в супермаркетах пластмассовые мини-стаканчики с заморскими винами, потчуют кубиками сыра и даже пытаются на улице всучить некурящему прохожему халявную сигарету! Что ж, есть профессия – есть и название для нее. Всякий труд достоин уважения, а иностранное слово прибавляет солидности: «промоутер» звучит гораздо лучше, чем, скажем, «зазывала».
Но колбаса колбасой, а я все же думаю о литературе. Может быть, и она нуждается в чем-то подобном? Как-то в метро извлекаю из портфеля свежий номер «Нового мира», в котором печатаюсь почти тридцать лет, а уж читателем которому прихожусь сызмальства. И вдруг слышу вопрос от гражданина, сидящего рядом: «А что, он все еще выходит?» Отвечаю строго и коротко: да, выходит. Собеседник, однако, не унимается и начинает расспрашивать: как и где теперь этот журнал можно приобрести. Приходится пускаться в подробные разъяснения: поезжайте в редакцию по такому-то адресу, дерните за веревочку (то бишь: наберите такой-то код) – дверь отворится, и продадут вам очередной номер, а если захотите – и множество предыдущих. На следующей станции любопытный сосед вышел, а я потом подосадовал: как же не сообразил взять да и подарить ему журнальчик! Себе уж как-нибудь достал бы потом другой экземпляр! Упущен потенциальный читатель, а именно читателей современной элитарной словесности больше всего недостает. Жаль, не смог я выступить в качестве промоутера культуры. Впрочем, тут, наверное, требуются не дилетанты, а профессионалы. Та же девушка в красной майке хорошо бы смотрелась в вагоне метро – скажу, слегка перефразируя Пушкина: «с печальной думою в очах, с журнальной книжкою в руках».
Нужны, нужны нашей культуре толковые промоутеры, чтобы приумножить, а не промотать доставшийся от предшественников моральный капитал.
Р
РАСКРУТКА
Существительное небезупречного происхождения и значения.
Для сегодняшнего языкового сознания оно звучит как будто вполне пристойно: мол, без раскрутки ни в каком деле не обойтись. Под лежачий камень вода не течет, и каким бы этот камень драгоценным ни был, надо ему придать толчок, ускорение, а там уж он и сам засверкает всеми гранями и привлечет всеобщее внимание.
Но нет, не такая метафора лежит в основе жаргонного глагола «раскрутить». В начале все-таки была раскрутка клиента, «лоха» В баре к такому лоху подсаживается легко одетая девушка, и он по дурости начинает заказывать самые дорогие вина и закуски. На улице ему предлагают принять участие в беспроигрышной лотерее: крутится барабан, кружится голова у вышеупомянутого «лоха», и он по доброй воле расстается со своими сбережениями.
Ну, мы с вами, положим, не «лохи», не «фраера». Но разве не грабят нас духовно опытные «раскрутчики» от шоу-бизнеса, от коммерческого книгоиздания? Без всякого спроса врываются в наши уши очередные «муси-пуси» очередной безголосой певицы. В списках бестселлеров доминируют книги «раскрученных» авторов, исправно заражающих читательское население глупостью и пошлостью. И что-то не слышно, чтобы певицу освистали, чтобы зазорно стало для интеллектуалов потреблять квазидетективное дрянцо.
Раскрутка – основной метод коммерческого тоталитаризма. И недавно появившаяся профессия политтехнолога по сути своей состоит в раскрутке пустых фигур и фальшивых партий. Крутится глобальный лохотрон, и одинокий индивидуум ничего не может…
Нет, все-таки может: не сливаться с толпой, быть самим собой и с достоинством стоять на своем. Один так поступит, другой, третий, а потом, глядишь, и составится из них то, что называют гражданским обществом.
РЕАЛЬНО
Наречие, все чаще приобретающее значение «хорошо». Естественно, это происходит в жаргонно-непринужденной речи, где динамика языковых изменений особенно очевидна. В былые времена одобрение выражалось такими словами, как «железно!», «законно!», «классно!», «клево!», «обалденно!», «офигенно!» и т. п. А теперь можно услышать отзыв об удачном отдыхе: «Реально оттянулись!»
Ясно, что такое значение у наречия «реально» – временное. Молодежи понадобятся новые словесные краски, и она их отыщет в палитре языка. Но любопытно, что для эмоционально-завышенной оценки вдруг стали использовать слово спокойное и объективное, «реальное» слово. Потому что «жизнь такова, какова она есть, и больше никакова», как справедливо заметил один безвестный сочинитель. Мы устали от якобы возвышающих обманов и от виртуальных манипуляций нашим сознанием. Пора повернуться к тому, что Митя Карамазов в страстном разговоре назвал «реализмом действительной жизни»: по форме вроде бы «масло масляное», тройной плеоназм («реальность», «действительность» и «жизнь» – значения одного ряда), а как эмоциональный аккорд очень созвучно нашему времени.
И литература сейчас ищет новый тип реализма. Модернистские и постмодернистские фантазмы приелись, «уникальных» писательских миров целая куча, но где на всех найти реальных читателей? Читатель примет того, о ком он сможет искренне сказать: «Реально пишет!»
С
САМОДОСТАТОЧНЫЙ
«Самодостаточные» люди появились совсем недавно. Эпитет «самодостаточный», как и его синоним «самодовлеющий», раньше применялся только к отвлеченным понятиям. Так, в России всегда велся спор: самодостаточно ли искусство как таковое – или же оно должно служить каким-то нравственным и политическим целям? Ученые говорят о самодостаточных факторах, величинах. А людей с волей, характером и умом всегда называли просто самостоятельными – метафора логичная и внятная: человек сам по себе уверенно стоит на ногах, не нуждается в поддержке.
А что значит суждение: «Я человек самодостаточной»? Что говорящему достаточно самого себя, что ему никто другой не нужен? Да не бывает такого! Есть, конечно, профессии, требующие длительного уединения, сосредоточения в себе – например, писательство. Но ни один писатель не «самодостаточен» – ему непременно нужен читатель. И уж совсем смешно читать объявление вроде: «Самодостаточная женщина такого-то возраста ищет мужчину…» Не стоит кичиться своим одиночеством и некоммуникабельностью. Лучше поверить Хемингуэю, сказавшему: «Человек один не может ни черта».
СОВЕТСКИЙ
Вы будете смеяться, но в словаре Даля есть слово «советский». С таким толкованием: «к совету, как к учрежденью, относящийся». Рядом дан пример употребления: «советские члены». Конечно, такое значение слова давно устарело. Даже в порядке шутки никто в наши дни не начнет свою речь на ученом совете словами: «Уважаемые советские члены!»
Сама история этого слова и стоящего за ним понятия потянет на толстенную монографию. Один из парадоксов начала двадцать первого столетия – мода на советское. В 1991 году казалось, что само прилагательное «советский» переходит в разряд устаревшей лексики, становится историзмом, подобно словам «вече», «боярин», «урядник», «продразверстка», «нарком», «политрук». Ан нет! Очень многие наши сограждане произносят прилагательное «советский» с пафосом и трепетом, связывают с ним свои сентиментальные воспоминания.
Как истинный либерал я готов учитывать и такую точку зрения, вникать в аргументы ее сторонников, вести с ними равноправную полемику. Но сейчас у нас разговор не об идеологии, а о языковой норме. Где, когда и как допустимо употреблять слово «советский» в устной и письменной речи?
Вопрос не отвлеченный, а вполне практический. Представьте, что ваш сын или дочь поступает в вуз и пишет экзаменационное сочинение. Допустим, о лирике Ахматовой. И выведет он там аккуратным почерком: «советская поэтесса Анна Ахматова». В интеллигентном вузе у него будет немного шансов даже на тройку. Можно, конечно, потом подать апелляцию: мол, Ахматова жила и работала в CCСP, не эмигрировала, в энциклопедиях до 1991 года числилась как «рус. сов. поэтесса». Вам резонно напомнят: советская власть ее притесняла и поносила, из Союза советских писателей ее исключили, да после этого именовать Ахматову «советской» – просто кощунство!
Но это, как говорится, лирика, а для научных и справочных изданий желательна строгая точность без всяких эмоций. И тут пока не найдено четкого эквивалента для былого определения «советский». Писателей советского периода обычно именуют «русскими», то есть исходят из того, что творили они на русском языке. «Сов.» отброшено, «рус.» осталось. А представителей других профессий называют или «российскими», или вообще никак. Например, Михаил Таль раньше был «сов. шахматист», а теперь просто «шахматист» или «8-й чемпион мира». Притом, что Фишер – «амер. шахматист». Зачем посмертно лишать Таля права на родину? Он – наш, российский.
Иногда в энциклопедиях приключаются казусы. Арсений Тарковский – «русский поэт», а Андрей Тарковский – «российский кинорежиссер». Неужели невозможно одним словом обозначить отца и сына, оставивших большой след в нашей культуре? Мне кажется, стоит шире и смелее пользоваться словом «российский» применительно к науке, технике, искусству всего двадцатого столетия – будь то досоветская, советская или постсоветская эпохи. Советская эра – это (независимо от ее оценки) – период исторически конкретный и завершенный, а у России есть и более значительное прошлое, и, хочется верить, большое будущее.
Между прочим, в «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» некогда «советский» Игорь Курчатов назван «российским физиком», а Юрий Гагарин – «российским космонавтом». И ничего, оба выглядит нормально, не потеряли в славе и блеске. Брежнев там, правда, – «советский политический деятель»: что ж, не тянет он на «российского», мало полезного сделал для отчизны. А Горбачев получил уникальную аттестацию: «советский и российский политический деятель». Точнее не скажешь о человеке, перешагнувшем границу двух эпох.
В период существования СССР «российский» было узким понятием, связанным с одной из республик, с РСФСР. А «советский» – это поднимай повыше, это союзный уровень. Но теперь иерархия меняется и постепенно приобретает не пространственный, а временной смысл: «советский» – это значимый только для семидесятилетнего промежутка 1922–1991 гг., а «российский» – весомый в масштабе всей нашей многовековой истории.
Такова долговременная перспектива. Пока же слово «советский» в последний раз вспыхнуло в мифологическом сознании определенной части общества, чтобы неминуемо погаснуть навсегда. Давайте смотреть трезво: какова вероятность того, что наша страна снова начнет официально называться советской? Нулевая. А если все-таки пойдет на пространстве бывшего Союза процесс интеграции… Почему бы не помечтать о том, как через сколько-то десятилетий процветающие Россия, Украина и Беларусь захотят заключить новый союз, экономический или политический. Одно можно сказать точно: советским он именоваться не станет.
Нет будущего у этого прилагательного. А нынешняя ностальгия по советским временам – это болезненно-эмоциональный протест против ставшего нормой социального неравенства и бесправия, против беззастенчивой коррупции и рабского поклонения златому тельцу. Надо считаться с чувствами униженных и оскорбленных, но смотреть всем вместе стоит не в прошлое, а в грядущее.
Чисто лингвистически советую прилагательное «советский» в позитивном контексте заменять на «российский» и «отечественный». Можно еще говорить и писать не «советский народ», а «народ нашей страны». Это он одержал победу в войне с фашизмом, это он выстоял в страшных испытаниях советской эпохи. А по сути скажу, что не стоит путать истинные ценности с временными ярлыками.
СОВОК
Один из главных языковых концептов горбачевско-ельцинской эпохи. В своем жаргонно-политическом значении это слово активно поработало лет десять-пятнадцать, а сейчас, судя по всему, уходит на заслуженный отдых, перемещается в лексический фонд пассивного употребления.
Есть даже легенда о происхождении слова «совок»: дескать, один певец с друзьями, распивая спиртное на детской площадке, вместо стакана использовал забытый там совок. Эта дискомфортная ситуация и дала повод для того, чтобы в маленькой лопатке с закругленными краями узреть своеобразную эмблему советского строя.
С легендами не спорят, но все, конечно, не так просто. Собственно лингвистической предпосылкой здесь была модель сложносокращенных слов, начинавшихся на «сов-» (типа «совхоз»). К этому обрубку удачно приставился суффикс «ок», а в итоге получился всеобъемлющий символ: совком стали именовать и страну советов, и ее отдельного обывателя, мирящегося с ограниченным набором своих гражданских прав, и административно-командную систему управления экономикой, и социалистический способ распределения жизненных благ. В эпоху реформ «совками» стали называть тех, кто хочет жить по-старому, не желая «поступаться принципами», как забытые ныне Егор Лигачев и Нина Андреева. В бурной полемике перестроечной поры эмоциональное слово «совок» звучало, пожалуй, даже убедительнее, чем научно-публицистический термин «хомо (гомо) советикус».
Новый век и новое тысячелетие наша страна неожиданно встретила ностальгическими вздохами, оглядкой на советско-имперские идеалы. Вернулся старый гимн, реставрируется потихоньку однопартийная система. Некоторые кухонные вольнодумцы впадают в панику и со страхом говорят о «возвращении совка». Нет, в одну и ту же воду, как известно, войти невозможно. Водичка теперь перед нами и холодноватая, и грязноватая, но – другая. Не будем все сваливать на прошлое, как поступала коммунистическая идеология, огульно и нахально списывавшая все советские социальные беды на счет мифических «пережитков капитализма». Неразумно теперь все дурное трактовать как последствия и рецидивы пресловутого совка. Современные формы социального идиотизма нуждаются в новых и точных словесных обозначениях.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
У этого слова богатый спектр значений. И у него самого, и у сокращенной версии «спец…», которая может прицепиться буквально к любому слову и придать ему новый смысл. Это может быть знак секретности и государственной значимости: спецслужба, спецназ. Знак привилегированности: спецшкола, спецполиклиника. Знак производственного предназначения: спецодежда.
«Специальный» – значит особый, особенный, для чего-то исключительно предназначенный. Но из этого не следует обратное: «особый» и «особенный» отнюдь не всегда можно заменить на «специальный». А это у нас в последнее время часто делают – по аналогии с английским словом «special». В магазинах установят грошовую скидку и вывешивают плакат: «Специальное предложение!» Уместнее было бы: «особое предложение». Кстати, на Западе распродажи сопровождаются именно особенными, то есть радикальными снижениями цен. И уж совсем смешно выгладит титул: «специальный гость фестиваля». Дорогой гость – он, конечно же, особый.
Переводить английские слова на русский стоит все-таки по смыслу, а не по буквам и звукам, не по внешнему контуру.
СПОНСОР
Это английское слово живет сейчас в России даже вольготнее, чем у себя дома. За границей, может быть, спонсорства в целом и больше, чем у нас, но, понаблюдав за зарубежными коллегами и знакомыми, должен сказать: как-то у них с этим делом обстоит мрачно и занудно. Найти спонсора чрезвычайно трудно, приходится для этого писать множество бумаг, что-то там доказывать, потом тратить деньги осторожно и аккуратно, отчитываясь за каждый цент. А у нас само слово «спонсор» звучит сладко, как «халва», точнее – как «халява». Добудет человек спонсора – и кайфует напропалую. А что там с проектом – не так уж важно. Выпустили пилотный номер элитарного журнала, устроили фуршет – ну и ладушки! Основали издательство, а оно ничего не выпустило – так можно же отчитаться по образцу гоголевского городничего: дескать, церковь строилась, но сгорела. Много в России пожаров…
Теперь о собственно лингвистической стороне дела. Осторожнее со словарями! Они часто вступают друг с другом в непримиримое противоречие. Находим слово «спонсор» в последнем издании Ожегова: «лицо, организация, фирма, выступающие как поручитель, заказчик, устроитель, финансирующая сторона». Нормально, хотя и скучновато. А веселее будет, когда мы откроем «Большой словарь русского жаргона». Тут никакой официальщины: «богатый любовник, содержащий, материально поддерживающий девушку». Два русских языка – две системы понятий. Молодым дамам стоит быть внимательнее при употреблении конструкции «мой спонсор». Ведь что такое счастье, то бишь спонсор, – это каждый понимает по-своему.
СТЁБ
Это жаргонное слово вроде бы связано с шуткой и смехом, но звучит как-то невесело, даже мрачновато. Может быть потому, что в его основе лежит садистская метафора: «стебануть» значит «хлестнуть», «ударить». «Стёб» как идеологема – это новинка конца второй полоэины восьмидесятых годов. Тогда свободная пресса при помощи беспощадного стеба успешно сокрушала обветшавшие твердыни. В модном словечке слышалась и эротическая коннотация: «Хочу я всех мочалок застебать» – знаменитая строка Гребенщикова звучала и как соц-, и как сексреволюционная. Но шли годы, и стеб как таковой притуплялся, а само слово постепенно делалось обозначением тотально-иронического, надсадно-болезненного насмешничества, лишенного свежести, парадоксальности, юмористической новизны и изобретательности.
Как эстетический термин «стёб» теснейшим образом связан с понятием постмодернизма. Надеюсь, все в курсе, что время постмодернизма окончательно миновало? Это уже пошлость и моветон – пародийное обстебывание классики, дохлое и монотонное глумление над всем и всеми. Так и хочется пропеть, слегка перефразируя слова Евтушенко: «Стёб устарел – говорит кое-кто, смеясь». Смеясь над уныло-однообразными и отставшими от жизни «стёбщиками» невеселой эпохи.