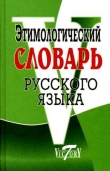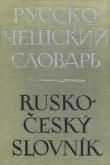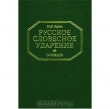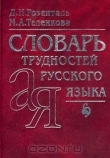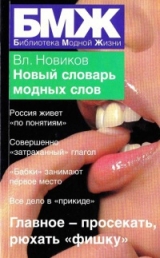
Текст книги "Новый словарь модных слов"
Автор книги: Владимир Новиков
Жанры:
Словари
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
«глянец, блеск» плюс «амур». И ничего более! Да, «шик, блеск, красота!» Да, «сделайте нам красиво!» Но ведь нашим соотечественникам, а особенно соотечественницам так всего этого не хватало! Жизнь целого поколения прошла в борьбе за тушь для ресниц, тени для век, импортные кофточки и лифчики. Даже идейной свободы было больше, чем свободы в выборе любимых цветов, фасонов и духов! Мудрено ли, что пришло время отвести душу и оторваться по полной?
Гламур – это эстетика материально-телесной культуры. В каких отношениях находится эта сфера с культурой духовной – вопрос особый. Но ясно одно: духовность не может существовать вне материальной оболочки. Особенно в случае с лучшей половиной человечества. Когда мы случайно видим туалетный столик в дамском будуаре (в реальности чаще – полочку в ванной комнате) – перед нами предстает маленький предметно-интимный мир, дающий представление о его обладательнице. Так ли уж вам нужно, чтобы на этом столике лежала еще и книга стихов Бродского? Так ли уж мы настаиваем, чтобы и здесь была представлена так называемая духовность? Впрочем, на туалетном столике вполне уместен был бы томик стихов Игоря Северянина – единственного в своем роде гламурного поэта, работавшего порой на грани китча, но сумевшего показать телесную роскошь и внешний блеск как форму существования духа.
ГОЛИМЫЙ
Прилагательное, неожиданно ставшее молодежным и с конца девяностых годов включаемое в словари жаргона. А лет сорок-пятьдесят назад это слово имело скорее диалектную окраску. В Сибири, где я провел детство, простые люди говорили о пересоленной еде: «Голимая соль!» Заглянем в многотомный Словарь современного русского литературного языка – и найдем там «голимый» с пометой «обл.» и с примерами исключительно из сибирских писателей. У Залыгина в повести «На Иртыше» герои жалуются на «голимую бедность», а в народном бестселлере Анатолия Иванова «Вечный зов» кто-то изрекает: «Это ить чудо голимое». По сути в том же значении «достигший предела, полный, абсолютный» слово «голимый» переехало из деревни в город и там омолодилось. «Голимая шиза!» – доносится теперь из юных уст.
В жаргонном качестве «голимый» может также означать «глупый», «дрянной, никуда не годный». «Мне голимо» – это «мне плохо». Допускается написание «галимый», что отнюдь не означает корневой связи с «галиматьей». Вообще случай занятный. Не хватает молодежи ругательных эпитетов, вот и приходится перенимать их аж у сибирских крестьян!
ГОЛУБОЙ
Традиционный поэтический эпитет и вместе с тем обозначение нетрадиционной сексуальной ориентации (по поводу которой мы, блюдя политкорректность, не высказываем никаких оценочных суждений). В повседневной речи этим двум смыслам удается не сталкиваться, ехать по разным полосам. Но вот при чтении классики иной раз можно испытать оторопь. В поэтической драме Блока «Незнакомка» есть персонаж по имени Голубой – мистический двойник Поэта. Он ведет себя странновато и на предложение Незнакомки обнять ее отвечает: «Я коснуться не смею тебя». Как прикажете понимать? Конечно же, Блок не ведал о том значении слова «голубой», которое потом пришло из жаргона. Но вся атмосфера серебряного века была весьма гомоэротична, говоря нынешним языком – бисексуальна, да и Блока современники запросто называли «андрогином». Есть о чем задуматься комментаторам, готовящим издания поэта для современных читателей.
В 1957 году Окуджава еще мог закончить песню строкой «А шарик вернулся, а он голубой». У нынешнего стихотворца, думается, язык уже не повернулся бы вымолвить нечто подобное. Назовем ли мы сегодня ходульного положительного персонажа из телесериала «голубым героем»? Фигурирует ли еще в театральном обиходе выражение «голубая роль»? Пожалуй, нет, этих сочетаний избегают, чтобы не вызвать недоразумений.
В английском языке прилагательное «gay» уже не рекомендуется употреблять в изначальном значении «веселый». Что же будет с нашим «голубым»? Слетать бы на машине времени лет на сто вперед и узнать, как потомки разрешат это языковое противоречие…
ГРУЗИТЬ
Когда был изобретен робот, возникли страхи: не победит ли он «натурального» человека, не станем ли мы все роботами? Вроде бы человечество уцелело. Новые опасения внушает теперь тотальная компьютеризация: мы то и дело сравниваем свой внутренний мир с техническим устройством и начинаем сомневаться в неисчерпаемости нашего сознания. Неужели у нас теперь вместо сердца не «пламенный мотор», как пелось в советской песне, а твердый диск, не способный уже вмещать поступающие со всех сторон вести о людских бедах и страданиях. Становится неприличным делиться с собеседником своими проблемами – это теперь называется осуждающим словечком «грузить». И о серьезных фильмах тоже говорят: «слишком грузит». А многие ли сегодня в состоянии воспринимать Достоевского, который каждого читателя загружает гигабайтами самых глобальных, «проклятых» вопросов?
Будем надеяться на лучшее. На то, что жизнь как-то наладится, что мы подобреем друг к другу. И в ответ на наши исповеди и жалобы услышим от своих близких не раздраженное: «Не грузи!», а участливо-сочувственное: «Не грусти!»
Д
ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕДЬМОЙ (ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЬМОЙ… и т. д.)
Название текущего года не могут правильно произнести сегодня даже министр культуры и министр образования РФ. Оба эти государственных мужа в своих радио– и телевизионных интервью упорно именуют нынешний год «двухтыщеседьмым», демонстрируя тем самым свою глубинную связь с народом, но безбожно искажая языковую норму. Надо честно признать: склонение сложных и составных числительных в русском языке – это нелегкое дело, тут, как говорится, сам черт ногу сломит. Но что поделаешь? Пересмотреть норму? Не получается: нет ни малейших лингвистических оснований для того, чтобы узаконить это «двухтыще…». Если человечество просуществует еще пару тысячелетий, то в самом светлом будущем носители русского языка поздравят Друг друга с четыре тысячи восьмым годом – и никак иначе!
Однако в разговорной речи возможно одно упрощение и облегчение. Обратимся к опыту предков и, в частности, к Пушкину. Вспомним, что Онегин нашел в шкафу своего покойного дяди «календарь осьмого года», то есть роспись чинов Российской империи на 1808 год. А век спустя люди говорили о революции «пятого года», не уточняя всякий раз, что «тысяча девятьсот». 2005 год, слава богу, обошелся без революций, но и его мы имеем право непринужденно именовать просто «пятым», Кто-то скажет: в пятом году умер папа Иоанн Павел Второй. А кто-то вспомнит, что в пятом году команда ЦСКА завоевала Кубок УЕФА. Потом, может быть, начнем говорить: в девятом году зима холоднее, чем в восьмом. И далее везде, лишь подразумевая «две тысячи», мысленно вынося их за скобки.
Что же касается министров, думских депутатов и прочих «випов», то им в публичной речи придется все-таки держаться строгой нормы, какой громоздкой бы она ни казалась. Уважающий себя политик должен, думая о выборах две тысячи такого-то года, правильно произносить это словосочетание. А то мы возьмем да и лишим своего доверия тех, кто по-русски говорит с ошибками!
ДИСКУРС
Это модное слово понимают далеко не все, кто его употребляет в собственном письменном и устном дискурсе. То есть в собственной речи, поскольку «discours» по-французски – «речь». И лингвистический термин «дискурс» ввел в науку француз – Эмиль Бенвенист. Под ним он имел в виду «речь, присвоенную говорящим». Не очень понятно? Ладно, вот вам самое, на мой взгляд, внятное из словарных определений термина, данное в «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина: «речь в совокупности с условиями ее осуществления».
Поясним простеньким примером. Возьмем фразу из букваря: «Мама мыла раму». С лингвистической точки зрения здесь сказать особенно нечего: предложение простое, «мама» – подлежащее, «мыла» – сказуемое, «раму» – дополнение. Но мы можем начать задавать посторонние вопросы: кто произнес эту фразу – сын или дочь? Почему мама мыла раму сама, а не поручила домработнице? Из таких вопросов и ответов на них складывается то смысловое поле, которое в современной филологии называется дискурсом.
Кто-то скажет: а зачем вы, филологи, выходите за пределы своего предмета? Разобрали бы предложение по членам – и дело с концом. Но как можно запретить науке быть любопытной и лезть не в свое дело? Хочется нам знать, как выглядит мама, которая мыла раму. Может быть, это такая очаровательная женщина, что встреча с ней ценнее любого грамматического разбора. Многие неожиданные открытия совершаются там, где наука выходит за «флажки», за границы существующей познавательной системы.
В сущности можно прожить жизнь, так и не узнав, что такое «дискурс» и никогда не пользуясь этим термином. Но если уж вы включили мудреное слово в свой лексикон, то надо решить, как его произносить, с каким ударением. В этом вопросе филологи делятся на две группы, подобно «остроконечникам» и «тупоконечникам» у Свифта. Одни делают ударение на первом слоге, другие – на втором. Эту ситуацию шутливо описал в своих стихах Тимур Кибиров, поэт с филологической жилкой:
Мы говорим не дИскурс, а дискУрс!
И фраерА, не знающие фени,
трепещут и тушуются мгновенно,
и глохнет самый наглый балагур!
Здесь обыгрывается строка из «морской» песни Высоцкого: «Мы говорим не штОрмы, а штормА…»
То есть у филологов, как и у матросов, свой жаргон, своя научная «феня». И ударение на втором слоге слова «дискурс», на французский манер – особенный профессиональный шик. А некоторые говорят «дИскурс», следуя англоязычной традиции. С нормативной точки зрения эти варианты равноправны.
Эффектное слово «дискурс» часто становится предметом квазинаучных спекуляций. Это заметил чуткий к веяниям времени писатель Виктор Пелевин. В романе «Ампир В» есть такой едкий пассаж: «Я часто слышал термины „гламур“ и „дискурс”, но представлял их значение смутно: считал, что „дискурс” – это что-то умное и непонятное, а „гламур” – что-то шикарное и дорогое. Еще эти слова казались мне похожими на названия тюремных карточных игр. Как выяснилось, последнее было довольно близко к истине».
Остроумно. Но как бы то ни было, мода на слово «дискурс» не проходит.
ДОВЛЕТЬ
Этот глагол употреблять в речи никому не советую, поскольку правильно, «по делу» его использовать практически невозможно. Разве что в составе цитаты из Евангелия от Матфея: «Довлеет дневи злоба его» (то есть: «Довольно дню его забот»). Но стоит сказануть такое – и собеседники подумают, что вы столетний долгожитель, что церковнославянским языком вы блестяще овладели еще в дореволюционной гимназии.
Семьдесят с лишним лет назад Ушаков в своем словаре объяснял «довлеть» единственным способом – «быть достаточным, удовлетворять» и объявлял неправильным появившееся тогда употребление этого слова в значении «тяготеть, преобладать, господствовать». На той же позиции до конца своих дней стоял и Ожегов. Но наши забитые соотечественники все чаще и чаще жаловались: «над нами довлеет начальство» – и далее в том же духе. Составители некоторых новейших словарей напрасно дают зеленый свет подобной профанации замечательного русского глагола, который надо просто поставить на полку, как драгоценную вазу, и, не прикасаясь, любоваться им.
Против неразличения слов «давить» и «довлеть» незадолго до своей кончины выступил замечательный питерский филолог А.М. Панченко. Услышав, как бывший губернатор Руцкой говорит: «Надо мной никто не довлел», Панченко сильно огорчился и предложил свой способ лингвистического ликбеза:: «„Довлеть” в родстве со словом „довольно”. Вот если бы мы с ним сели с бутылкой и закуской, я бы ему сказал: „Руцкой, довлеет тебе 100 грамм?“ Он бы ответил: „Нет, не довлеет. Мне довлеет 150!“ Ну и отлично. Вот и научился бы…»
ДОСВИДОС
Новая форма прощания. Очередная смесь иностранного «с нижегородским» – только на этот раз не французского, а испанского. Окончание «ос», присобаченное к усеченному «до свидания», – явный намек на язык Сервантеса и Сальвадора Дали, недаром иногда в чатах и форумах мелькает сочетание «досвидос амигос». Конечно, это слово-однодневка, временная утеха юных «юзеров» языка. Играть и баловаться не запрещено, а значит, разрешено.
Слова ежедневного этикета часто надоедают нам, и хочется как-то их переиначить. Хотя бы вместо «Добрый день!» произнести «День добрый!» – и то уже какая-то оригинальность. Молодые люди всех времен выпендривались при прощании. Онегин, как вы, наверное, помните, мог «в конце письма поставить vale», то есть щегольнуть латинским глаголом. Да и сам автор великого романа в стихах – тоже ведь молодой был! – норовил блеснуть не расхожим французским «оревуаром», а экзотичным в ту пору «Farewell», заимствованным у Байрона. И в дальнейшем сохранялась мода на импортные ритуальные формулы, а также шутливые переделки традиционных русских выражений – типа «Почему досви-Дания, а не досви-Швеция?» у Куприна. Сколько мы напридумывали всяческих «чао-какао»! Вот и «досвидос» из этого ряда. Не первое и не последнее изобретение.
ДОСТАТОЧНО
Как и все на свете, наша речь подчиняется моде. В последнее время подчеркнуто модным сделалось употребления наречия «достаточно» в значении «довольно, вполне». Иногда это способствует точности и ответственности словесной формулировки. «Фильм довольно интересный» – звучит расплывчато и субъективно. Если же нам скажут: «Фильм достаточно интересный», то, значит, стоит потратить время и деньги на посещение кинотеатра, стоит приобрести или взять напрокат видеокассету.
Но, как модная одежда может оказаться не к лицу ее носителю, так и модное словцо иногда вопиюще дисгармонирует с контекстом. Не стоит говорить: «У меня достаточно мало денег», – собеседник не поймет: мало или все-таки достаточно? Или вот пример из речи с высокой политической трибуны: «Число жертв этого террористического акта оказалось для нас достаточно велико». Лучше было бы просто сказать: «очень велико», чтобы не создавать крайне нежелательную двусмысленность: кто-то может ненароком, подумать, что говорящий был заинтересован в теракте.
ДОСТАТЬ
Нормальное было слово, спокойное и незаметное. Подчеркнутое значение приобрело оно в советское время, в условиях тотального дефицита. Просто купить что-нибудь было тогда почти невозможно. Мебель, одежду и обувь, колбасу и книги – все это надо было доставать. Используя служебное положение и приятельские связи, умея оказаться в нужном магазине в нужное время. Тех, кто виртуозно владел этим искусством, называли «доставалами». Было еще и шутливое прозвище – Достаевский (через «а»). То есть человек, который всё умеет достать, в том числе и сверхдефицитную подписку на собрание сочинений Достоевского в тридцати томах.
Наступила рыночная эпоха. И автомобиль, и колбасу, и самую интересную книгу – всё это теперь можно просто купить за деньги. Если таковые имеются. Но жизнь стала очень напряженной и нервной. Люди часто обижаются друг на друга, и глагол «доставать» приобрел значение «донимать, изводить». «Ну, ты меня достал!» – говорят в конфликтных ситуациях, порой с добавлением крепкого словца.
Наверное, и это значение постепенно выветрится. Научимся мы жить в атмосфере конкурентной борьбы, перестанем удивляться тому, что нас то и дело кто-то «достает». Но иногда думаю о том, что этот многозначный глагол может зазвучать по-новому, и притом в хорошем смысле. Я имею в виду художественную литературу и ее отношения с читателями. Большинство людей теперь все чаще потребляет детективы да любовно-сентиментальные романы, а элитарной словесности простые люди чураются как черт ладана. Не трогает она их, не «достает» эмоционально. Как бы нынешним серьезным литераторам перенять у Достоевского хоть чуточку его умения сочетать философскую глубину с детективной напряженностью сюжета, с пронзительной сентиментальностью… Чтобы читатель современного романа, дойдя до финала, мог дрогнувшим голосом сказать: «Достала меня эта книга!»
ДОСТИГЛО
Это слово становится все более неуместным в сообщениях о количестве жертв катастроф и террористических актов. Чисто лингвистически здесь придраться не к чему: одно из значений глагола «достигнуть» («достичь») – дойти до какого-нибудь предела (например: «холод достиг тридцати градусов»). Но в последнее время наши общие беды дошли до такого предела, за которым уже сам русский язык начинает бастовать. Отзвук положительного значения слова «достигнуть» («приобрести своими усилиями, добиться») вносит некоторый диссонанс в речь трагическую по своей информационной сути. Тут уже чувство такта должно подсказать другой синоним: «дошло», «возросло», «увеличилось».
У немцев есть понятие «Trauerarbeit» (буквально: «траурная работа»), то есть психологическое преодоление шока, вызванного потерей близких. Все больше подобной работы выпадает теперь на долю журналистов. И у этого скорбного труда есть свои неписаные правила: предельная скупость и строгость в выборе словесных средств, сдержанность интонации (поменьше восходящих тонов), пониженный тембра голоса. Выходя один на один с большой трагедией, говорящий и пишущий просто обязан на какое-то время забыть о себе самом и о своей речевой индивидуальности.
ДРАЙВ
В документальном телефильме запечатлен разговор Иосифа Бродского с Евгением Рейном. Рейн разбирает стихи друга и похваливает их: «Здесь такой драйв!» Бродский ему не перечит и, улыбаясь, напоминает, что это он сам впервые употребил слово «драйв» применительно к поэзии.
С тех пор «драйв» широко внедрился в русскую речь и сделался таким же многозначным, как английское «drive». Буквальное значение «езда, катание» у нас не привилось. Не говорим мы: какой же русский не любит быстрого драйва! Зато по богатству метафорических значений наш «драйв» ничуть не уступает иноязычному собрату. Напор, энергия, возбуждение, сильная эмоция, мощность, стимул, порыв – все это теперь «драйв». Есть у слова и ряд конкретно-специальных значений. «Драйвом» именуют нарастающий темп в джазе, низкий и плоский удар в теннисе, а также наркотическое удовольствие: «подсесть» можно что на «драйв», что на «кайф». Этого, впрочем, делать не надо.
Продвижению «драйва» в русский язык способствует технический прогресс. Даже сугубый гуманитарий и безнадежный «чайник» знает, что в его персональном компьютере имеются «драйверы», а специалисты небрежно употребляют этот термин с жаргонным окончанием и ударением: «драйверА». Молодые пижоны на английский манер называют «драйвером» шофера, водителя. В общем, «драйв» понемногу окапывается в наших широтах. Но, полагаю, место ему только в разговорной речи.
Вполне естественно для музыкантов и поэтов в неформальном разговоре обмениваться мнениями о том, имеется ли драйв в том или ином произведении. Языку всегда нужны новые синонимы для старых и вечных смыслов. Вот мы читаем или слушаем нечто занудное и тягомотное. Не скажешь же приятелю в академическом стиле: мне в этом опусе недостает композиционной динамики. Нужно какое-то живое, незатасканное словечко.
Твардовский так характеризовал вялые стихи: «Как говорит старик Маршак: – Голубчик, мало тяги!» А сегодня можно срезать слабого сочинителя беспощадным приговором: «Мало драйва!» Для строгой письменной рецензии, однако, это не подойдет.
И вообще: не стоит слишком эксплуатировать модное словцо и тем самым его обесценивать. Пусть оно лежит в вашем речевом кошельке на всякий случай: авось пригодится.
Е
ЕМЕЛЯ
Русская шутливо-жаргонная версия английского слова «е-mail» (как и «мыло»). Употребляется и в уменьшительно-ласкательной форме «емелька».
Всемирная электронная почта окончательно укрепила глобальный статус английского языка. Этому продолжают сопротивляться только французы, решившие заменить чуждый «е-mail» специально изобретенным национальным термином «courriel» (courier + electronique). Может быть, сия кабинетная выдумка и закрепится в их языке, но в целом «франкофония» неизбежно пасует перед «англофонией». Сужу по новому поколению: приходишь в парижскую булочную, запрашиваешь, натужно артикулируя, «une petite baguette», а юная продавщица, распознав иностранца, кокетливо переспрашивает: «А small one?» Так что лингвистическое Ватерлоо, не при французах будь сказано, уже состоялось.
У России же в освоении чужих языков всегда был свой, лукаво-хитроватый путь. Русский человек, услышав непонятное слово, наивно переспросит: «Ась?», а потом вроде даже повторит его, но в таком виде, что родная мать не узнает. Еще с петровских времен мы так переименовывали всех иностранцев. Гамильтон? Значит, будешь Хомутов. Коос фон Дален? Я и говорю: Козодавлев. Чо, не так? Ну, извините, мы люди простые. В 1812 году и с французской речью наш народец так же сладил. Ему говорят: «cher ami» – и он тут же выдает: «шерамыжник». Исторический опыт пригодился много лет спустя, когда нас опутала всемирная электронная паутина. Мы не против «имейла», мы его так и называем: емеля. Согласитесь, в подобной переделке есть нечто от лесковских словечек «мелкоскоп» и «тугамент».
Молодежно-компьютерный жаргон насчитывает уже десятки слов-терминов. Без большинства из них мы можем легко обойтись. Зачем мне, скажем, говорить «мама» в значении «материнская плата»? Да я понятия не имею, где находится эта штуковина, пусть с ней мастер по ремонту разбирается. А вот электронные послания мы получаем каждый день.
И все, что пишем для печати, посылаем в редакции и издательства, «приаттачив» к соответствующей емеле.
Одно только смущает. «Емеля» содержит тревожную коннотацию, связанную с одноименным сказочным персонажем, который все время лежит на печи. Отправишь важное для себя письмо, и придется долго-долго ждать ответа – до тех пор, пока наконец вечный российский Емеля вместе с печкой не сдвинется с места. По щучьему веленью.
Ж
ЖЕСТЬ
«Жесткость», «жестокость», «тяжесть», «жизнь-жистянка» – всё это соединилось в единый речевой жест. Имя ему – «Жесть!» Это скорее эмоциональное междометие, чем существительное с определенным значением. В жаргонном слове – признание жестокости нормой жизни, добровольное подчинение волчьим законам нашего дикого капитализма. Так был назван кинофильм о «крутых разборках» (полтора десятилетия назад подобный жанр и стиль именовался «чернухой»). Появился в Москве и клуб «Жесть». Перед нами мрачноватый символ 2000-х годов, антоним и интеллигентской «духовности», и буржуазного «гламура».
Грубость молодежного жаргона – это всегда защитная реакция. За словом «жесть» стоит не железная сила, а истерическая слабость. Все-таки не совсем случайна связь с буквальным значением слова «жесть»: «тонкая листовая сталь». Из жести делают консервные банки, которые легко проткнуть. Иногда, вскрывая банку хорошим стальным ножом, мы даже испытываем неудобство и раздражение оттого, что жесть слишком мягка. Так и новомодное словечко «жесть» – хиловато оно, худосочно. Долго не протянет.
ЖОПА
Слово многозначное и многострадальное. Трудно даже сказать, сколько веков томилось оно в заточении. Всего лишь пятнадцать лет назад оно получило в нашей стране права гражданства, когда в реформированном издании словаря С.И. Ожегова, (соавтором которого стала Н.Ю.Шведова), появились ошеломляющие строки: «ЖОПА, – ы, ж. (прост, груб.) То же, что ягодицы, //уменш. жопка, – и, ж. и жопочка, – и, ж.»
Предъявляю сию словарную запись как своего рода паспорт героини этой статьи. Да, она существует, о ней можно открыто говорить и писать, называя по имени. А ведь такой возможности не имели русские поэты, так любившие ее рифмовать со словом «Европа»! Все стихи с этой глобально-исторической рифмой были обречены на существование в «самиздате», а в собраниях сочинений Пушкина и в царское, и в советское время бедняжка стыдливо заменялась «азбукой Морзе», то есть точками или тире.
«Пристал, как банный лист», – говорим мы иной раз, не задумываясь: а к какой, собственно, части тела банный лист чаще всего пристает? Да, именно к ней. И Владимир Иванович Даль зафиксировал это народное речение в полном виде, включив его в словарную статью «Жопа». Любопытно, что определение дано здесь не без юмора: «задница: та часть тела, которая во Франции свободна от телесного наказания». Остроумие великого лексикографа, однако, оценить могли немногие, поскольку единственное издание знаменитого словарь без купюр (после смерти автора, под редакцией Бодуэна де Куртенэ) было большой редкостью.
Официальная культура постоянно боролась с «жопой», а культура народная норовила ее всем показать. Это видно даже в детском фольклоре, где вместо пресной запевки: «Здравствуй, дедушка Мороз!» родилось бесшабашное «Здравствуй, жопа Новый год!»
Грандиозный скандал разгорелся в 1971 году, когда в русском переводе вышел роман Ивлина Во «Пригоршня праха». Там есть сцена, где конюший поучает маленького аристократа, свалившегося с пони: «Просто ты распустил ноги, едри их в корень, и сел на жопу». Так и было напечатало, без точек, черным по белому. Начальство озверело и крепко всыпало издателям по тому самому месту. А высококлассную переводчицу надолго лишили работы. Вот какой ценой приходилось платить за правду жизни и верность оригиналу!
Но все это в прошлом, а сейчас вышедшая на свободу «жопа» не так уж часто используется в речи для обозначения соответствующей части тела. Для этого подойдут и «задница», и «попка», а в контексте медико-анатомическом – «ягодицы». Нет, это сейчас вырывается как вопль души, как выражение полного отчаяния: «Ну, жопа!» Или: «Ну, полная жопа!» Так выругается человек, оказавшийся в провале, в осаде, в безнадежном положении.
Нередко так восклицаем мы и во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей родины. Когда-то Россия претендовала на то, чтобы стать Третьим Римом, развернувшимся на просторах Евразии. Но не Евразия у нас получилась, вывернулось все наизнанку и вышла – «Азиопа», как острят некоторые интеллектуалы. И в этом ироническом словечке, конечно же, проступают округлые очертания ее, родимой. Той, в которой еще долго суждено нам пребывать.
ЖЮРИ
Это слово можно назвать послом французского языка в России, ибо только в нем, согласно орфоэпической норме, полагается смягчать «ж» – так, как это делают парижане. У нас даже имя писателя Жюля Верна разрешается произносить двояко – с мягким и с твердым шипящим звуком («Жюль» и «Жуль»), а вот по поводу «жюри» авторитетные словари строго предупреждают: «не жу».
Но послушаем радио– и тележурналистов, почти каждый день извещающих нас о результатах каких-нибудь конкурсов и фестивалей. В их речи неправильное «жури» то и дело берет верх. Может быть, пора изменить норму, привести ее в соответствие с реальностью? В 2000 году мне довелось обсудить этот вопрос в беседе с крупнейшим отечественным языковедом Михаилом Викторовичем Пановым (1920–2001). Панов был в филологии отважным новатором, если угодно – научным авангардистом. Еще в 1964 году он предлагал довольно радикальные поправки к русской орфографии, напугавшие тогда некомпетентную публику. А в вопросах произношения он часто сохранял верность старине: так, мягкость “ж” в слове «жюри», по его мнению, следует законсервировать: наше произношение непрерывно изменяется, но специально торопить эти изменения не стоит.
И потом согласитесь: «жури» звучит как-то некрасиво, по-плебейски, а «жюри» – так аристократично, утонченно. «Жури» – это из речи человека толпы, который только и может что пассивно озвучить решение какого-нибудь жюри (да еще исказив по невежеству имена лауреатов). Человек же, произносящий «жюри» с по-старинному, – это эксперт, знаток. Решение любого жюри он прокомментирует в высшей степени профессионально, а порой может и предсказать. Да он и сам не раз бывал членом весьма солидных жюри.
З
ЗАЖИГАТЬ
«Послушайте! Ведь если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?». Пожалуй, это самая популярная цитата из Маяковского. И, согласно дальнейшему тексту легендарного стихотворения, звезды зажигает своей «жилистой рукой» не кто иной, как Бог.
А теперь нас потчуют телевизионной программой под названием «Звезды зажигают». Речь там идет о том, как звезды шоу-бизнеса развлекаются, кутят, скандалят. Такое жаргонное значение появилось у старого глагола.
Появилось – значит, это кому-нибудь нужно. Молодежи нужно сбросить избыточную энергию, потусоваться на шумных дискотеках, среди нервных сполохов пронзительного электрического света, который теперь жаргонно называют «автогеном». «Богатеньким буратинам» нужно избавиться от лишних денег. Тоже ведь проблема. Налоги в нашей стране умеренные, возможности разумного инвестирования капиталов невелики, стабильность и безопасность гарантированы чисто риторически. Когда-то российские купчики в преддверии и предчувствии революционных бурь спускали нажитое, разбивая дорогие зеркала в ресторанах и купая дамочек в шампанском. Тогда это называлось «прожигать жизнь». «Зажигать» – слово того же корня.
Способы «зажигания» разнообразны. Разогнать бешеную скорость на дорогом «Феррари» и тупо разбить его о парапет набережной в Каннах. Привезти на альпийский курорт батальон из русских красавиц и схлопотать оскорбительный привод во французскую полицию по подозрению в сутенерстве. В день рождения малолетнего наследника нанять известную примадонну, чтобы она с деланной улыбкой на лице пропела «Happy birthday to you!» будущему шалопаю и наркоману. Или даже пригласить на вечеринку за сколько-то миллионов «зелеными» певца типа Джорджа Майкла.
«Зажигают» люди. Их деньги, их власть. Морализировать тут наивно. Но чисто филологически можно посмотреть и на слово, и на обозначаемый им процесс с точки зрения вечности. Долго ли продержится в русском языке такое значение глагола «зажигать»? Нет, конечно. В обозримом времени забудут люди и словечко, и имена активных «зажи-гателей». Никто не станет перечитывать светские хроники наших лет. Забудут и Майкла Джорджа – простите, Джорджа Майкла, и того, кто щедро тратился на него.
Были, были когда-то в России бизнесмены другого склада. Разбирались в искусстве. Ни за что не заказали бы портрет Александру Шилову. В дом, где висят картины Никаса Сафронова, они бы ногой не ступили. Зато без чужой подсказки оценили и русских передвижников, и французских импрессионистов. Поддержали их, говорили с ними на равных. Павел Третьяков зажег звезды Крамского и Верещагина. Сергей Щукин зажег звезду Матисса. Зажгли на века…
И
Имидж
Слово-космополит, надежно укоренившееся в русском языке. В первый раз латинское «imago», означающее «образ, вид», пробовало к нам въехать с французским паспортом и под именем «имаж». В начале двадцатых годов существовала группа по-этов-имажинистов, сделавших ставку на самоцельную и ошеломляющую образность. Входил в эту компанию Есенин, чью причастность к имажинизму можно доказать такими, например, неотразимыми строками: «Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать».