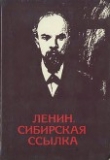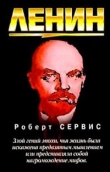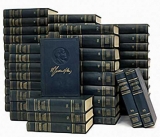
Текст книги "ПСС том 20"
Автор книги: Владимир Ленин
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
142 В. И. ЛЕНИН
освобождение масс от гнета и произвола нигде и никогда на свете не достигалось не чем иным, кроме как самостоятельной, геройской, сознательной борьбой самих этих масс.
Революция 1905 года только надломила, но не уничтожила самодержавие. Оно мстит теперь народу. Помещичья Дума еще сильнее гнетет и давит. Недовольство и возмущение опять растут повсюду. За первым шагом будет второй. За началом борьбы будет продолжение. За революцией 1905 года идет новая, вторая революция. Об ней напоминает, к ней зовет юбилей падения крепостного права.
Нам нужно «второе 19-ое февраля», хныкают либералы. Неправда. Так говорят лишь буржуазные трусы. Второе «19-ое февраля» невозможно после 1905 года. Нельзя «освобождать сверху» народ, который научился (и учится– на опыте помещичьей, III Думы учится) бороться снизу. Нельзя «освобождать сверху» народ, во главе которого хоть раз выступал революционный пролетариат.
Черносотенцы понимают это и потому боятся юбилея 1861 года. «61-ый год, – писал верный сторожевой пес царской черной сотни, Меньшикову газете «Новое Время», – 61-ый год не сумел предупредить девятьсот пятого».
Черносотенная Дума и бешенство царского правительства в преследовании его врагов не предупреждает, а ускоряет новую революцию. Тяжелый опыт 1908– 1910 годов учит народ новой борьбе. За летними (1910 года) стачками рабочих начались зимние стачки студентов. Новая борьба нарастает, – может быть, медленнее, чем мы бы хотели, но верно, неизбежно нарастает.
Революционная социал-демократия, очищая себя от маловеров, отвернувшихся от революции и нелегальной партии рабочего класса, собирает свои ряды и сплачивается для грядущих великих битв.
«Рабочая Газета» № 3, Печатается по тексту
8 (21) февраля 1911 г. «Рабочей Газеты»
143
ПАВЕЛ ЗИНГЕР
УМЕР 18 (31) ЯНВАРЯ 1911 г.
5-го февраля текущего года немецкая социал-демократия хоронила одного из старейших своих вождей, Павла Зингера. Все рабочее население Берлина – многие сотни тысяч – по призыву партии явились на похоронное шествие, пришли почтить память того, кто отдал все свои силы, всю свою жизнь на служение делу освобождения рабочего класса. Никогда трехмиллионный Берлин не видал такого скопления народу: не менее миллиона человек были участниками и зрителями шествия. Никогда ни один из сильных мира сего не удостаивался таких похорон. Можно приказать десяткам тысяч солдат выстроиться по улицам при проводах праха какого-нибудь короля или знаменитого избиениями внешних и внутренних врагов генерала, но нельзя поднять население громадного города, если в сердцах всей миллионной трудящейся массы нет горячей привязанности к своемувождю, к делу революционнойборьбы самой этой массы против гнета правительства и буржуазии.
Павел Зингер сам принадлежал к буржуазии, происходил из купеческой семьи, довольно долго был богатым фабрикантом. Он примыкал, в начале своей политической деятельности, к буржуазной демократии. Но в отличие от массы буржуазных демократов и либералов, забывающих очень быстро свою любовь к свободе из-за страха перед успехами рабочего движения, Зингер был горячим, искренним, до конца последовательным
144 В. И. ЛЕНИН
и бесстрашным демократом. Колебания, трусость, измены буржуазной демократии не увлекали его, а вызывали в нем отпор, создавали все более твердое убеждение в том, что только партия революционного рабочего класса способна довести до конца великую борьбу за свободу.
В 60-х годах прошлого века, когда немецкая либеральная буржуазия трусливо отворачивалась от нараставшей в Германии революции, торгуясь с правительством помещиков, примиряясь с королевским всевластием, Зингер решительно повернул к социализму. В 1870 г., когда вся буржуазия была опьянена победами над Францией и когда широкие массы населения дали увлечь себя подлой, человеконенавистнической, «либеральной» проповеди национализма и шовинизма, Зингер подписал протест против отнятия у Франции Эльзаса и Лотарингии. В 1878 году, когда буржуазия помогала реакционному, помещичьему («юнкерскому», как говорят немцы) министру Бисмарку провести исключительный закон против социалистов, распустить рабочие союзы, закрыть рабочие газеты, обрушить тысячи преследований на сознательный пролетариат, – Зингер окончательно вошел в социал-демократическую партию.
И с тех пор история жизни Зингера неразрывно связана с историей Германской с.-д. рабочей партии. Он беззаветно отдался трудному делу революционного строительства. Он отдал партии все свои силы, все свое богатство, все свои недюжинные организаторские способности, все таланты практика и руководителя. Зингер был из числа тех немногих – можно сказать: из числа тех исключительно редких выходцев из буржуазии, которых долгая история либерализма, история измен, трусости, сделок с правительством, угодничества буржуазных политиканов не расслабляет, не развращает, а закаляет,превращает в революционеровдо мозга костей. Редки такиевыходцы из буржуазии, примыкающие к социализму, и толькотаким редким, долголетней борьбой искушенным, людям должен доверять пролетариат, если он хочет выковать себе рабочую
ПАВЕЛ ЗИНГЕР 145
партию, способную ниспровергнуть современное буржуазное рабство. Зингер был беспощадным врагом оппортунизма в рядах немецкой рабочей партии и до конца дней своих оставался непоколебимо верен непримиримой, революционно-социал-демократической политике.
Зингер не был ни теоретиком, ни публицистом, ни блестящим оратором. Он был прежде всего и больше всего практиком-организатором нелегальнойпартии во время исключительного закона, гласным городской (Берлинской) думы и парламентарием после отмены этого закона. И этот практик, у которого большая часть времени уходила на мелкую, будничную, технически-парламентскую и всяческую «деловую» работу, был велик тем, что он не делал себе кумира из мелочей, не поддавался столь обычному и столь пошлому стремлению отмахиваться от резкой и принципиальной борьбы во имя якобы этой «деловой» или «положительной» работы. Напротив, Зингер, всю жизнь посвятивший этой работе, всякий раз, когда вставал вопрос о коренном характере революционной партии рабочего класса, о конечных целях ее, о блоках (союзах) с буржуазией, об уступках монархизму и т. д., – всегда был во главе самых твердых и самых решительных борцов со всеми проявлениями оппортунизма. Во время исключительного закона против социалистов Зингер вместе с Энгельсом, Либкнехтом и Бебелем боролся на два фронта: и против «молодых», полуанархистов, отрицавших парламентскую борьбу, и против умеренных «легалистов во что бы то ни стало». В позднейшее время Зингер столь же решительно боролся с ревизионистами.
Он заслужил ту ненависть буржуазии, которая проводила его в могилу. Буржуазные ненавистники Зингера (немецкие либералы и наши кадеты) злорадно указывают на то, что с его смертью сходит в могилу один из последних представителей «героического» периода немецкой социал-демократии, то есть того периода, когда так сильна, свежа, непосредственна была у вожаков вера в революцию, отстаиванье принципиально-
146 В. И. ЛЕНИН
революционной политики. На смену Зингеру – говорят эти либералы – идут умеренные, аккуратные вожаки «ревизионисты», люди скромных претензий и мелких расчетов. Слов нет, рост рабочей партии нередко привлекает многих оппортунистов в ряды ее. Слов нет, выходцы из буржуазии в наше время гораздо чаще несут пролетариату свою робость, узость мысли или любовь к фразе, чем твердость революционных убеждений. Но пусть не ликуют враги раньше времени! Рабочая массаи в Германии, и в других странах все больше сплачивается в армию революции,и эта армия развернет свои силы в недалеком будущем, ибо революция нарастает и в Германии, и в других странах.
Умирают старые революционные вожди – растет и крепнет молодая армия революционного пролетариата.
«Рабочая Газета» № 3, Печатается по тексту
8 (21) февраля 1911 г. «Рабочей Газеты»
147
ЗАМЕТКИ
МЕНЬШИКОВ, ГРОМОВОЙ, ИЗГОЕВ
Выступление 66-ти московских промышленников , представляющих по подсчету какой-то московской газеты капитал в полмиллиарда рублей, подало повод к ряду чрезвычайно ценных и характерных статей в различных органах печати. Помимо того, что эти статьи освещают необычайно ярко политическое положение в данную минуту, они дают интересный материал по многим основным и принципиальным вопросам, касающимся всей эволюции России в XX веке.
Вот г. Меньшиков в «Новом Времени», излагающий точку зрения правых партий и правительства:
«Как все эти Рябушинские, Морозовы и прочие не понимают, что в случае переворота они все будут повешены, а в лучшем случае станут нищими?» «Эту энергическую фразу» г. Меньшиков приводит, по его словам («Новое Время» № 12549), «из письма студента одного весьма революционного института». И от себя уже автор добавляет: «Несмотря на грозное предостережение 1905 года, верхние классы России, включая купечество, чрезвычайно плохо разбираются в надвигающейся катастрофе». «Да, гг. Рябушинские, Морозовы и прочие, им подобные! Несмотря на ваш флирт с революцией и все аттестаты либерализма, которые вы спешите выслуживать, именно вам первым придется пасть жертвой готовящегося переворота. Вас повесят первых – не за какие-нибудь преступления, а за то, что вам кажется добродетелью, – просто за обладание
148 В. И. ЛЕНИН
тем полу миллиардом, которым вы так кичитесь». «Либеральная буржуазия, включая среднее дворянство, чиновничество и купечество, беспечно идет к краю революционной пропасти вместе со своими титулами, чинами и капиталами». «Если либеральные подзуживатели бунта наконец дождутся, когда их потащат на виселицу, – пусть они припомнят, как была мягка к ним старая государственная власть, как она их предупредительно выслушивала, как ухаживала за ними и как мало заявляла претензий на их пустые головы. Пусть именно в тот черный для них час сравнят благодеяния радикального режима со старым, патриархальным».
Это пишет неофициальный официоз правительства 17-го февраля, в тот самый день, когда официальный официоз, «Россия», из кожи лезет вон, чтобы доказать, при помощи «Голоса Москвы», что «выходка» 66-ти «не может считаться выражением мнения московского купечества». «Дворянский съезд – организация, – пишет «Россия», – а 66 купцов, которые сами говорят о себе, что они действовали, как частные лица, но являются организацией».
Неудобно иметь два официоза! Один другого побивает. Один доказывает, что «выходку» 66-ти нельзя рассматривать, как выражение мнения даже московского хотя бы купечества. А другой доказывает, что «выходка» имеет гораздо более широкое значение, служа выражением мнения не только московского и не только купечества, а всей российской либеральной буржуазиивообще. Г. Меньшиков берется, от имени «старой государственной власти», предостеречь эту либеральную буржуазию: не об тебе ли мы печемся?
Наверно нет ни единой страны в Европе, где бы в течение XIX века сотни раз не раздавался этот призыв «старой государственной власти», а также дворянства и реакционной публицистики, адресуемый к либеральной буржуазии, призыв «не подзуживать»... И никогда призывы не помогали, хотя «либеральная буржуазия» не только не хотела«подзуживать», а, напротив, с такой же энергией и искренностью боролась с «подзужи-вателями», с какой 66 купцов осуждают забастовки.
ЗАМЕТКИ 149
Как осуждения, так и призыв бессильны, раз дело идет о всех условиях жизни общества, заставляющих тот или иной класс чувствовать невыносимость положения и говорить об этом. Г. Меньшиков правильно выражает интересы и точку зрения правительства и дворянства, пугая либеральную буржуазию революцией и упрекая ее за легкомыслие. 66 купцов правильно выражают интересы и точку зрения либеральной буржуазии, упрекая правительство и осуждая «забастовщиков». Но взаимные упреки – только симптом, неопровержимо свидетельствующий о крупных «недостатках механизма», о том, что, несмотря на все желание «старой государственной власти» удовлетворить буржуазию, сделать шаг в ее сторону, создать для нее очень влиятельное местечко в Думе, несмотря на сильнейшее и искреннейшее желание буржуазии устроиться, ужиться, поладить, приспособиться, – «приспособления» все же не выходит! Вот в чем суть, вот где канва, а взаимные упреки – одни узоры.
Г. Громобой в «Голосе Москвы» посылает необходимое предостережение «правительству» (№ 38 от 17 февраля, статья «Необходимое предостережение»). «Никакие проявления «твердой» власти, – пишет он, – никакие волевые импульсы не дадут родине покоя, пока не будут идти рука об руку со слишком затянувшимися реформами». (Не очень грамотно пишет г. Громобой, но смысл его речи все же вполне ясен.) «И смута, как последствие затянувшегося кризиса, не может быть объявляема как «force majeure» для неплатежа по векселям». (Неудобное сравнение, г. публицист октябристских коммерсантов: во-первых, векселя-то ведь неподписанные; а, во-вторых, ежели бы даже они были подписаны, где тот коммерческий суд, куда вы Могли бы обратиться, и кто тот судебный пристав и прочие, могущие произвести взыскание? Подумайте-ка, г. Громобой, и вы увидите, что не только октябристская, но и кадетская партия есть партия бронзовых векселей в политике.) «В таком случае она будет лишь усиливаться... за студенческими волнениями пойдет многое, уже пережитое. Поведете корабль назад – увидите
150 В. И. ЛЕНИН
пройденный путь». «Была бита ставка на слабых, может оказаться побитой и ставка на сильных. Власти нечего будет предъявить. Ее расчеты на успокоение могут рассеяться, как дым, при условиях каких угодно выборов». (Г. Громобой имеет в виду выборы в IV Думу.) «Если начнут проходить караваны оппозиции через те скалы, где носились лишь туманы власти, если оттолкнувшая от себя умеренные элементы власть останется в одиночестве, – то выборы станут горьким ее поражением, и весь порядок будет потрясен оттого, что он не порядок правовой».
Меньшиков упрекает буржуазию в том, что она «подзуживает» «революцию», – буржуазия упрекает Меньшиковых в том, что они «ведут к усилению смуты». «Старая, но вечно новая история».
Ренегат Изгоев в кадетской «Речи» пытается, по поводу той же темы, подвести некоторые социологические итоги, – не соображая, как неосторожно браться за это занятие кадетам вообще, ренегатам в частности. В статье «Сопоставление» (от 14 февраля) он сравнивает съезд объединенного дворянства с выступлением 66-ти московских купцов. «Объединенное дворянство, – пишет он, – упало до Пуришкевича, московские промышленники заговорили языком государственности». В прошлом, – продолжает г. Изгоев, – «дворянство оказывало народу серьезные культурные услуги», но «культурной работой занималось только меньшинство, а большинство его травило». «Но таков, вообще, исторический закон, что прогрессивно действует лишь меньшинство данного класса».
Очень, очень хорошо: «таков, вообще, исторический закон». Так пишет кадетская «Речь» устами г. Изгоева. Однако присматриваясь ближе, мы с удивлением узнали, что «общие исторические законы» не простирают своего действия за пределы феодального дворянства и либеральной буржуазии. В самом деле. Припомним «Вехи», в которых писал тот же г. Изгоев и с которыми полемизировали виднейшие кадеты таким образом, что касались частностей и не трогали основного, главного, существенного. Существенное в «Вехах»,
ЗАМЕТКИ 151
разделяемое всеми кадетами и тысячи раз высказывавшееся гг. Милюковыми и К , состоит в том, что остальные классы России, кроме реакционного дворянства и либеральной буржуазии, проявили себя (в первом десятилетии настоящего века) действиями своего меньшинства, поддавшегося «угару», увлеченного «интеллигентскими» «вожаками», неспособного возвыситься до «государственной» точки зрения. «Надо иметь, наконец, смелость сознаться, – писал г. Изгоев в «Вехах», – что в наших Государственных думах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырех десятков кадетов и октябристов, не обнаружило знаний, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России». Это говорится, как всякий понимает, про крестьянских депутатов, трудовиков и про рабочих депутатов.
Итак, «вообще исторический закон» состоит в том, что «прогрессивно действует лишь меньшинство данного класса». Если действует меньшинство буржуазии, то это прогрессивное меньшинство, оправдываемое «общим историческим законом». «Моральный авторитет распространяется на весь класс, если только меньшинство получает возможность работать», поучает нас г. Изгоев. Но если действует меньшинство крестьян или рабочих, то это отнюдь не соответствует «историческому закону», это отнюдь не «прогрессивное меньшинство данного класса», это меньшинство отнюдь не имеет «морального авторитета», чтобы говорить от имени «целого» класса, – ничего подобного, это меньшинство, сбитое с толку «интеллигентщиной», антигосударственное, антиисторичное, обеспочвенное и так далее, как в «Вехах» прописано.
Кадетам вообще, веховцам в частности, рискованно пускаться в обобщения потому, что всякий их приступ к обобщениям неизбежно разоблачает полнейшее внутреннее родство кадетских и меныпиковских рассуждений.
«Россия» и «Земщина» рассуждают: 66 купцов, это – меньшинство, отнюдь не представляющее класса, не проявляющее ни знаний, ни способности «к управлению
152 В. И. ЛЕНИН
и переустройству России», и вовсе даже это не купцы, а совращенные «интеллигенты» и т. д., и т. п.
Изгоевы и Милюковы рассуждают: трудовики и рабочие депутаты в наших, к примеру скажем, Государственных думах, это – меньшинство, отнюдь не представляющее своих классов (т. е. девять десятых населения), сбитое с толку «интеллигентщиной», не проявляющее ни знаний, ни способности «к управлению и переустройству России» и т. д., и т. п.
Откуда это полнейшее внутреннее родство рассуждений «России» и «Земщины», с одной стороны, «Речи» и «Русских Ведомостей», с другой? Оттуда, что, при всем различии представляемых ими классов, и те и другие группы органов представляют классы, уженеспособные ни к какому существенному, самостоятельному, творческому, решающему прогрессивномуисторическому действию. Оттуда, что не только первая, но и вторая группа органов, не только реакционеры, но и либералы, представляют класс, боящийсяисторической самодеятельности других, более широких слоев, групп и масс населения, других – более многочисленных – классов.
Г. Изгоев, в качестве ренегата «из марксистов», наверное, усмотрит здесь вопиющее противоречие: с одной стороны, признавать капиталистическое развитие России, а следовательно, имманентную тенденцию этого развития к максимально-полному и максимально-чистому господству буржуазии и в экономической, и в политической сфере, а с другой стороны, объявлять уженеспособной к самостоятельному, творческому, историческому действию либеральную буржуазию!
«Противоречие» это есть противоречие живой жизни, а не противоречие неправильного рассуждения. Неизбежность буржуазного господства нисколько не означает того, что либеральная буржуазия способнана такие проявления исторической самодеятельности, которые могли бы вызволить ее из «неволи» пуришкевичевской. Во-первых, история вовсе не идет таким простым и гладким путем, чтобы всякое исторически назревшее преобразование означало тем самымдостаточную зре-
ЗАМЕТКИ 153
лость и силу для проведения этого преобразования тем именно классом, которому оно в первую голову выгодно. Во-вторых, кроме либеральной буржуазии есть еще другая буржуазия, например, все крестьянство, взятое в массе, есть не что иное, как демократическая буржуазия. В-третьих, история Европы показывает нам, что бывали буржуазные по своему общественному содержанию преобразования, осуществлявшиеся элементами вовсе не из буржуазии. В-четвертых, история России за последние полвека показывает нам то же самое...
Когда идеологи и вожди либерализма начинают рассуждать так, как рассуждают веховцы, Карауловы, Маклаковы, Милюковы, это означает,что ряд исторических условий вызвал во всей либеральной буржуазии такое «устремление вспять», такую боязнь движения вперед, что это движение пройдет помимо нее, через нее, вопреки ее опасениям. А такая перебранка, как взаимное обвинение Меньшикова Громобоем и Громо-боя Меньшиковым в «усилении смуты», является лишь симптомом того, что это историческое движение вперед всеми начинает ощущаться...
«Современное общество, – пишет в той же статье г. Изгоев, – построенное в глубине своей на начале личной собственности, есть общество классовое и иным пока быть не может. Место падающего класса стремится всегда занять другой класс».
Какой он вумный, – думает г. Милюков, читая подобные тирады в своей «Речи». – А приятно все же иметь кадета, который в 25 лет был социал-демократом, а в 35 «поумнел» и раскаялся в заблуждениях.
Неосторожное это занятие для вас, г. Изгоев, пускаться в обобщения. Современное общество есть общество классовое, очень хорошо. А может ли быть в классовом обществе внеклассовая партия? По всей вероятности, вы догадываетесь, что нет. Так зачем же вы совершаете такую неловкость, что ораторствуете о «классовом обществе» в органе такой партии, которая как раз видит свою гордость и заслугу в том (а по мнению тех, кто не только на словах и не только для
Дворян либеральными купцами и либеральных купцов дворянами.
154 В. И. ЛЕНИН
фельетонной болтовни признает современное общество классовым, – проявляет свое лицемерие или свою близорукость тем,—) – что объявляет себя партией внеклассовой?
Когда вы поворачиваете свое лицо к объединенному дворянству и к либеральному московскому купечеству, тогда вы кричите о том, что современное общество есть классовое общество. А когда вам приходится, когда неприятные (ах, ужасно какие неприятные!) события заставляют вас повернуться хоть на короткое время лицом к крестьянству или к рабочим, тогда вы начинаете громить узкую, омертвелую, окостенелую, безнравственную, материалистическую, безбожную, ненаучную «доктрину» о классовой борьбе. Ох, не браться бы вам лучше, г. Изгоев, за социологические обобщения. Ой, не ходи, Грицю, та на вечернщю!
«... Место падающего класса стремится всегда занять другой класс...»
Не всегда, г. Изгоев. Бывает так, что оба класса, и падающий и «стремящийся», изрядно уже прогнили – один больше, другой меньше, конечно, но все же оба изрядно прогнили. Бывает так, что, чувствуя эту свою гнилость, «стремящийся» вперед класс боитсясделать шаг вперед, а ежели делает, то обязательно при этом торопится сделать два шага назад. Бывает такая либеральная буржуазия (например, в Германии и особенно в Пруссии так было), которая боится «занять место» падающего класса, а всеусилия направляет на то, чтобы «разделить место» или, вернее, получить местечко хотя бы в лакейской, – но только не заниматьместо «падающего», только не доводить падающего до «падения». Бывает так, г. Изгоев.
В такие исторические эпохи, когда это случается, либералы могут принести (и приносят) величайший вред всему общественному развитию, если им удается выдать себя за демократов, ибо разница между теми и другими, либералами и демократами, как раз в том, что первые боятся «занять место», а вторые не боятся этого. И те и другие осуществляют исторически назревшее буржуаз-
ЗАМЕТКИ 155
ное преобразование, но одни боятся осуществить его, тормозят его своей боязнью, другие – разделяя нередко массу иллюзий насчет последствий буржуазного преобразования – вкладывают все свои силы и всю душу в его осуществление.
Чтобы иллюстрировать эти общие социологические рассуждения, позволю себе привести один пример либерала, который не стремится, а боится «занять место» падающего класса, и который поэтому (сознательно или бессознательно, все равно) злейшим образом обманывает население, называя себя «демократом». Либерал этот – член III Думы помещик А. Е. Березовский 1-ый, кадет, который во время аграрных прений (в 1908 году) произнес в Думе следующую речь, одобренную лидером партии г. Милюковым, назвавшим речь «прекрасной». Напомнить эту речь, смеем думать, не лишне ввиду близких выборов.
«... По моему глубокому убеждению, – говорил г. Березовский 27 октября 1908 года в Государственной думе, защищая земельный проект, – этот проект гораздо более полезен и для владельцев земли, и я это говорю, господа, зная земледелие, сам занимаясь им всю жизнь и владея землей... Не надо выхватывать голый факт принудительного отчуждения, возмущаться им, говорить, что это насилие, а надо посмотреть, во что выливается это предложение, что предлагали, например, в своем проекте 42 члена I Государственной думы. В нем заключалось только признание необходимости в первую очередь подвергнуть отчуждению те земли, которые не эксплуатируются самими владельцами, которые обрабатываются крестьянским инвентарем и, наконец, которые сдаются в аренду. Затем партия народной свободы поддерживала образование комиссий на местах, которые, поработав известное время, может быть, даже ряд лет, должны выяснить, какие земли подлежат отчуждению, какие не подлежат и сколько нужно крестьянам земли для их удовлетворения. Эти комиссии конструировались бы так, что в них была бы половина крестьян и половина некрестьян, и мне кажется, что в этой общей конкретной обстановке на местах выяснилось бы, как следует, и количество подходящей для отчуждения земли, и количество земли, необходимой для крестьян, и, наконец, сами крестьяне убедились бы, в какой мере могут быть удовлетворены их справедливые требования и в какой степени неверны и неосновательны часто их желания получить много земли. Затем этот материал возвратился бы в Думу, которая бы его переработала, далее материал этот пошел бы в Государственный совет и, наконец, дошел бы до высочайшей
156 В. И. ЛЕНИН
санкции. Вот, собственно, порядок, которого почему-то устрашилось правительство, распустило Думу и привело нас к настоящему положению вещей. Результатом этой планомерной работы, несомненно, было бы удовлетворение истинных нужд населения, связанное с ним успокоение и сохранение культурных хозяйств, которых никогда партия народной свободы разрушать без крайней необходимости не желала» (Стенографические отчеты, стр. 398).
Если г. Изгоев, принадлежащий к той же партии, что и г. Березовский, пишет в статье «Сопоставление»: «Россия – страна демократическая и никакой олигархии терпеть не может, ни новой, ни старой», то нам вполне ясен теперь смысл подобных речей. Россия отнюдь не демократическая страна, и никогда ни в каком случае демократической страной сделаться не сможет, пока сколько-нибудь широкие круги населения такую партию, как кадеты, считают демократической. Это – горькая правда, в тысячу раз более нужная народу, чем та сладкая ложь, которую говорят представители половинчатой, бесхарактерной, беспринципной либеральной олигархии, господа кадеты. Напоминать эту горькую правду тем более необходимо, чем больше выдвигаются на очередь дня такие «пререкания», как пререкания Меньшиковых с 66 и с Громобоем.
«Звезда» №11, 26 февраля 1911 г. Печатается по тексту
Подпись: В. Ил ьин газеты «Звезда»
157
В РОССИЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ ЦК
Считаем своим долгом, ввиду возможности и вероятности созыва Τ TTC в России, изложить свои взгляды на некоторые важные вопросы, затрагивающие наше положение как ответственных лиц перед партией.
На пленуме января 1910 г. мы, как ответственные представители большевистского
течения, заключили договор с ЦК, напечатанный в № 11 ЦО. Наша заявка, поданная
тремя должностными лицами, имеющими доверенность от Мешковского, формально
является расторжением этого договора, будучи вызвана невыполнениемточно указан
ных условий этого договора голосовцами и впередовцами. Понятно само собою, что
вынужденные фактическим отсутствием Τ TTC и началом раскола за границей подать эту
заявку, мы охотно возьмем ее назад или согласимся на пересмотр договора, если Цен
тральному Комитету удастся собраться и восстановить нарушенную указанными фрак
циями партийную работу и партийную линию.
Эта партийная линия ясно определена пленумом и ее тщетно пытаются запутать
голосовцы, Троцкий и К 0. Эта линия состоит в признании буржуазнойтеорией, губи
тельно влияющей на пролетариат, и ликвидаторства и отзовизма. Оба эти течения, по
сле пленума и в нарушение его решений, развились и оформились а антипартийные
фракции потресовцев и голосовцев, с одной стороны, впередовцев, с другой. На пар
тийную,
158 В. И. ЛЕНИН
указанную пленумом, дорогу встали из меньшевиков только так называемые партийцы или плехановцы, т. е. решительноповедшие и ведущие борьбу с потресовцами и голо-совцами.
Поэтому мы, как представители большевистского течения, решительно протесту
ем против нападок голосовцевна Иннокентияза то, что он летом 1910 г. отказывался
признать кандидатами для кооптации тех меньшевиков, которые оставались голосов-
цами или не доказали вполне своими делами своей партийности. Поступая так, Инно
кентий– главный представитель отличного от нашего оттенка в большевизме – дей
ствовал правильно, и мы имеем письменныедоказательства того, что он, именно как
представитель особого оттенка, при свидетелях из P. S. D. , определял указанным обра
зом объединяющие всехбольшевиков принципы партийности.
Попытка голосовцев из-за границы, от имени заграничной, раскольнически дейст
вующей фракции, предлагать «своих» кандидатов в ЦК для кооптации есть вопиющее
издевательство. Если на пленуме могли быть люди, искренне верившие в обещание
меньшевиков бороться с ликвидаторами, то год спустя вполне уже ясно, что голосов-
цам доверять в этом вопросе нельзя. Мы решительно протестуем против постановки на
голоса кандидатур заграничной фракции ликвидаторов и требуем опроса русскихпле
хановцев, которые несомненномогут дать кандидатов из меньшевиков-партийцев.
Раскольнические шаги голосовцев, впередовцев и Троцкого вполне признаны те
перь не только большевиками и поляками (в ЦО), но и плехановцами (см. резолюцию
парижских плехановцев). Мы констатируем, что первыйрешительный шаг к расколу —
объявление о созыве конференции и о «фонде» для нее помимо Τ TTC – сделан Троцким
26. XI. 1910; наша заявка (5. XII. 1910) была вынужденным ответом на это. Впередов-
ская школа стала одним из центров этого раскола:
– польской социал-демократии. Ред.
В РОССИЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ ЦК 159
Троцкий участвовал в ней вопрекипрямому постановлению партийной Школьной комиссии. Голосовцы печатнообвинили нас в «дезорганизации» этой школы. Считая своим долгом дезорганизоватьантипартийные заграничные фракции, мы требуем назначения следственнойкомиссии о «фондах» этой школы и об содействии ей Троцким и голосовцами.Крича об экспроприаторских делах, окончательно ликвидированных нами на пленуме, голосовцы не только шантажируют, но и прикрываютэтими криками свое моральное(и не только моральное) содействие нарушителямрезолюции пленума.