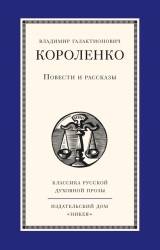
Текст книги "Том 2. Повести и рассказы"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
– Эге!
– Так себе человек: не высокий, не низкий… из небольших середний.
– Э, не то ты говоришь!..
– Не то? А что бы такое еще тебе сказать?.. Может, хочешь знать, где у него бородавка?
– Ты, я вижу, любишь морочить, а мне некогда. Скажи попросту: хороший мельник человек или плохой?
Солдат опять пустил изо рта целый хвост дыма и сказал:
– А ты-таки скорый человек, любишь кушать, не разжевавши.
Чорт вылупил глаза, а у мельника от радости запрыгало сердце.
«Вот язык, так язык, – подумал он. – Сколько раз я желал, чтобы он у него отсох, а он вот и пригодился, – смотрите, как чертяку отбреет!..»
– Любишь кушать не разжевавши, я тебе говорю! – строго повторил солдат. – Так тебе и скажи: хороший человек или нет? Для меня, вот, всякий человек хорош. Я, брат, из всякой печи хлеб едал. Где бы тебе подавиться, а я и не поперхнусь!.. Э, что ты себе думаешь: на дурака напал, что ли?
«Вот так, вот-таки так его, – сказал про себя мельник и даже подпрыгнул от радости. – Я не я буду, когда у него чорт через полчаса не станет глупее овцы! Я на крылосе читаю, что никто слова не поймет… так оттого, что скоро. А он вот и тихо говорит, а подя – пойми, что сказал…»
Действительно, бедный чорт заскреб в голове так сильно, что мало не стянул шапки.
– Постой-ка, служба, – сказал он. – Что-то, видится, мы с вами едем-едем, да не доедем. Не в тот переулок завернули…
– Не знаю, как ты, а я из всякого переулка выеду. – Да ведь я у вас спрашиваю: хороший мельник человек или нет, а вы куда меня завезли?
– А дай же я у тебя спрошу; вода хороша или нет?
– Вода?.. А чем же плоха?
– А когда есть квас, тогда от воды отвернешься, – нехороша?
– Пожалуй, нехороша.
– А когда стоит на столе пиво, так тебе и квасу не надо?
– Вот и это правда.
– А поднеси чарочку горелки, и на пиво не поглядишь?
– Так-то оно так…
– Вот то-то и оно-то!
Чорта ударило в пот, и из-под свитки хвост у него так и забегал по земле, – даже пыль поднялась на плотине. А солдат уже вскинул палку с сапогами на плечи, чтоб идти далее, да в это время чертяка догадался, чем его взять. Отошел себе шага на три и говорит:
– Ну, идите, когда так, своею дорогой. А я тут обожду: не пойдет ли, случаем, солдат Харитон Трегубенко. Солдат остановился.
– А тебе на что его?
– Да так!.. Говорили, солдат Трегубенко – умный человек: может ввести и вывести. Я и подумал, не вы ли это сами будете. А вижу, нет! С вами путаешься кругом, а на дорогу никак не выедешь…
Солдат поставил сапоги наземь.
– А ну, спроси у меня еще.
– Э, что тут и спрашивать!
– А ты попробуй.
– Ну, вот что. Скажи мне: кто был лучше – Янкель-шинкарь или мельник?
– Вот так бы и говорил сразу, а то не люблю таких людей, что подле самого мосту ищут броду. Иному человеку лучше десять верст исколесить проселками, чем одну версту прямою дорогой. Вот и я тебе сейчас все толком, по пунктам, как говорится, скажу: у Янкеля был шинок, а у мельника – два.
«Э, что-то уж и не так заговорил, – подумал с горестью мельник. – Пожалуй, об этом лучше бы и не заговаривать…»
А солдат говорит дальше:
– У Янкеля я ходил в лаптях, а тут у меня и сапоги выросли…
– А откуда они выросли?
– Хе, откуда!.. В нашем деле все так, как в колодце с двумя ведрами: одно полнеет, другое пустеет, – одно идет кверху, другое книзу. У меня были лапти, – стали сапоги. А погляди ты на Онанаса Нескорого: был в сапогах, теперь стал босой, потому что дурень. А к умному ведро приходит полное, уходит пустое… Понял?
Чорт слушал внимательно и сказал:
– Постой! Кажется, подъезжаем помаленьку, как раз куда надо.
– То-то! Я про то и сразу тебе говорил! Назови ты мне Янкеля хоть квасом, так мельник будет пиво, а если б ты подал мне доброго вина, то я бы и от пива отступился…
У чорта кончик хвоста так резво забегал по плотине, что даже Харько заметил. Он выпустил клуб дыму прямо чорту в лицо и будто нечаянно прищемил хвост ногою. Чорт подпрыгнул и завизжал, как здоровая собака: оба испугались, у обоих раскрылись глаза, и оба стояли с полминуты, глядя друг на друга и не говоря ни одного слова.
Наконец Харько посвистал по-своему и сказал:
– Эге-ге-ге-е! Вот штука, так штука…
– А вы как думали? – ответил чорт.
– Вот вы какая птица!
– А вот, как меня видите…
– Так это вы, значит, того… в прошлом годе?..
– Ага!
– А теперь… за ним?
– Ну, ну… Что скажете?
Харько затянулся, пыхнул дымом и ответил:
– Бери! Не заплачу… Я человек бедный, мое дело – сторона. Сяду себе с люлькой у шинка, буду третьего дожидаться.
Чорт опять загрохотал, а солдат закинул сапоги на спину и пошел скорым шагом. А как проходил мимо купы яворов, то мельник слышал, что он бормочет:
– Вот оно что: одного унес, за другим прилетел… Ну, моя хата с краю!.. Засватал чорт жида, – мельнику досталось приданое; теперь сватает мельника, а приданое – мне. Солдат кому ни служит, ни о ком не тужит. Выручка на руках, – пожалуй, можно и самому за дело приняться. Не станет теперь Харька Трегубенка, а будет Харитон Иванович Трегубов. Только уж я не дурак: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь…
И стал подыматься на гору.
Оглянулся мельник кругом: а кто ж ему теперь поможет? – нет никого. Дорога потемнела, на болоте заквакала сонная лягушка, в очеретах бухнул сердито бугай… А месяц только краем ока выглядывает из-за леса; «А что теперь будет с мельником Филиппом?..»
Глянул, моргнул и ушел себе за леса…
А на плотине чорт стоит, за бока держится, хохочет. Дрожит от того хохота старая мельница, так что из щелей мучная пыль пылит, в лесу всякая лесная нежить, а в воде водяная – проснулись, забегали, показывается кто тенью из лесу, кто неясною марой на воде; заходил и омут, закурился-задымился белым туманом, и пошли по нем круги. Глянул мельник – и обмер: из-под воды смотрит на пего синее лицо с тусклыми, неподвижными глазами и только длинные усы шевелятся, как у водяного таракана. Точь-в-точь дядько Омелько выплывает из омута прямо к яворам…
Жид Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, подняв одежу, которую скинул с себя чорт, и, шмыгнув под яворы, наскоро завязал узел. Не говорит уже ничего об убытках; да скажу вам, тут на всякого человека напала бы робость. Какие уже тут убытки!.. Вскинул узел на плечи и тихонько зашлепал себе по тропинке за мельницей в гору, за другими…
Пустился и мельник на свою мельницу, – хоть запереться да разбудить подсыпку. Только вышел из-под яворов, а чорт – к нему. Филипп от него, да за дверь, да в каморку, да поскорее засвечать огни, чтобы не так было страшно, да упал на пол и давай голосить во весь голос, – подумайте вот! – совсем так, как жиды в своей школе…
А тот уж летает-вьется над крышей, да в оконце свою любопытную харю сует, да крылом бьет в стекло, – не знает, куда пробраться, чтобы захватить себе лакомый кусок…
Вдруг – шасть… Хлопнулось что-то об пол, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый в трубу влетел, ударился, подскочил… И слышит мельник – сидит уже на спине и запускает когти.
Ничего не поделаешь!..
Шасть опять… потемнело в глазах, поволок мельника по темному да тесному месту; посыпалась глина, сажа поднялась тучей и вдруг… Вот уже труба внизу вместе с мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омут падают куда-то в пропасть… А в тихой мельничной запруде, что лежит внизу гладкая, точно на тарелке, виднеется опрокинутое небо, и звезды мигают себе тихонечко, вот как всегда… И еще видит мельник: в той синей глубине, перекрывая звезды, летит будто шуляк, потом будто ворона, потом будто воробей, а вот уж как большая муха…
«А это ж он меня выволок так высоко, – подумал мельник. – Вот тебе, Филиппко, и доход, и богатство, и шинки, и роскошь. А нет ли там где крещеной души, чтобы крикнула: „Кинь, это мое!“»
Нет никого! Прямо под ним спит себе мельница, и только из омута огромная усатая рожа утопшего дядьки Омелька глядит стеклянными глазами и тихо смеется, и моргает усом…
Дальше на гору подымается жид, сгорбившись под тяжелым белым узлом. В половине горы Харько стоит и, покрыв ладонью глаза, смотрит в небо. Э, не подумает он выручать хозяина, потому что вся выручка от шинка остается на его долю.
Вот рассеянная стайка девчат обогнала уже Опанаса Нескорого с его волами. Девчата летят, как сумасшедшие, а Нескорый хоть и глядит прямо в небо, лежа на возу, и хоть душа у него добрая, но глаза его темны от водки, а язык как колода… Некому, некому крикнуть: «Кинь, это мое!»
А вот и село. Вот запертый шинок, спящие хаты, садочки; вот и высокие тополи, и маленькая вдовина избушка. Сидят на завалинке старая Прися с дочкой и плачут обнявшись… А что ж они плачут? Не оттого ли, что завтра их мельник прогонит из родной хаты?
Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хоть эти не поминают меня лихом! Собрался с духом и крикнул:
– А не плачь, Галю, не плачь, небо́го! Уж прощаю вам все долги с процентами… Ой лихо мне, хуже вашего: волочет меня нечистый, как паук маленькую мушку…
Видно, чутко девичье сердце… Где бы, кажется, услыхать на таком дальнем расстоянии, а Галя все-таки дрогнула и подняла кверху черные, заплаканные очи.
– Прощайте вы, карие оченята, – вздыхает мельник да вдруг видит: схватилась девушка руками за грудь, да как наберет воздуху, да как крикнет:
– Кинь, проклятая чертяка! Кинь, это мое! Точно цепом, с большого размаху, резнуло чорта по ушам: встрепенулся, распустились когти, и понесся Филипп книзу, как перышко, поворачиваясь с боку на бок.
Летит, а чертяка, как камень, за ним. Только долетит и придержит мельника, а Галя опять:
– Кинь, проклятый, – мое!
Он и отпустит, а мельник опять полетит, да так до трех раз, а уже внизу и багно (болото), что между селом и мельницей, расстилается все шире да шире.
Тар-рах! Ударился мельник в мягкое багно со всего размаха, так что мочага вся колыхнулась, будто на пружинах, да снова мельника сажени на две кверху и подкинула. Упал опять, схватился на ровные ноги, да бегом лётом, да через спящего подсыпку, да чуть не вышиб с петлями дверей – и ну под гору во все лопатки чесать босиком… Сам бежит к только вскрикивает, – все ему кажется, вот-вот чертяка на него налетит.
Добежал до крайней избы, да через тын лётом, да в двери, да стал середь вдовиной избы и тут только опомнился:
– А вот я и у вас, слава богу!
XII
Вот вы подумайте себе, добрые люди, какую штуку устроил: рано поутру, еще и солнце только что думает всходить и коров еще не выгоняли, а он без шапки, простоволосый, да без сапогов, босой, да весь расхристанный ввалился в избу ко вдове с молодою дочкой! Э, что там еще без шапки: слава богу, что хоть чего другого не потерял по дороге, тогда бы уж навеки бедных баб осрамил!.. Да еще и говорит: «А слава ж богу! Вот я и у вас».
Старуха только руками всплеснула. А Галя соскочила в одной сорочке с лавки да поскорее запаску на себя, да плахту, да к мельнику:
– Ты что это, злодей, делаешь? Опился, что ли, – своей хаты не нашел, в нашу вот такой ввалился, а?
А мельник стоит против нее, глядит приятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говорит: «Ну, бей себе, сколько хочешь». Она его – раз!
– Бей еще! Она его и два.
– Вот так. Может, еще дашь?
Она и три. Да тут видит, что ему ничем-ничего, стоит себе и глядит на нее приятным оком, всплеснула руками и заплакала.
– Ой, лихо мне, бедной сиротинке, кто за меня заступится!.. Ой, и что ж это за человек такой! Мало ему, что обманул меня, молодую, что в турецкую веру хотел сманить, так еще и славу на меня, сироту, навел, на все село осрамил. А теперь вот поглядите на него, добрые люди:
я его уж три раза ударила, а он хоть бы повернулся. Ой, и что ж мне еще с таким человеком делать, научите меня! Я ж и не знаю уже…
А мельник спрашивает:
– Ну, будешь еще бить или нет, говори прямо? Не будешь, так я уж и на лавку сяду, – устал.
У Гали опять было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тут дело что-то не очень простое, и говорит дочери:
– Погоди ты, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, так прямо ладонями и плещешь по чужой щеке. Не видишь разве, парубок что-то с глузду съехал (помешался). А скажи, небора́че, откуда ты такой сюда ввалился, да еще говоришь: «Слава богу, вот я и у вас!» – когда тебе тут не надо и быть…
Мельник протер глаза и говорит:
– Вот, скажите вы мне, тетушка, по совести: что я сплю или я по свету хожу? А со вчерашнего вечера прошла одна ночь или целый год, да я ж теперь к вам со своей мельницы или с неба свалился?
– Тю! перекрестись ты, человече, левою рукой! И что ты это такое несешь языком, а? Видно, тебе приснилось.
– Не знаю, пани-матко, не знаю, сам уж ничего не знаю… Сел было на лавку у окна, глядь – за окном, мимо хаты, по холодочку плетется шинкарь Янкель с огромным узлом на спине. Мельник вскочил на ровные ноги, показывает бабам в окно и говорит:
– Это кто идет, а?
– Да это же наш Янкель.
– А что он несет?
– Узел из городу.
– Так как же вы говорите, что мне приснилось? Да ведь вот и жид воротился. Я его сейчас видел у мельницы, с этим самым узлом.
– А почему же бы ему и не воротиться?
– Да ведь его в том году чорт уволок – Хапун. Ну, одним словом сказать, было тут много дива, как стал мельник рассказывать все, что с ним случилось. А между тем против хаты, на улице, уже и народ начал набираться, да заглядывать в окна, да судачить:
– Вот, – говорят, – это штука, так уж штука: мельник простоволосый да расхристанный, без сапогов и без шапки через поле прямо к вдове придрал и сидит теперь в хате.
– Эй, скажи ты нам, добрый человек, а к кому ты это такой нарядный бегаешь: к старой Присе или, может, к молоденькой Гале?..
Ну, тут, я думаю, сами вы уж догадались, что такую славу на бедную девушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и сам Филипп признавался мне не один раз, что Галю вдовину всегда любил, а после той ночи, как побывал в когтях у нечистой силы, да Галя его вызволила, – такая она ему стала приятная, что уж его бы никто и палкой от нее не мог отогнать.
Живут теперь на мельнице и уж детвору навели. А о шинке мельник больше не думал и процентов не брал. И когда, бывало, при нем станет кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля к чертовой матери из села, он только рукой махнет.
– А шинок, – спрашивает у такого человека, – как вы думаете, останется?
– А шинок останется, – куда ж его девать.
– А кто ж в нем сидеть будет?.. Может, часом, вы не сядете ли?
– А что ж, пожалуй, и я бы сел… Так он, бывало, только свистнет.
XIII
Да, так вот какая история случилась с мельником, – такая история, что и до сих пор никак не разберешь: было это все или этого вовсе-таки не было. Если сказать – брехня, так не такой мельник человек, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живет на мельнице, и хоть сам признается, что здорово был пьян в эту ночь, а все-таки помнит хорошо, как мельник ему сам двери отворил, и еще Гаврило заметил, что у хозяина лицо белее муки. И Янкель пришел на заре, и Опанас приехал домой босой и пьяный… Значит, и присниться все это мельнику – не приснилось.
Ну, а опять же и то взять: как же оно могло быть, когда для всего этого нужно целый год, а мельник на другое утро уже к Гале прибежал босиком…
Э, лучше уж, я думаю, и не разбирать этого дела. Было оно там или не было, а только вот что я вам от себя уже скажу: может, есть у вас где-нибудь знакомый мельник или хоть не мельник, да такой человек, у которого два шинка… Да еще, может, жидов ругает, а сам обдирает людей, как липку, – так прочитайте вы тому своему знакомому вот этот рассказ. Уж я вам поручусь, дело пробованное, бросить он, может, своего дела не бросит, – ну, а вам чарку водки поднесет и хоть на этот раз водой ее не разбавит.
Ну, а есть и такие люди (это тоже дело виданное), что как выслушают эту историю, так и начнут лаяться на тебя, как собаки. Так я таким скажу вот что: лайтесь себе, сколько охота, а только я вам посоветую по правде, – берегитесь, как бы не случилось чего с вами, как с мельником.
Потому что, видите ли, ново-каменские люди не раз после того видели того самого чертяку: с тех пор как попробовал мельника, уже не хочет вернуться к себе без хорошей добычи… Летает, как отставшая птица, и все высматривает…
Так вот, добрые люди, берегитесь вы немного, как бы не случилось с вами чего недоброго…
А пока что прощайте! Если рассказалось что не так, как бы вам хотелось, – не взыщите с меня, простого человека.
1890
Тени *
Фантазия
I
Это было месяц и два дня спустя после того, как, при громких криках афинского народа, судьи постановили смертный приговор философу Сократу за то, что он разрушал веру в богов. Он был для Афин то же, что овод для коня. Овод жалит коня, чтоб он не заснул и бодро шел своею дорогой. Философ говорил афинскому народу:
«Я твой овод, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ!»
И народ, в припадке жестокой досады, пожелал избавиться от своего овода. «Быть может, доносчики Мелит и Анит оба не правы, – говорили граждане, расходясь с площади после приговора. – Но что же это, наконец, такое, и куда он идет? Он плодит недоумения, он разрушает мнения, твердо установленные веками, он говорит о новых добродетелях, которые надо познавать и разыскивать, он говорит о божестве, которое нам еще неведомо. Дерзкий, он считает себя умнее богов!.. Нет, спокойнее нам вернуться к старым, хорошо знакомым божествам. Пусть они не всегда справедливы, пусть распаляются порой неправедным гневом, а другой раз и нечестивою похотью даже к женам смертных. Но не с ними ли жили наши предки в спокойствии души, не с их ли помощью совершали славные подвиги? А теперь образы олимпийцев померкли, и старая добродетель расшатана. Что же будет дальше, и не должно ли одним ударом положить конец нечестивой мудрости?»
Так говорили друг другу афинские граждане, расходясь с площади под покровом синего вечера. Они решили убить беспокойного овода, в надежде, что после этого лица богов опять просветлеют. Правда, в умах граждан порой вставал кроткий образ чудака-философа; порой они вспоминали, как мужественно делил он с ними при Потидее труды и опасности; как он один защищал их самих от позора несправедливой казни военачальников после аргинузской победы; как один он против тиранов, убивших полторы тысячи граждан, осмелился возвысить голос, спрашивая на площадях о пастырях и овцах. «Не тот ли пастырь, – говорил он, – может назваться добрым, который приумножает и бережет свое стадо? Или, напротив, добрые пастыри призваны уменьшать количество овец и разгонять их, а добрые правители – делать то же с гражданами? Исследуем, афиняне, этот вопрос!» И от вопроса одинокого, безоружного философа лица тиранов бледнели, а глаза юношей загорались огнем негодования и честного гнева…
Когда афиняне, расходясь с площади после приговора, вспоминали все это, тогда их сердца сжимало смутное сомнение: «Уж не совершили ли мы над сыном Софрониска жестокую неправду?» Но тогда добрые афиняне смотрели в гавань и на море. При свете угасавшей зари на синем понте еще мелькали вдали пурпуровые паруса острогрудого корабля делосских празднеств. Корабль ушел из гавани в этот день и вернется лишь через месяц, а до тех пор в Афинах не может пролиться кровь ни виновного, ни невинного. В месяце же много дней, а часов еще больше. Кто помешает сыну Софрониска, если уж он осужден невинно, убежать из тюрьмы, а многочисленные друзья наверное даже помогут? Разве так трудно богатому Платону, Эсхину и другим подкупить тюремную стражу? Тогда беспокойный овод улетит из Афин к фессалийским варварам или в Пелопоннес, или еще дальше, в Египет… Афины не услышат более его назойливых речей, а на совести добрых граждан не будет этой смерти.
И все, таким образом, обойдется ко всеобщему благополучию…
Так многие рассуждали про себя в этот вечер, восхваляя мудрость демоса и гелиастов, а втайне питая надежду, что беспокойный философ уберется из Афин, убежит от цикуты к варварам, освобождая сограждан в одно время и от себя, и от угрызений совести за невинную смерть.
Тридцать два раза с тех пор солнце выходило из-за океана и опять погружалось в него, а до того дня, когда афиняне решили воздвигнуть Сократу памятник, – осталось тридцатью двумя днями меньше. Корабль из Делоса вернулся и, точно стыдясь за родной город, стоял в гавани с печально упавшими парусами. На небе не было луны, море колыхалось под тяжелым туманом, и огни на холмах мерцали сквозь мглу, точно прижмуренные очи людей, одержимых стыдом.
Упрямый Сократ не пожалел совести добрых афинян. «Простимся! Вы идите к своим очагам, а я пойду умирать, – сказал он судьям после приговора. – Не знаю, друзья, кто из нас выбирает себе лучший жребий». Когда срок возвращения корабля стал приближаться, многие из сограждан почувствовали беспокойство. Неужели же этот упрямец в самом деле умрет? И они принялись стыдить Эсхина, Федона и других учеников и друзей Сократа, подстрекая их усердие. «Неужто, – говорили они с едкой укоризной, – вы допустите, чтоб ваш учитель умер? Или вам жаль несколько мин на подкуп сторожей?» Напрасно Критон упрашивал Сократа согласиться на побег и горько жаловался, что общая молва упрекает их в недостатке дружбы и в скупости, – упрямый философ не пожелал сделать удовольствие ни своим ученикам, ни доброму афинскому народу. «Исследуем этот вопрос, – говорил он. – Если окажется, что мне надо бежать, – я убегу; а если нужно умереть, то умру. Припомним: не говорили ли мы раньше, что не смерть должна страшить разумного человека, а неправда? Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы, пока они нам лично приятны, а неприятные нарушать? Кажется, память мне не изменила: ведь мы действительно что-то говорили об этих предметах?»
– Да, говорили, – ответил ученик.
– И кажется, все были в этом вопросе согласны?
– Да.
– Но, может быть, правда есть правда для других, а не для нас?
– Нет, правда одинакова для всех, и для нас тоже.
– Но, может быть, когда нам, а не другим приходится умирать, то и правда превращается в. неправду?
– Нет, Сократ, правда остается правдой при всех обстоятельствах.
Когда таким образом ученик последовательно согласился со всеми посылками Сократа, философ, улыбаясь, перешел к умозаключению:
– Но если так, друг мой, то не следует ли, пожалуй, мне умереть? Или уж моя голова так ослабела, что я не в состоянии сделать верного заключения?.. Тогда поправь меня, добрый друг, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.
Ученик закрыл лицо плащом и отвернулся.
– Да, – сказал он, – я вижу теперь, что ты непременно умрешь…
И в этот темный вечер, когда море металось и глухо шумело под туманом, а изменчивый ветер шевелил паруса кораблей с тихим и грустным недоумением; когда на улицах Афин граждане, встречаясь, спрашивали друг друга:
«Он умер?» – и голоса их звучали робкою надеждой, что это неправда; когда первое дыхание проснувшейся совести, как первый предвестник бури, уже шевельнуло сердце афинского народа и даже, казалось, лица домашних богов устыдились и потемнели, – в этот вечер, с закатом солнца, упрямец выпил чашу смерти…
Ветер крепчал, сильнее закутывая город пеленой морских туманов, и начинал с яростью трепать паруса, запоздавшие в гавань. И Эриннии заводили свои мрачные песни в сердцах граждан, возбуждая в них грозу, от которой впоследствии погибли обвинители Сократа… Но в тот час эти первые порывы раскаяния метались еще смутно и неясно. Граждане еще более сердились на Сократа, зачем он не доставил им облегчения своим побегом в Фессалию; злились на учеников его, которые ходили в последние дни печальные, мрачные, как живые упреки; злились на судей, у которых не. было ни благоразумия, ни мужества, чтобы воспротивиться слепой ярости возбужденного народа; злились на самых богов. «Вам, боги, принесли мы эту жертву, – говорили многие, – радуйтесь, ненасытные!»
«Не знаю, кто из нас берет лучший жребий!» – вспоминались слова Сократа, последние слова его к судьям и к народу, собранному на площади. Теперь он лежал в своей тюрьме, под плащом, спокойный и неподвижный, а над городом нависли печаль, недоумение, стыд… Он опять стал мучителем города, сам уже недоступный мучению… Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больнее… Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи, – ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!
II
В эти печальные дни из учеников Сократа воин Ксенофонт находился в далеком походе с десятью тысячами, пробивая себе среди опасностей путь к милой родине. Эсхин, Критом, Критовул, Федон и Аполлодор были заняты приготовлением скромных похорон, а у Платона горела вечерняя лампа, и лучший из учеников философа записывал на пергаменте его дела, слова и поучения, которыми завершилась жизнь мудреца. Ибо, как говорит великий поэт,
Листьям в дубраве подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле расстилает, другие – дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают…
Так человеки: одни нарождаются, те погибают.
Однако мысль не гибнет, и истина, достигнутая великим умом, как факел в темноте, освещает пути следующих поколений.
Был и еще ученик Сократа. Пылкий Ктезипп еще недавно считался самым веселым и самым беспечным из афинских юношей; он боготворил только красоту и преклонялся перед Клиниасом, как совершеннейшим ее воплощением. Но с некоторых пор, и именно с того времени, как познакомился с Сократом, он потерял и веселье, и беспечность, а в толпе Клиниасовых друзей его заменили другие, и он смотрел на это равнодушно. Стройность мысли и гармония духа, которые он встретил у Сократа, казались ему теперь во сто крат более привлекательными, чем стройность стана и гармония в чертах Клиниаса. Всеми силами своей пылкой души он привязался к тому, кто нарушил девственное спокойствие его собственной души, раскрывшейся навстречу первым сомнениям, как почки молодого дуба раскрываются навстречу свежему весеннему ветру.
Теперь, в эти горькие минуты, он нигде не мог найти успокоения, – ни у домашнего очага, ни на улицах притихшего города, ни в обществе единомышленных друзей. Боги очага, домашние и народные боги стали ему противны: «Я не знаю, – говорил он, – лучшие ли вы из тех, кому бесчисленные поколения народов сжигают благовония и приносят жертвы. Но знаю, что в угоду вам слепая толпа погасила яркий светильник истины и принесла в жертву лучшего из смертных!»
Улицы и площади, казалось Ктезиппу, еще оглашаются криками неправедного суда. Здесь некогда Сократ один воспротивился бесчеловечному приговору судей и слепой ярости черни, требовавшей смерти аргинузским вождям [43]43
В битве при Аргинузах афиняне одержали блестящую победу. После битвы наступила буря и, щадя живых, вожди недостаточно позаботились о мертвых, которые остались без погребения. Тогда против счастливых вождей поднялись в Афинах страсти суеверной толпы. Родственники убитых явились на собрание в траурных платьях, обвиняя вождей в том, что теперь умершие останутся вечными скитальцами: здесь выступило древнее верование, гласившее, что душа не покидает тела и вместе с ним сходит в недра земли. Сократ один воспротивился приговору, основанному на угождении грубому суеверию.
[Закрыть]. Теперь не нашлось никого, кто бы сумел защитить его с такою же силой. В этом Ктезипп винил и себя, и товарищей, и вот отчего ему хотелось в этот вечер избавиться от присутствия всех людей и даже, если возможно, от себя самого.
Он пошел к морю. Но здесь его тоска стала еще тяжелее. Казалось, под покровами из тумана опечаленные дочери Нерея метались и бились о берег, оплакивая лучшего из афинян и самый город, ослепленный безумием. Волны летели одна за другой, волны плескались о каменные скалы с непрерывным жалобным рокотом, который раздавался в ушах Ктезиппа, как траурное, намогильное пение.
Тогда он отвернулся и пошел от берега все прямо, не глядя перед собой и не заботясь даже о дороге. Мрачная скорбь затемнила его сознание и нависла над ним, как темная туча. Он забыл о времени, о пространстве, о собственном существовании и весь полон был одною гнетущею мыслью о Сократе… «Вчера он был, вчера еще раздавались его кроткие речи. Как может быть, что его нет сегодня? О ночь, о вы, великаны горы, окутанные туманными нимбами, ты, рокочущее море, обладающее собственным движением, вы, неспокойные ветры, несущие на крыльях дыхание необъятного мира, ты, звездный свод, покрытый летучими облаками, ты, тихо сверкающая зарница, раздвигающая их молчаливые гряды, – возьмите меня к себе, откройте мне тайну этой смерти, если вы ее знаете! А если не знаете, дайте моему неведению ваше бесстрастие. Возьмите у меня эти мучительные вопросы, – я не в силах более носить их в груди без ответа и без надежды на ответ… А кто же ответит, если уста Сократа смежило вечное молчание, а на его взоры налегла вечная тьма?»
Так говорил Ктезипп, обращаясь к морю, к горам и мракам ночи, которая между тем, как всегда, совершала над спящим миром свой незримый, неудержимый полет. Прошло много часов, прежде чем Ктезипп вздумал оглянуться, куда привели его шаги, не управляемые сознанием. Когда же он оглянулся, то темный ужас охватил его душу.
III
Казалось, неведомые божества вечной ночи услышали дерзкую молитву. Ктезипп глядел и не узнавал места, где он находился. Огни города давно угасли в темноте, рокот моря смолк в отдалении, и теперь самое воспоминание о нем стихало в оробевшей душе. Ни один звук: ни осторожный крик ночной птицы, ни свист ее крыла, ни шорох листьев, ни журчание никогда не засыпающих горных ручьев, – ничто не нарушало глубокого молчания… И только синие блуждающие огни тихо снимались и переносились с места на место по утесам, да молчаливые зарницы вспыхивали и угасали в туманах над вершинами, усиливая мрак своими короткими вспышками и мертвым светом открывая мертвые очертания пустыни, по которой черные расселины вились, как змеи, и скалы громоздились в диком, хаотическом беспорядке.
Казалось, все веселые боги, живущие в зеленых дубравах, в звенящих ручьях и в горных лощинах, навсегда бежали из этой пустыни; только один великий таинственный Пан притаился где-то близко в хаосе природы и зорко, насмешливым взглядом следит за ним, ничтожным муравьем, еще так недавно дерзко взывавшим к тайне мира и смерти. И слепой, не рассуждающий ужас уже разливался в душе Ктезиппа, как море заливает во время шумного прилива прибрежные скалы.
Был ли это сон, была ли это действительность, было ли это откровение неведомого божества, но только Ктезипп чувствовал, что еще одна минута – и грань жизни будет перейдена, и душа его растворится в этом океане беспредельного, бесформенного ужаса, как дождевая капля в волне седого океана в темную и бурную ночь. Но в эту минуту он услышал вдруг голоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его различили при свете зарницы человеческие формы.
IV
Человек сидел на одном из каменных выступов в позе глубокого отчаяния и с плащом, накинутым на низко опущенную голову. Другой тихими шагами приближался к нему, поднимаясь с осторожностью и исследуя каждую пядь дороги. Сидевший открыл лицо и воскликнул:
– Тебя ли я видел сейчас, добрый Сократ? Ты ли идешь мимо меня в этом безрадостном, месте, где я сижу уже много часов, не зная смены дня и ночи, напрасно дожидаясь рассвета?








