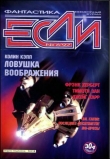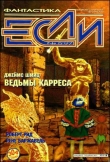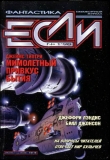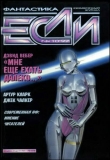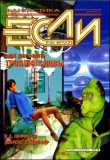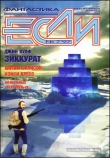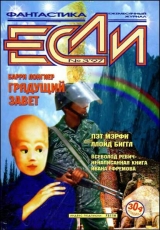
Текст книги "Журнал «Если», 1997 № 03"
Автор книги: Владимир Гаков
Соавторы: Эдуард Геворкян,Всеволод Ревич,Ллойд, Биггл,Дмитрий Караваев,Пэт Мэрфи,Сергей Кудрявцев,Барри Брукс Лонгиер,Станислав Ростоцкий,Игорь Кветной,Боб Леман
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Со вторым расхождением я буду спорить еще непримиримее, потому что с природой, чего уж, – явное недомыслие, а тут автор защищает позиции продуманно, даже агрессивно. Речь идет о казарменном воспитании подрастающего поколения, начиная с «коллективизации» младенцев в грудном возрасте. Правда, еще не до конца перевелись бедняжки, не сумевшие справиться с материнским инстинктом. Общество, чуждое всякому насилию, не настаивает, для удовлетворения атавистических наклонностей выделена резервация – остров Матерей, бывший Ява. Но не кажется ли вам, что установленный порядок выглядит обыкновенной ссылкой? Что за преступление они совершили? Почему бы не разрешить им жить среди всех? Чтобы остальных мамаш не вводить в соблазн?
Уэллс был непреклонен: если будет подавлен природный инстинкт, если женщины (а почему только женщины?) будут лишены родительских радостей, то не испарится ли заодно и значительная часть того неуловимого, эфемерного состояния, которое называется человеческим счастьем. Зачем нам (нам!) такое общество, которое превращается в бесчеловечный сугубо функциональный механизм? Не случайно мы смотрим с сочувственной жалостью на ребят, которых судьба приговорила провести детство в детдоме.
Автор «Туманности…» напирает на то, как интересно и образцово будет поставлена работа по воспитанию и образованию молодого поколения. Что ж, среди его программ есть вполне здравые. В нашей школе и вправду мало романтики. Уж больно заунывна ежедневная обязанность: десять лет просидеть за одной партой, на одном месте, в одни и те же часы. Словно прикованные галерники. Нечто духоподъемное, подобное Двенадцати подвигам Геракла, дающее юношеству возможности испытать силы перед вступлением в жизнь, было бы неплохо придумать и сейчас. Разумеется, придумывать что-нибудь станет возможным тогда, когда образование станет более приоритетной общественной задачей, чем, например, приведение кого-либо к соблюдению конституционного порядка.
«Вы знаете, что туда, где труднее всего, охотнее стремится молодежь», – говорит у Ефремова местный начальник отдела кадров. Все-таки в «стройках коммунизма» была своя притягательность. Была. Я сам видел, с каким энтузиазмом строили Братскую ГЭС. А сейчас нам нечем увлечь молодых людей. Уверен, если бы можно было призвать их, допустим, к созданию космической станции, преступность и наркомания в стране резко бы упали.
В статье Уэллса есть принципиальная установка, о которой у Ефремова даже не упоминается, – религия. Соблазнительно дать этому расхождению беглое объяснение: непредставимо, чтобы советский писатель сохранил религиозные предрассудки при зрелом-то коммунизме. Да автора растерзали бы, несмотря ни на какие оттепели. Однако же религия в романе Ефремова есть, во всяком случае то место, которое ей отводил Уэллс, занято. Как известно, свято место пусто не бывает.
В уэллсовском проекте религия (разумеется, свободно избираемая) – это высокое озарение, духовное совершенство, которое цементирует общество. (Под религией вовсе не обязательно понимать соблюдение церковных ритуалов.)
Место религии у Ефремова занимает Наука. В его обществе это – почти божественное предначертание. Наукой на Земле занимаются чуть ли не все население планеты, перед наукой преклоняются, на нее смотрят как на панацею, ей приносят жертвы. Но, может быть, так и нужно: идти вперед, не оглядываясь. Трупы? Перешагнем! Правда, предполагается, что Бог должен быть всесильным, а вот наука, увы, не всесильна. «Гордые мечты человечества о безграничном познании природы привели к познанию границ познания, к бессилию науки постигнуть тайну бытия» (Н. Бердяев). Не следует ли пересмотреть слишком уж подобострастное отношение к науке? И если уж выбирать неперсонифицированного Бога, то пусть это будет возведенная на пьедестал Нравственность. Я уверен, что многие атеисты согласятся приносить такому богу молитвы и покаяние.
«Туманность Андромеды» могла бы занять более почетную полку в библиотеках планеты, если бы обладала более весомыми художественными достоинствами. Не случайно Стругацкие, высоко оценив в свое время роман, говорили о том, что стали писать свой «Полдень», потому что у Ефремова им не хватало живых людей…
«Лезвие бритвы» (1963 г.) автор назвал экспериментальным романом. Научные, научно-популярные и научно-фантастические размышления заключены в приключенческую рамку «в хаггардовском вкусе», ничем с философскими экзерсисами несвязанную. Во второй ипостаси романа мы встречаемся с кладоискателями, похищениями, убийствами, побегами… Для чего же нужен этот эксперимент? Ефремов отвечал откровенно: для того чтобы привлечь к серьезному чтению особей, не склонных к штудированию философских трактатов. И что же – эксперимент удался?
Да, утверждают Е. Брандис и В. Дмитревский в сопроводительной статье к собранию сочинений. «Ожидания оправдались! Публикация «Лезвия бритвы»… вызвала поток читательских писем. И что характерно – как раз не приключенческая канва, а именно научные идеи и размышления автора побудили людей разных профессий и разного возраста, но преимущественно молодых, делиться своими впечатлениями с Ефремовым. Эта книга заставила многих поверить в свои силы, найти жизненное призвание, выбрать соответствующую склонностям работу»…
«Нет, – заявил А. Лебедев в «Новом мире». – Дело в том, что в новом своем романе Ефремов попытался объединить несоединяемое, попытался слить воедино два взаимоисключающих начала – культуру современного интеллекта, современной мысли и антикультуру беллетристических трафаретов пинкертоновщины. Никакого синтеза тут заведомо не могло произойти… Сам тон болтливой несерьезности, банальной «беллетристики» как бы снимает глубокомыслие авторских теоретизирований. Роман оказывается эстетическим кентавром – ученый дополняется шансонеткой».
Боюсь, Лебедев ближе к истине, чем уважаемые ленинградские фантастоведы. Но – прежде всего – не было никакого эксперимента, а была все та же традиционная, пожалуй, ее можно назвать беляевской, схема: научно-популярные монологи и диалоги вставляются в произвольный сюжетный каркас. У Беляева научные выкладки хотя бы впрямую связаны с сюжетом. Главному же герою романа психологу Гирину все равно где, когда, перед какой аудиторией и на какую тему изрекать свои откровения. Хотя, конечно, Ефремов – это не Беляев. Ефремов – своеобразный мыслитель, и мысли у него свои, незаемные. И как бы к ним ни относиться, они, конечно, гораздо интереснее банальных «приключений». У Беляева обычно пропускаешь наукообразные страницы, здесь надо бы поступать наоборот. И вот тут-то комментатор и читатель попадают в ловушку. Над чем размышлять и с кем вести полемику? С Ефремовым или с Гириным? Если рассуждения авторские, то хочется вступить с ними в спор. Ну, например. Ефремов утверждает, что красот^ – это высшая степень целесообразности. Устами его героя он излагает свои теории так, как будто первым обратил внимание на эту самую красоту, как будто не было более чем двухтысячелетней истории эстетики, как будто мудрейшие не ломали головы над загадкой красоты и, как утверждал Л. Толстой в очерке «Что такое искусство?», так ее и не разгадали. А решение – по Ефремову – оказывается, лежит на поверхности, и не только красоты, но и напрямую связанной с ней нравственности, сводясь к народной мудрости: «В здоровом теле – здоровый дух». Если же это мысли героя, то стоит ли кипятиться? От автора, берущегося рассуждать о высоких материях, мы вправе потребовать знакомства с Аристотелем. А с героя взятки гладки, он может только притворяться эрудитом. (Впрочем, будем справедливы: чаще всего Гирин говорит и умно, и дельно.) Гирин считает, что высший эталон красоты природа преподнесла нам в формах женского тела, и пусть себе считает. Но более чем очевидно, что это пристрастия автора, и критик попал бы в смешное положение, если бы стал разбирать недостатки эстетического образования литературного персонажа. Е. Геллер углядел в мелькании грудей и бедер вызов, брошенный писателем официальному ханжеству. К сожалению, ефремовские ню исполнены не в традициях высокого искусства. Когда писатель не справляется с духовным обликом героини, он начинает выписывать форму и объем ее бюста. А если к стриптизам прибавить погони, драки и рауты, то приходится еще раз согласиться с Лебедевым: «Подделывающийся под искусство «беллетристический» трафарет не пригоден для утверждения гуманистических принципов: у него нет человеческого содержания; он не пригоден для распространения истины, ибо по самой сущности своей способен лишь мистифицировать». Эти ипостаси рассчитаны на разные категории читателей. Одни, как их не завлекай Берегом Скелетов, не поймут первую, других будет раздражать вторая.
Есть в книге и фантастические элементы. Только они, пожалуй, еще больше оторваны от общего замысла, чем приключения итальянцев на Берегу Скелетов. Во-первых, это опыты Гирина над одним сибиряком, у которого с помощью галлюциногенных средств удается вытащить из глубин генетической памяти картины далекого прошлого. Он видит сны, в которых представляет себя пещерным человеком, вступающим в схватки с различной саблезубой фауной. Картинки возражений не вызывают и могли бы составить отличный детский рассказ, вроде «Борьбы за огонь». Но к чему они здесь?
Второй фантастический слой связан с некими серыми кристаллами. Если их поднести к вискам, наблюдается выпадение памяти. Снова остается непонятным – зачем понадобилось сообщать сведения, не получающие никакого развития? И наконец третье – необыкновенные гипнотические способности Гирина, который может с помощью заговора вылечить рак, взором заставить убийцу бросить оружие и стать на колени. Подобные эпизоды опять-таки вызывают недоверие к серьезности писательских замыслов, как, например, и беседа Гирина с высшими иерархами йогов, которых, тот, словно на школьном уроке, убеждает в преимуществах коллективизма и правильности выбранного его страной пути к светлому будущему. И, знаете, он почти убедил почтенных аксакалов.
«Цель романа, – писал Ефремов в предисловии, – показать особенное значение познания психологической сущности человека в настоящее время для подготовки научной базы воспитания людей коммунистического общества». Не скажу, что достигнута противоположная цель, но, во всяком случае, не эта. Быть может, сюжетная мешанина и возникла из-за невыполнимости цели. В 1963 году уже было невозможно говорить о воспитании коммунистического человека, делая вид, что идея коммунизма не подверглась эрозии.
После выхода «Лезвия бритвы» проходит пять лет – и каких лет! Разворот движения шестидесятников и мощные атаки на него, появление произведений Солженицына и трактатов Сахарова, диссиденты, самиздат, суд над Синявским и Даниэлем, свержение Хрущева, танки на улицах Праги… Десятой доли хватило бы, чтобы разрушить иллюзии у колеблющихся. Нам, искренне верившим в правильность избранного пути, отречение от коммунизма давалось с большим трудом. Однако делать вид, что ничего не случилось и писать новые «Туманности» было невозможно. Но Ефремов предпринимает еще одну попытку защитить дорогие для него идеи, на сей раз с другого конца. В «Часе Быка» торжество зла он связывает не с победой социализма, а с его поражением. И снова Ефремов был не понят. Бдительные охранители рассудили, что земной экипаж введен лишь для отвода глаз, а изображение того, что происходит на погрязшем в застое и моральном распаде Тормансе, – очередной антикоммунистический пасквиль. Честно сказать, поводы для такого прочтения книга давала, не столько в силу намерений автора, сколько из-за ситуации, сложившейся в стране.
На этот раз я бы не поручился, что и у самого Ефремова не было намерения иносказательно продемонстрировать, до чего довели страну неразумные правители, хотя, несомненно, Ефремов не собирался заниматься «очернением» нашей действительности, как подобные действия квалифицировались в партийных документах. Он хотел всего-навсего исправить допущенные ошибки, потому считал гражданским, а может быть, и партийным долгом указать на них. Но воспитание в обстановке культа личности ни для кого не прошло даром. Автор пугается собственной смелости и старается обложить удары ватой. Поэтому земные герои «Часа Быка» гораздо чаще, чем персонажи «Туманности Андромеды», рассуждают о том, какой прекрасный образ жизни у них на Земле, хотя и нет необходимости каждую минуту вспоминать об этом. Но Ефремов все еще надеется раскрыть глаза членам Политбюро. Сам Ефремов отводил обвинения в свой адрес, говоря о «муравьином социализме», признаки которого он находил в китайской «культурной революции». Но независимо от намерений автора все, что творилось на Тормансе, с неотвратимостью проецировалось на нашу страну. Пожалуй, Ефремов даже заглянул вперед – в книге просматриваются ассоциации с временами застоя и – как его следствия – нынешнего беспредела. Надсмотрщики беспокоились не зря, хотя, если говорить положа руку на сердце, скрывать наши прорехи было уже невозможно. Тем не менее советским писателям не полагалось делать неподобающих намеков. «Римская империя времени упадка сохраняла видимость крепкого порядка», – пел также гонимый Окуджава.
Напрасно удивляются доброжелатели: с чего бы «Час Быка» после своего появления исчез из обихода. В собрании сочинений 1975 года о нем не осмелились напомнить даже авторы послесловия. Удивляться следует тому, что в 1969 году роман появился на свет. Ефремов был не из тех людей, которые кидались грудью на амбразуры, и не ожидал кампании травли и замалчивания, которая сопровождала его до смерти в 1972 году и даже после смерти, когда в его квартире был произведен загадочный обыск…
Если сравнивать ценность произведений Ефремова, я бы отдал предпочтение «Туманности Андромеды». В свое время она была нужнее. В «Часе Быка» автору не удалось внести что-нибудь принципиально новое в уже существующую мировую библиотеку антиутопий, хотя безобидным роман не назовешь.
Самой ситуацией Ефремов обязал себя задаться вопросом о праве цивилизации, считающей себя высшей, на вмешательство в дела чужих планет или – если спуститься на Землю – чужих народов. Он произносит много правильных слов о крайней осторожности и предельной ответственности, с которой надо действовать в таких случаях. Но осталось все же неразъясненным, каким образом планета Торманс стряхнула власть жестоких правителей и влилась в Великое Кольцо свободного человечества. Скорее всего автор и сам не знал ответа, но, видимо, надеялся, что, прочитав его роман, компетентные лица поймут, что так жить нельзя.
Увы, выбираться из инферно сложней, чем представляется автору. В «Туманности Андромеды» он упростил себе задачу, показав готовый результат. Там не было противопоставления. И в «Часе Быка» для Ефремова слово «коммунизм» продолжало оставаться магическим, он простодушно полагал, что коммунистическая мораль – высшая ступень общественных норм, забывая о том, что для многих слово «коммунист» звучит в унисон со словом Антихрист.
Можно ли найти равнодействующую между сегодня еще зачастую враждующими мировоззрениями? Не только можно – необходимо для спасения человечества. Ведь этические нормы как всех великих религий, так и не называющего себя религией гуманизма, близки друг к другу, они складывались, как наиболее разумные правила человеческого поведения. «Важно одно, что во всех великих религиях одна и та же мысль: научить людей всеобщему братству. Не смешно ли биться насмерть из-за вопроса о том, как именно произносить слово братство?» – спрашивал Е. Замятин. Но коли так, то из этого должно следовать, что существуют абсолютные Добро и Зло, а значит, можно будет построить действительно Высшую Мораль. Ефремов касается этой сложнейшей мировоззренческой загвоздки, но верность коммунистической присяге мешает ему занять независимую точку зрения. Ефремов и в «Часе Быка» остановился на полпути. Показав страну, погруженную во мрак инферно, он совершил мужественный поступок, но ограничился изображением – а это уже было. Он подтвердил убеждение в том, что могут существовать совершенные общества – и это уже было. А вот как от первых переходят ко вторым – такая книжка им написана не была, хотя всю жизнь Ефремов пытался ее создать.
РЕЦЕНЗИИ
*********************************************************************************************
–
Ю. БРАЙДЕР, Н. ЧАДОВИЧ
БАСТИОНЫ ДИТА
Москва: ЭКСМО, 1996. – 464 с.
(Серия «Абсолютная магия»). 20 000 экз. (п)
=============================================================================================
Человек по имени Артем, Вечный странник, продолжает свое бесконечное путешествие по мирам супервселенной. Он перемещается благодаря своим особым способностям находить «тропу», связывающую миры между собой. Путешествие это началось лет пять назад, когда в минском журнале фантастики «Фантакрим-Меда» увидел свет роман Брайдера и Чадовича «Евангелие от Тимофея», – первый роман из цикла о «тропе». Затем были «Клинки максаров», и вот наконец третий роман – «Бастионы Дита».
К этому моменту Артем прошел уже множество миров. Он был «каторжником и воином, знахарем и верховным владыкой, охотником на опасных зверей и механиком при невообразимых машинах, каменотесом и советником иерархов», его «возвеличивали как бога и проклинали как демона смерти». На протяжении всего этого невероятного пути за нашим героем наблюдали, направляли и помогали некие Предвечные – великая древняя раса, которая, собственно, и затеяла это путешествие к неведомой Великой Цели.
В последнее время в моду вошел тип литературы, в котором действие совершенно не связано с окружающей нас мрачной действительностью. Мол, народу осточертело созерцание творящегося вокруг беспредела. А тут открыл книгу, погрузился в выдуманный мир и сиди себе, эскапируй потихоньку. Судя по первым двум романам, цикл о «тропе» обещал стать очередным изделием в ряду такого рода фантастики. Если в «Евангелии от Тимофея» еще присутствует элемент социальной сатиры, то «Клинки максаров» уже воплощают собой литературу эскапизма в чистом виде. Однако появление третьего романа в корне меняет создавшееся впечатление. На мой взгляд, «Бастионы Дита» – ключевой роман цикла. Во-первых, в нем наконец выстраивается концепция супервселенной «как комбинации двух совершенно различных по своей природе стихий – Мировремени и Миропространства» и борьбы хозяев этих стихий, соответственно Предвечных и Иносущных. Во-вторых, становится понятной мотивация радикальных изменений в организме героя, осуществленных максарами. Кстати, в «Бастионах Дита» к практической неуязвимости добавляется еще и способность к перемещению во времени. В-третьих, роман, даже вне рамок цикла, представляет несомненный интерес. Это не просто «приключения тела». В «Бастионах Дйта» авторы, может быть, впервые в своем творчестве вплотную приблизились к рассмотрению вечных тем.
И все-же один вопрос остался открытым: «В чем состоит Великая Цель Вечного странника?» Этот вопрос я имел возможность задать авторам лично, зайдя в их гостиничный номер в один из дней работы конвенции «Странник-96». В очередной раз убедившись в верности расхожего афоризма: «Сон Брайдера рождает Чадовича», я услышал, что ответ на мой вопрос известен лишь Предвечным.
Новый роман Ю. Брайдера и Н. Чадовича вышел в издательстве ЭКСМО в серии «Абсолютная магия», само название которой предполагает наличие в произведении хотя бы элементов фэнтези. Ни в коей мере не являясь фэнтезийным фундаменталистом, тем не менее хочу отметить, что «Бастионы Дита» никакого отношения к фэнтези не имеют. Впрочем, это не умаляет достоинств романа.
Андрей СИНИЦЫН
–
Рене ДОМАЛЬ
ГОРА АНАЛОГ
Москва: Энигма, 1996. – 176 с. Пер. с франц. Т. Ворсановой —
(Серия «Rosarium»). 20 000 экз. (п)
=============================================================================================
Рене Домаль (1908–1944 гг.) – известный французский писатель, поэт и, кстати, альпинист-любитель. В аннотации к его незавершенному роману «Гора Аналог» сказано, что неискушенный читатель, ориентируясь по внешним признакам, посчитает это произведение научно-фантастическим. А искушенный увидит в нем эзотерическую притчу. Очень хочется попасть в разряд искушенных, хотя сегодня, когда колдунов, магов, предсказателей, ясновидцев и прочих оккультных жонглеров стало больше, чем ученых, в произведениях Жюля Верна, Герберта Уэллса, Конан Дойла, Рэя Брэдбери, Урсулы Ле Гуин и других классиков НФ легче как раз обнаружить эзотерическое, нежели научно-фантастическое начало.
Чтобы совершить путешествие в «страну эфира» и заглянуть в запредельные миры, Домаль с юношеских лет ставил над собой опыты, подобные тем, которые практиковали Эдгар По, Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Кэтрин Мэнсфилд, Алистер Кроули (послуживший прототипом героя романа Сомерсета Моэма «Маг»), а позже – известный немецкий кинорежиссер Фасбиндер и многие другие. Большинство из них либо рано умерли в результате изнурительных магических упражнений, либо сошли с ума, либо покончили с собой. Плохо кончил и Рене Домаль. Вдыхание паров хлористого калия и бензина, неумеренное употребление спиртного, а также самоистязание по методу Гурджиева привели к чахотке. Смерть, которую Домаль называл своей любовницей и с которой он всю жизнь заигрывал, поставила-таки точку в его ставшей литературным памятником философской истории о восхождении восьми смельчаков на невидимую, но реально существующую гору Аналог. Гора эта является живым организмом и связывает Землю и Небо в некоей космической точке истины. Оставив внизу все земное, избавившись от «старых шкур», герои Домаля вступили на путь Великого Посвящения. Но что стало с ними, мы так и не узнаем, ибо сам Домаль не смог пройти этот путь до конца.
«Хочется думать, – пишет автор предисловия, – что в небытии он наконец достиг того, к чему тщетно стремился в жизни: поднялся на вершину горы Аналог, откуда открывается вид на всю протяженность миров…»
И если уж говорить об аналогиях, то хочется привести в пример другой роман, созданный через пятьдесят лет после «Горы». Речь идет о «Космическом Декамероне» Сагаруса (см. рецензию на эту книгу в «Если» № 10, 1996), в котором десять мужчин и женщин попадают в космическую Черную дыру, являющуюся по сути таким же живым организмом, как гора Аналог. И некий Черно-белый человек, не Бог, не ангел, а проводник (проводник есть и в романе Домаля) пытается приобщить их к одной из истин, которые вложены одна в другую, как матрешки. Персонажи Сагаруса так же, как члены экспедиции Домаля, оставляют позади все земное, включая имена, профессии, биографии и национальную принадлежность. И в «Космическом Декамероне» в ткань повествования вплетены притчи, и здесь посвященные так же обязаны вернуться на Землю, дабы начать новое восхождение к новой Истине…
Вряд ли Сагарус читал Домаля: обе книги вышли на русском языке в один год. Это неважно, ибо он, скорее всего, читал тех авторов, которых читал Домаль. Впрочем, речь о другом: автор «Космического Декамерона», ироничный писатель-фантаст, в отличие от французского коллеги-предшественника предпочитающий телам астральным тела эротически-ощутимые, не только дописал свой роман, но и взялся за его вторую часть, основанную на этот раз на сказках «1001 ночи». Называется она «1002-я ночь». И, надо полагать, правы те, кто считает, что начало века характеризуется открытиями, а конец – их осмыслением.
Ян РОМАНОВ
–
Николай БАСОВ
ЛОТАР-МИРОТВОРЕЦ
Москва: АРМАДА, 1996. – 459 с.
(Серия «Фантастический боевик»). 35 000 экз. (п)
=============================================================================================
Первое, что я отметил бы в сборнике – название. Чаще встречаешь совсем иные приложения к именам героев боевиков: воитель, варвар, железный зверь… А вот «миротворец» – это оригинально, тем более такой миротворец, который хотя и борется со сказочными демонами, но цель его борьбы вполне земная, я бы даже сказал – современная: он останавливает войны между народами. Несомненное достоинство двух объединенных общим героем романов, которые включены в сборник, – их стилистическое единство. В них нет (скажем осторожнее – почти нет) странного и нелепого ералаша, в круговерти которого смешивается несовместимое – собственная выдумка с заимствованиями из чужеродных источников, кентавры с крестоносцами, ковер-самолет с Ильей Муромцем, библейский царь Соломон с российскими ОМОНовцами… Возможно, что авторам такой алхимической похлебки кажется, что они проявляют необыкновенную изобретательность, хотя на самом деле за ней – непроглядная пустота.
Я, пожалуй, и здесь упрекнул бы автора за то, что он более прозрачно, чем следовало, прикрыл щитом псевдонимов три восточные армии, которые движутся на Запад и, кажется, нет силы, способной остановить миллионы одержимых. Да, так было когда-то: именно с Востока шли, сметающие все на пути, орды гуннов и прочих вандалов, поднятые какой-то необъяснимой и, вправду, чуть ли не колдовской силой. Увы, сегодня к безграничным просторам Азии мы должны прибавить и Африку, и старушку Европу. Ах, как было просто и понятно некоторое время назад – угнетенные против угнетателей, покоренные против колонизаторов… Попробуйте приложить сейчас эту схему к горячим, нет, горящим точкам на земной карте – без магии и не разберешься, кто кого и за что режет и бомбит.
Не слишком ли далеко я отошел от книги Басова, который, может быть, и не замахивался на такие обобщения в своей волшебной сказке, где сражаются даже не люди, а маги, неизвестно в какое время и на какой планете? Тем более, что в произведении немало от обычного боевика, в частности, уже приевшиеся бесконечные схватки на мечах и арбалетах. Но все же книгу пронизывает мысль (а вот это уже большая редкость): противостоять надо не только тем, кто на тебя в данный момент нападает, следует искать средоточие Зла, тех злых демонов, которые и бросают в бой миллионы людей, рассказывая им коварные сказки. Когда герои добираются до основы, до причины Зла, на планете воцаряется мир.
И если эта мысль дойдет до читателя, то он поймет, что волшебные превращения, магические заклинания и прочие чудеса – всего лишь символы страшного оружия, которым наш мир, к сожалению, перенасыщен. А волшебные сказки, не рождающие никаких мыслей, может, и писать не стоит.
Всеволод РЕВИЧ
–
Н. ПЕРУМОВ, П. КАМИНСКАЯ
ПОХИТИТЕЛИ ДУШ
Москва: АРМАДА, 1996. – 394 с.
(Серия «Фантастический боевик»). 40 000 экз. (п)
=============================================================================================
Некая раса Неведомых затеяла хитроумные пертурбации с переселением земных душ в иные миры. На первый взгляд их действия объяснены в книге просто и понятно: у Неведомых отсутствует душа, и они решают позаимствовать ее у землян. Но, по-моему, авторы малость запутались в том, чего хотят они и чего хотят их Неведомые. Человек, у которого изъяли душу, и в новом мире остается самим собой с неизменившимся характером и с неизвестно откуда взявшимся тем же телом. Правда, действует он в иных условиях, но такое построение книги практически ничем не отличается от донельзя замордованных параллельных миров. Сами же Неведомые остаются ни с чем: они не присваивают себе чужих душ, не внедряют их в собственную плоть, не трансформируют применительно к своей личности. Зачем же они все это затеяли, к чему им надо переносить землян в иные миры, если граждане продолжают заниматься там земными делами: мошенники – мошенничать, сыщики – ловить мошенников и т. д.?
А раз так, то центр тяжести перемещается в эти самые миры. Очень хотелось бы получить ответ: они реальные или воображаемые? В книге можно найти аргументы в поддержку как той, так и другой точки зрения. Неопределенность создает путаницу. Если миры всего лишь воображаемые (а за это говорит, например, такой факт: немощная пенсионерочка переворачивает ход истории в том мире, куда ее занесло, ликвидировав штурм Зимнего и таким образом создав себе, видимо, уютный мирок без большевиков, который ей так понравился, что она решила остаться в нем навсегда, бросив на опостылевшей Земле свое бренное тело), так вот – если миры существуют лишь в сознании перемещенных, то вся операция весьма напоминает комплексное наркотическое средство «слег» из «Хищных вещей века» Стругацких. (Влияние Стругацких сильно ощутимо в «Похитителях душ»). Но Стругацкие сочиняли свою повесть, чтобы предостеречь человечество от страшной катастрофы, которую исподволь несут в нашу жизнь новейшие механизмы и стимуляторы. Прочитав же роман Перумова и Каминской, человеку скорее всего захочется испытать удивительные приключения; об опасности попасть в плен к их организаторам и речи нет.
Но воображаемые ли перед нами миры или материальные, в любом случае у меня серьезные претензии к их создателям. В одном из миров свирепствуют звездные войны с ненавистными жжаргами: взрывающиеся звездолеты, пылающие тела… Словом, полный восторг. Ни слова в осуждение бессмысленных убийств, ни слова сострадания по погибшим, ну хотя бы какое-нибудь объяснение – во имя чего идет беспощадная атомная и лазерная бойня? Кто эти жжарги? Агрессоры? Грабители? No komment! Может быть, как раз вот этим-то аникам-воинам и не помешало бы прихватить по кусочку человеческой души, дабы они прониклись пониманием, что оружие можно пускать в ход только для защиты попранной справедливости – единственная достойная позиция для авторов и для их героев.
В другом мире пятерка землян, попав на неизвестную планету, пробивается неизвестно куда и неизвестно зачем. Известно лишь, что каждый шаг там грозит смертельной опасностью, хотя уже не от людей. Но опять – кровь, побоища, резня… Дорогие, скажите же, ради чего они обречены переносить такие мучения?
Боюсь, что объяснения у авторов нет. А впрочем, есть – и оно на виду. Книга ведь напечатана в обязывающей рубрике «Боевик», вот они и стараются оправдать ожидания любителей подобного чтива. А их у нас в достатке.
Всеволод РЕВИЧ
–
Анджей ЗАНЕВСКИЙ
КРЫСА
Москва: Локид, 1996. – 587 с. Пер. с польск. Е. Смирновой —
(Серия «Палитра»). 16 000 экз. (п)
=============================================================================================
Один из самых модных прозаиков Западной Европы Анджей Заневский наконец явился и российскому читателю. Теперь мы сами можем убедиться, правы ли те критики, что ставят его в один ряд с Джойсом, Кафкой и Камю.
Действительно, проза великолепная. Мощная проза. Критики, возможно, преувеличивают, но только самую малость. Повести «Крыса», «Тень крысолова» и «Цивилизация птиц», объединенные автором в «Безымянную трилогию», удовлетворят вкусы и ценителя так называемой элитарной литературы, и любителя фантасмагории, вымысла, невероятного сплетения невозможных событий.