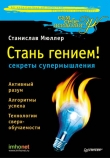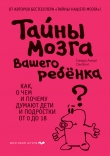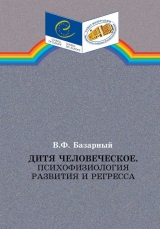
Текст книги "Дитя человеческое.Психофизиология развития и регресса"
Автор книги: Владимир Базарный
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Глав 6
Стресс и душа
Еще со времен Г. Селье (1936) было известно, что люди, систематически подвергающиеся стрессу, могут входить в глубокую депрессию, а также приобретать тяжелые психические и физические недуги. Позже, благодаря работам Р.С. Лазаруса, С. Фолкмана (1987), было описано последствие систематического воздействия стрессов – эмоциональная опустошенность. X. Дж. Фрейденбергер (1974) подобные состояния описал как «психическое выгорание». В.С. Пейн (1982) показал, что синдром «психического выгорания» может приводить к разобщению и дезорганизации психической и эмоциональной сфер.
К сожалению, на Западе этот синдром многие специалисты часто стали изучать как проблему межличностных отношений, переставив местами причину и следствие. Все дело в том, что в психиатрии синдром дезинтеграции психической и эмоциональной сфер определен таким точным диагнозом, как шизофрения. А кто не знает, какие глубокие межличностные проблемы в отношениях складываются у тех, у кого эмоциональная сфера «расщеплена» от психической?
К. Маслач (1982) выделяет три главных составляющих синдрома выгорания: физическое и эмоциональное истощение, отвержение профессиональной деятельности и обезличивание межличностных отношений. В международной классификации болезней (МКБ-Х) синдром эмоционального выгорания (СЭВ) отнесен к рубрике Z73 – «Стресс, связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни». Выходит, быть нормальным человеком и вести обычный образ жизни – это уже стресс? Что же тогда жить в ненормальном образе? Думается, такая постановка вопроса уже чистая психиатрия.
Известно, что СЭВ сопровождается, прежде всего, жалобами на постоянную утомляемость и невозможность выполнять привычные профессиональные обязанности. Назовем известные типичные симптомы СЭВ: прогрессирующая усталость, снижение работоспособности, плохая переносимость ранее привычных нагрузок, мышечная слабость и боль, расстройство сна, головные боли, забывчивость, раздражительность, снижение мыслительной активности и способности к концентрации внимания. Сон, как правило, не устраняет большинство этих симптомов. Следовательно, речь идет о глубинном истощении нервно-психической сферы.
О том, что синдром эмоционального выгорания связан не с психологией межличностных отношений, а с психоэргономикой статистических напряжений в первую очередь зрительно-психогенных, отчетливо показал И. Краузе-Либшер (1976). Самочувствие лиц, занятых на участках напряженного зрительного профиля, мы описали выше. Здесь еще раз подчеркнем некоторые психоэмоциональные и вегетативные расстройства у лиц, занятых напряженным зрительным трудом. Это «невозможность концентрировать внимание», «бессонница», «состояние страха», «пугливость», «боязливость», наконец, «обмороки» «с наклонностью к коллапсу» и т. д. Заметим, что все эти проявления во многом характерные и для школьников, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). И это далеко не случайно.
Еще в 1970-е гг. на Западе появлялись высказывания о том, что труд школьников по своей зрительной и нервно-психической напряженности сравним с трудом взрослых, занятых на участках напряженного зрительного профиля. Позже выполненными под нашим руководством работами (В.Д. Штефанова, 1993), выявлено, что труд школьников по зрительной и нервно-психической напряженности даже намного более продолжительный и стрессогенный. Аналогичные выводы уже давно выплеснулись на страницы центральной прессы, в том числе медицинской и педагогической, следующими кричащими заглавиями:
«42 часа в сутки требуется ребенку, чтобы усваивать школьную программу/» («Учительская газета» от 20.03.2001);
«Синдром хронической усталости у детей» («Медицинская газета» от 3.04.1998, от 13.04.2001);
«Утомленные до смерти» («Московский комсомолец» от 10.01.2001).
В итоге, согласно авторитетному заявлению директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН профессора В.Р. Кучмы «стресс в школе испытывают до 80 % учащихся…» («Медицинская газета» от 20.04.2005). Но если у взрослых с их физической, эмоциональной и психической зрелостью при систематической напряженной зрительной работе «крыша едет» и они падают в «обмороки» и «коллапс», то что же говорить о детях с их психической, эмоциональной и физической незрелостью, на плечи которых мир взрослых свалил еще большие зрительные и нервно-психические нагрузки?.
Это заявление знающего проблемы школьников официального лица должно послужить сигналом для немедленной приостановки всей системы образования. Приостановки до тех пор, пока не будут выявлены и устранены из школьной жизни все стрессогенные факторы. Пока же мы читаем следующие сообщения в центральной прессе: «Ученик 3-го класса умер на уроке» («Жизнь», № 200 от 11.09.2003) и т. д. «Школьница умерла сразу же после уроков. Умерла от острой сердечной недостаточности. При этом никогда не жаловалась на здоровье и посещала все уроки физической культуры». («МК» от 22.04.2008?. А общероссийская газета «Моя семья» прямо ставит точный диагноз: «Сидячаяработа опасна для жизни» (№ 16, 2008).
О том, что данные трагедии приняли уже характер настоящей эпидемии говорят специалисты: «В классической неврологии сложилось представление, что мозговой инсульт – заболевание лиц пожилого возраста, почти не встречающееся у детей. Однако, как показывают эпидемиологические исследования последних лет, инсульты, приводящие к тяжелым поражениям мозга, и иные формы нарушения мозгового кровообращения у детей не редкость и составляют 4–5 % в структуре заболеваний нервной системы, летальность от них – 25 %, около 50%ребят остаются инвалидами» («Медицинская газета», № 18 от 14.03.2001).
Слышат ли их в «Генеральном штабе» отечественной системы образования – министерстве. Думается, что да, ведь заявил же бывший министр образования РФ В. Филиппов: «За последние 30лет мы почти в 2раза увеличили нагрузку. Наш школьник стонет!»
Однако, если и слышат стон детей в Министерстве образования и науки РФ, то все равно бездействуют. А бездействуют потому, что молчат миллионы родителей и руководителей образовательных учреждений. «Мама! Я не дурак! Я не могу учиться!» – закричал ребенок матери и шагнул с 13-го этажа в вечность…
Но и этой уже явной трагедии детей в школах для чиновников из Министерства образования и науки РФ оказалось мало. Всю тяжесть чуждой природе ребенка психоэргономики учебного процесса в эти годы Министерство образования РФ опустило уже на плечи малышей. Именно под шумок «демократических реформ» в эти годы детские сады, как воспитательные учреждения, были вдруг преобразованы в образовательные учреждения (ДЦОУ), т. е. в те же школы! Но никто не может объяснить, во имя какой цели это было сделано. Похоже, никакой целесообразностью, кроме как вредительством, эту реформу (как впрочем и многие реформы) объяснить нельзя.
На это указывают последствия такого преобразования. Из официальных сообщений: в настоящее время, пройдя ДЦОУ, у 90—100 % детей деформирован позвоночник и в 20 % нарушена психика. Многие мамы, узнав о патологии позвоночника у своего чада, начинают метаться в поиске целительного центра, но можно ли его вылечить? Я часто им говорю: «росток пробился к свету, а его возьми и сломай! Можно, но только ценой долгих упорных тренировок тела, а не с помощью лечебных процедур. И то не всегда». Но в тысячу раз легче не допустить патологию позвоночника. Для этого и разработана эргономическая мебель (конторка), за которой ребенок работает, чередуя позы «стоя – сидя».
Однако с каким упорством (а по сути, безумием) начинают защищаться заведующие и воспитатели. Вот их единственный аргумент: «Дети не все же время сидят!» Меня этот аргумент не убеждает, ведь если систематически перекрывать у детей дыхание и при этом заявлять: «Мы же даем им иногда сделать несколько вдохов» – можно ли считать проблему решенной? Движение для ребенка то же самое, что и их дыхание. Вот почему ребенок живет и развивается пока движется, пока дышит.
На каком уровне разыгрывается «пожар» (синдром «выгорания») у детей при организации учебного процесса в режиме обездвиженности и психомоторных стресс-напряжений, какой все-таки субстрат «выгорает» у детей в этих условиях и каковы его отдаленные последствия, будет подробно раскрыто в следующем разделе. При сидяче-обездвиженном режиме организации учебного процесса вся трагедия «выгорания» разыгрывается на клеточно-генетическом уровне. Речь идет прежде всего, о «выгорании» энергетического потенциала митохондрий, долгосрочной клеточной памяти, иммунной реактивности клеток, специфического свечения клеток и т. д.
Эти экспериментально полученные нами факты указывают на то, что пролонгированные статические мышечные напряжения – это своеобразный протяженный во времени эффект «короткого замыкания» в нервном энергетическом контуре и, как следствие, сброс («выгорание») энергоинформационных потенциалов «в никуда». Вот что скрывается за таким удобным для нас вечно сидящим и склоненным над тетрадью (книгой) ребенком.
Кроме того, исследованиями установлено, что только за трехлетний начальный период обучения у детей в 2–4—6 раз уменьшаются творческие способности (М.А. Ненашева, 1998). Так, продуктивность творческого воображения (т. е. продуктивность собственного мыслетворения. – В.Б.) угасла в 2 раза, оригинальность творчества – в 3, целостность миропредставления – в 4, пространственно-временные характеристики творческого воображения (в том числе проникновение в будущее на «крыльях Творца». – В.Б.) – в 2 раза. При этом за эти годы у школьника в 3 раза возросли проявления запрограммированного интеллекта, опирающегося на механически заученную информацию и заданные извне алгоритмы мышления.
Полученные данные позволяют утверждать, что «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) на клеточном уровне сопровождается выгоранием той светящейся субстанции, которая окружает наши клетки и которая вырвала нас из ситуативного мировосприятия и мироотражения, наделив способностью преодолевать пространство и время на «крыльях» творческого воображения. А эта функция, как известно, является функцией не мозга, а коллектора чувственно-образной памяти (души – на языке духовных учений). Следовательно СЭВ – есть синдром выгорания того, что сделало нас людьми – выгоранием коллектора чувство-образной памяти (души), выгоранием света нашего разума.
Дополнительно об этом свидетельствуют следующие наблюдения. Еще в 1980-е гг. с помощью метода последовательных образов (ПО) было выявлено, что при сидяче-согбенной стресс – напряженной учебе утилизированные в память чувств образы могут не только подвергаться искажению, но и распадаться на фрагменты. Если в упомянутые годы такой феномен можно было получить на 18—21-й минуте после напряженного письма, то в конце XX – начале XXI в. эти эффекты можно было получить уже на 2—3-й минуте (рис. 48). Причем эффекты распада последовательных образов мы не могли получить у тех детей, которые обучались в режиме телесной вертикали и телесно-моторной активности.
Кроме того, эффект «расчлененки» воображаемых образов при сидяче-обездвиженном обучении и его исчезновение при переводе детей в режим динамических поз (стоя за конторками и свободное перемещение по классу) заметили и практические учителя. Еще раз напомним как об этом написала «Мегаполис-Экспресс» (№ 3 от 21.01.2002): «Если раньше они рисовали в тетрадках расчлененные тела, зубы и когти чудовищ, – говорит он, – то теперь делают яркие жизнерадостные рисунки».
засвет в режиме стоя и при взгляде вдаль

засвет в режиме сидя при взгляде в книгу

Рис. 48. Последовательный образ «человечка»
Эти факты, а также описанный выше феномен подключения наших телесных ритмов к базовому ритму водителю – ритму «дирижеру» – гравитационно-торсионному ритму земли и неба указывают, что наведение телесной вертикали на гравитационную ось является основой, на которой оформляется и работает коллектор чувство-образной памяти (душа) каждого человека. Речь идет о фиксации по телесно-гравитационному вектору впечатленных в память чувств образов мира, представляющих из себя структурированные образы из волновой энергии света (световые фантомы – «слепки» образов). Другой вопрос, что эти структурированные и стабилизированные по гравитационному вектору образы могут проясняться в свете разума только после их преобразования в рукотворчестве и глубочайшей ассоциации их с духовными носителями наших ощущений – со словами. Но это – предмет уже другого разговора.
Глава 7
Общность некоторых хронических неэпидемических детских болезней
В ходе исследований наше внимание привлекла близость картины электрических потенциалов мозга у тех детей, которые систематически пребывают в обездвиженном стресс-напряженном учебном процессе, а также у страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, детским церебральным параличом и даже… болезнью Паркинсона. Попытаемся с этим разобраться.
Известно, что Джон Паркинсон еще в 1817 г. выделил непроизвольный тремор («дрожательный паралич») в качестве самостоятельного заболевания. Главным клиническим проявлением данного синдрома является непроизвольный высокочастотный тремор рук, сочетающийся со спастической низкочастотной тугоподвижностью. Уже в те годы специалисты знали, что этот синдром обусловлен поражением мозга. Заметим, что в состоянии спазмотонической (спастической) мышечной напряженности наши дети пребывают в учебном процессе на протяжении 10–12 лет (и даже дольше).
И похоже, совершенно закономерно, что спустя более чем 1,5 столетия на Западе описывается необычное аномальное явление среди детской популяции – синдром «дисфункции мозга». В 1987 г. данная патология получила определение как «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (в том числе и «без гиперактивности» – СДВГ). Подчеркнем, что здесь также выявляется поражение мозга и моторный хаос. Как мы отмечали выше, основными симптомами СДВГ является угасание способности ребенка концентрировать («собрать») свое внимание на фоне появления импульсно-взрывных хаотических движений (судорожности).
Имеющиеся работы, в том числе полученные нами данные, убеждают в том, что и при учебно-дидактическом стресссиндроме у детей («УДАВ-СУД»), и при СДВГ и ДЦП на ЭЭГ выявляется следующая симптоматика:
• задержка в развитии вестибуло-мозжечковой мышечно-координаторной системы;
• задержка в развитии базового сенсорного – ритма мозга;
• задержка в развитии лобных отделов мозга, ответственных за волевой контроль;
• дезинтеграция («разобранность») в работе различных структур мозга;
• наличие острых волн.
В этом плане представляют большой интерес исследования О.В. Богданова (1987), Е.М. Богомолова и Ю.А. Курочкина (1987), О.Б. Зубовой (1987) и других, изложенные в фундаментальном труде «Роль сенсорного притока в созревании функций мозга» (подред. Е.В. Максимова, К.В. Шумикина. – М.: «Наука», 1987). В частности О.В. Богданов привел экспериментальные данные о том, что восходящая афферентация является базовым механизмом развития мозга.
Е.М. Богомолова и Ю.А. Курочкин выявили, что даже зрительная депривация негативно влияет на становление вертикальной позы. О.Б. Зубова также экспериментно подтвердила, что воспитание в сенсорно обедненной среде (в том числе при моторном закрепощении) негативно сказывается на развитии мозга и его интегративных функций.
Но если у животных пресечение восходящей энергетической афферентации и других видов моторной и сенсорной активности вызывает недоразвитие мозга, то что же говорить о детях, если на весь период взросления и развития пресечь приток к органам чувств полноценной сенсорной стимуляции и «образовывать» детей 10–12 лет вне собственного телесночувственного опыта. Все это указывает на главное: пресечение процесса вертикализации, ограничения сенсорной и моторной активности детей – означает морфогенетическое недоразвитие мозга и его функций. При этом любое морфогенетическое недоразвитие органов и тканей означает их чрезмерную уязвимость и подверженность быстрому обратному развитию (старению).
Вот почему среди всех отмеченных выше синдромов общими оказались и недвигательные нарушения, выявляемые как при стресс-синдроме «УДАВ-СУД», так и при СДВГ, ДЦП и БП. Ниже приведем такие недвигательные нарушения, которые подробно описали М.Р. Нодель и Н.Н. Яхно (2008) у больных, страдающих болезнью Паркинсона. Это:
• нервно-психические нарушения: эмоциональные, когнитивные, психотические, поведенческие;
• нарушения сна и бодрствования;
• вегетативные нарушения;
• сенсорные нарушения и боль;
• утомляемость.
Особое внимание обратим и на общность тех митохондриальных изменений (дисфункций) при БП, подробно описанных С.Н. Иллариошкиным (2008) и тех, которые описали мы при учебно-дидактическом стресс-синдроме (см. раздел ГУ, 1).
Выполненными нами исследованиями установлено, что спазмотоническая и гиперкинетическая картина при отмеченных выше синдромах радикально и практически однонаправлено меняется при изменении поз тела, и особенно при изменении расположения телесной вертикали относительно земной гравитационной оси. При этом наименьший моторный хаос наблюдается после специальной активизации вестибулярного аппарата (например, после вращательных движений тела, после качания на качелях и т. д.).
Обнаружен и следующий принципиальный факт. По мере укоренения тела в своей видовой вертикали (осанке) спазмотонические и гиперкинетические (в том числе дрожательный тремор) резко уменьшаются. Постепенно мы пришли к убеждению, что спазмотонические состояния, в том числе гиперкинетические реакции зарождаются в недрах все более и более навязываемой детям той сидяче-согбенной стресс-напряженной обездвиженности, на основе которой выстроен учебный процесс.
Такой режим развития детей способствует недоразвитию вестибуло-мозжечковой телесно-координаторной системы, а в итоге ее обратному развитию. Проявлением же возврата к эмбриональным программам построения движений как раз и является гиперкинетический и спазмотонический моторный хаос. Вот почему, как было показано выше, насильственная выработка у детей учебной «усидчивости» оказывает не только деструктивный эффект на состояние мозговых функций, но и негативный генотропный эффект (рис. 30).
Механизм зарождения непроизвольной мышечной судорожности при принудительной обездвиженности весьма ярко и точно описал в своем письме после прочитанной мною лекции педагог Иван Дорофеевич Зуев из Нефтекамска. С его разрешения, приведу текст его письма.
«Владимиру Филипповичу.
После того, как я обдумал ваш доклад, пришел к выводу, что ваша теория иногда применяется подсознательно (по интуиции) некоторыми людьми, которые медицинскими знаниями не обладают. Приведу собственный пример. Я стоял на учете у терапевта Гапеевой, которая меня спрашивала, не бывают ли у меня судороги. Я отвечаю, что не бывают. Оказывается, судорогам я не давал проявляться. Когда в школе я чувствовал, что стягивает пальцы руки, то я прятал руки в парту и совершал движения пальцами интенсивнее и чаще, чем пианист. Когда у меня начинало стягивать ступню ноги, то я ногу ставил на носок и совершал колебательные движения ногой с большой частотой. Длительность в обоих случаях была 5—15 секунд. Сосед по парте, а иногда учителя считали это за шалость. Позу за партой я менял через каждые 5—6минут, что иногда раздражало учителя. В первый год работы учителем, а мне пришлось после двух курсов уйти в академический отпуск, я играл зимой с учениками в фут бол. Восьмиклассники приглашали нас, четверых учителей, так как их не хватало на две команды. Так я стабилизировал порок сердца. После того футбольного года у меня почти прекратились кровотечения, и я вернулся в пединститут.
Работая физиком, я уроки вел в постоянном движении, а что ученикам нужно тоже, я не понимал».
Детям, страдающим различными моторными нарушениями, в том числе ДЦП, мы еще в 80-е гг. XX в. рекомендовали реабилитационные мероприятия, опирающиеся на повышение уровня активности, а в итоге – на раскрепощение функциональных возможностей вестибуло-мозжечковой телесно-координаторной системы. Это происходит за счет минимизации в образе жизни детей сидячей позы, а также специально разработанных зрительно-вестибулярных тренажей, выполняемых непосредственно на академическом уроке.
Результат был получен просто поразительный. Например, у некоторых детей практически отсутствовал базовый сенсорный ритм мозга. Спустя же 1–2 недели систематических занятий, такой ритм начинал четко проявляться. Ниже приведем пример ребенка с ДЦП, у которого буквально за один сеанс вестибуло-мозжечковой и телесно-координаторной стимуляции оформился четкий – ритм мозга.
Отдавая дань поиску коллегами-медиками фармакологических и генетических средств реабилитации больных с синдромами СДВГ, ДЦП и БП, подчеркнем, что полученные нами результаты раскрывают перспективу такой реабилитации с помощью реактивации и запуска функциональной активности системы органов чувств, в эпицентре которых оказалась вестибуло-мозжечковая система.