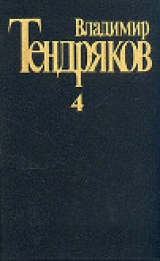
Текст книги "Кончина"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Каждый год еще до рождества Анна начинала печь своим детишкам лепешки из травы и куглины. Траву – щавель, крапиву и еще одну, называющуюся почему-то неприличным словом, – детишки сами заготовляли летом, сушили, а зимой перетирали в труху. Лепешки напоминали по цвету, по виду, свежие лепехи коровьего навоза – черные, с зеленым отливом, с резким запахом силоса и прели, с невыносимым пресным вкусом, которого никак не могла убить соль.
Щедрый Евлампий Лыков подарил хлеб – ешьте! Не мало хлеба, но и не так уж много, чтоб быть сытыми. Его можно съесть за несколько месяцев. Сергей сложил мешки с мукой в амбар, придирчиво проверил и крышу и стены – сухо ли, – закрыл на замок.
Хлеб на замок! Это значит – опять голод, это значит – лютая ненависть к тому, кто повернул ключ, положил его в карман.
Ненависть, а нужно, чтоб верили, больше – нужно, чтоб любили. Не красивые слова, не горячие обещания, а кусок хлеба может вызвать любовь, только он. Еще пока ели сорный хлебец со снятого осенью урожая, а уже глухая недоброжелательность к новому бригадиру растекалась по деревне.
– Пожарский опричничек.
– Хлебец-то для показу с председателем привез.
– А вы что, бабы, пожировать хотели?
– Облизнись да забудь.
И надо было решаться, надо было идти навстречу глухой затаенной ненависти. Никогда в жизни Сергей так не рисковал, пожалуй, даже в войну, где случалось натыкаться в небе одному на трех «мессеров».
Бывшее правление колхоза, ныне бригадный дом – не пожарская контора с колоннами и широким крыльцом, – обычная изба, ветхая и громадная, каких много пустовало в Петраковской. Собрались все жители разбросанной деревни, воздух сперт, трудно дышать – платки, платки, полушалки, кой-где лохматая стариковская шапка. Большинство населения – бабы, у многих дети, все просят есть, а хлеб под замком.
Сергей открыл собрание. Ждали, как всегда, речугу, но вместо речи бригадир вынул из кармана ключ, положил его на стол.
– Вот он… От хлеба.
Тишина, посапывание, поскрипывание. Из полутьмы просторной комнаты уставились с враждебной недоверчивостью глаза, много глаз, бабьих, изболевшихся, материнских.
– Ваш… Я его в руки больше не возьму. Кто хочет, может его взять, открыть амбар, раздать хлеб. Милицию не позову, жаловаться никуда не буду.
Тишина, вздохи, сопение. Недружелюбные глаза.
– Ну, кто хочет взять ключ?
Из-за спин, из-за платков бабий голос:
– Любой возьмет, не петушися.
– Только этого любого я спрошу: сколько месяцев ты, любой, собираешься жить на свете? Три месяца, четыре или больше?
Нелюдимое молчание, нелюдимое, но и озадаченное.
– Съедим хлеб сейчас, весной снова будем голодны.
– Не привыкать!
– То-то и оно, а я хочу, чтоб отвыкли. Для этого и пришел. Хочу хранить хлеб до весны, чтоб работать не на траве, чтоб посеять новый хлеб, чтоб собрать его, чтоб быть сытым вечно. Не согласные, собираетесь весной по привычке в кулак дудеть, травкой закусывать – берите ключ, вот он.
И Сергей сел.
Молчание, тяжкие бабьи вздохи, шевеление.
Секунда, еще секунда, еще… Секунды решали будущее деревни Петраковской. Секунды решали судьбу Сергея. Если кто-то с отчаяния надумает, подымется сейчас среди платков, подойдет, возьмет ключ – будет несколько сытых месяцев, снова голодная весна, снова сволочной бурьян на петраковских полях, а от Сергея отвернутся все – сама деревня, пожарцы, Евлампий Никитич. Он-то отвернется с издевочкой:
– Что, лихач, на первом повороте вывернуло?
И голодные дети, с изумлением глядящие на хлеб, на яйца, на молоко…
Шли секунды, тянулось молчание.
– Решайте, бабы, – угрюмо напомнил Сергей.
Никто не решался. Молчали.
– Анна Кошкарева! – позвал Сергей. – Ты здесь?
– Тута. А что? – из глубины, от стены.
– Выйди сюда.
– А чего?
– Да иди, иди, не съест! – зашипели со стороны.
Зашевелились, стали тесниться, уступая дорогу.
Вышла, встала перед столом. Глаза в пол, на растоптанные валенки, грубый, словно из дерюги, платок закрывает лицо, мужская телогрея с клочьями ваты на локтях, ветхая юбка… Даже по-петраковски – бедна.
– Анна, возьми ключ.
– А чего это я?
– Возьми и храни у себя…
– Не робей, бери уж, коль так. Чего тебе сделают, ежели в руках подержишь.
Не подымая головы, Анна взяла ключ…
– Вы видели – у кого он? Хлеб не мой, хлеб ваш. В любое время можете его взять и разделить… Если захотите.
Сергей встал.
– Все, дорогие товарищи! Собрание окончено.
Хлеб под замком. Ненавидеть за это надо того, у кого от замка ключ в кармане. А ключ этот положила себе в карман Анна Кошкарева. Ее ненавидеть?.. У нее пятеро голодных детей, они сыты не стали от того, что мать держит ключ от хлеба, которым можно накормить всю деревню.
Сергей жил у Груни Ярцевой. С оклеенной старыми газетами стены, из рамки на него теперь глядел с вызовом недруг мальчишеской поры Венька – просторная пилотка на растопыренных ушах, шея тонкая с кадычком, что петушиная нога. Как и все, Сергей питался картошкой, не навез из Пожар для себя харчей. Ключ лежал у Анны, запасы хлеба не трогались, но Сергей изворачивался…
Евлампий Лыков давал семена – какие хочешь, сколько хочешь, отбирай сам. И Сергей отбирал. Семенной фонд лыковского колхоза он знал лучше всех – не зря же целое лето толкался по полям, совал нос в закрома, – лучше самого Евлампия Лыкова, лучше кладовщиков, лучше любого из бригадиров. И он отбирал горстку по горстке наилучшее зерно, сам проверял на всхожесть, помогала проверять Ксюша Щеглова. Бывшая столярка – опытный участок – вся была уставлена блюдцами, заложенными мокрой марлей, и промокашками из школьных тетрадей, на них прорастали семена. Опытный участок работал, но не на село Пожары, на деревню Петраковскую.
А в Петраковской хранился свой семенной фонд, замусоренное зерно ржи, ячменя, тощей, как мышиный помет, пшеницы. Фонд – одно название. Его Сергей пустил на помол, выдавал, но с расчетом. Покрой крышу над скотным – получи, привез сено – получи, вычисти навоз, приведи в порядок коров… Но иногда выписывал и без работы – на детишек, многодетным матерям.
Шла вьюжная зима, на редкость снежная. Лошади, срывающиеся с дороги, тонули в снегу по уши, вытаскивать приходилось на веревках. В эту зиму в Петраковской мало ели травы, хотя и не без того – нет-нет да в морозное утро потянет сладковатым дымком из какой-нибудь трубы, значит – кто-то печет лепешки из щавеля. Даже Сергею приходилось их пробовать, первое время выскакивал на крыльцо, перегибался через перильца, отдавал травку на снег.
Не очень стеснялся челобитничать перед дядей:
– Удели возков пять сена… Подкинь овса. Помогать обещал? Исполняй обещание – самое время.
Евлампий Никитич скорбно вздыхал:
– Ох уж вы, мои союзнички – второй фронт до гробовой доски.
Но все-таки помогал.
Коней в эту зиму не привязывали к притолокам веревками – сами держались, хотя и выглядели не для парада.
Так дотянули до марта.
Через Петраковскую прошли десятки председателей – были среди них и прохвосты, с нищей деревни сумевшие вырастить в районном городе далеко не нищенские по виду дома, были и честные люди, не присвоившие себе лишней горсти зерна. Всех их постигало одно – исчезли без следа – что были, что не были, бог ведает.
На Петраковской висело два миллиона долгу в счет кредитов, выданных государством в разные годы. «Колхоз-миллионер», – в районе еще и пошучивали, а что оставалось делать?
Евлампий Лыков добился – долги списали.
Евлампий Лыков помогал. Мог бы щедрей, но и на том спасибо.
Евлампий Лыков – председатель колхоза, а в лыковский колхоз районные уполномоченные не суются. А это тоже немаловажно. Уполномоченные – чума для тех, кто встает на ноги.
Ни у кого из бывших председателей деревни Петраковской не было за спиной Евлампия Лыкова…
У Сергея – крепкий тыл, он мог наступать не оглядываясь, действовать с напором.
Нищая Петраковская была богата одним – навозом. Десятки лет копился он в скотных дворах, в конюшнях, в сараях самих колхозников, пропадал, перегорая до жирного чернозема, снова копился. Даже те, кто сбежали из Петраковской, оставили после себя около заколоченных изб кучи навоза. В стойлах часто коровы доставали тощими хребтами потолочные балки – утрамбованный, каменно слежавшийся навоз выпирал. От навоза подпревали нижние венцы хлевов, хозяева бросали эти хлева, строили новые. Нищая Петраковская сидела на богатстве.
Богатство, если только вывезешь все подчистую на поля, а иначе – навоз есть навоз, обычная нечисть.
Вывезти, а всего одиннадцать лошадей могло ходить в упряжке.
Трактора на помощь?.. Это пожалуйста. Но за работу тракторов нужно платить. Вырастет урожай или нет – бабка надвое гадала, трудодень же трактористу отдай, и трудодень такой, какого ни разу не получал петраковский колхозник.
Учебная программа академии не предусматривала, как на одиннадцати клячах вывезти горы навоза?
Как?
Решить этот вопрос – значит получить урожай, значит дать на трудодень, значит накормить петраковцев. А быть сытым – счастье, петраковцы пока о большем и не мечтали.
На одиннадцати клячах!.. Кажется, невозможно.
– Что ж, бабы, попросим Евлампия Никитича, пусть трактора подсылает.
– Так ведь, Сергей Николаич, голубчик, обдерет нас Евлампий Никитич со своими тракторами, как липку.
Пришло время заставить Анну-хранительницу выложить ключ от хлеба на общественный стол. Большой, тронутый ржавчиной ключ от амбарного замка. Сергей стоял над ним, глядел на сидевших баб, на свою «божью рать», как с издевочкой называли их в Пожарах. «Божья рать» взирала на Сергея уже не с прежней недоверчивостью, уже как на своего.
– Кому этот хлеб – трактористам или себе?
Вопрос дикий, вопрос крамольный. Этот хлеб перестал быть дареным, его хранили, отказывали голодным детям. Да решись сейчас Сергей отдать его на сторону, хотя бы и трактористам из МТС, – вся вера в него лопнет, лопнут надежды, ни одна рука не подымется на работу, не жди никакого урожая. Хлеб, который так долго лежал нетронутым, – священен.
Трактористам или себе?.. Вопрос дикий, вопрос крамольный и для любого уполномоченного из райцентра.
Как можно спрашивать? От механизации отказываться, MTС игнорировать, технику подменять горбом – в прошлое тянешь, бригадир, наше развитие на том и основано, что грубая физическая сила подменяется силой машины. Через МТС государство получает от колхозов крупный куш, за игнорирование МТС в районе били беспощадно, часто не ограничивались строгачами, просили выложить на стол партбилет. Но уполномоченные обходили стороной лыковский колхоз, а Петраковская жила теперь под лыковской вывеской.
– Се-бе-е! – единым вздохом откликалось собрание.
– Се-бе-е хлеб!
– Как вы думаете, если за тонна-километр вывозки навоза – пуд хлеба? Хорошая цена?
– Цена-то хорошая, только на чем повезем?
– Вот этого не знаю, бабы. Знаю одно – хлеб за навоз. Хлеб сразу, на руки, не авансом.
– Согласимся, что ль?
– Но как же, бабоньки, на чем?
– Да уж одно тягло – на карачках.
– Ежели б было на чем, не платили так.
– И хлебушко-то сразу, нас ведь всегда авансом кормили!
– Авансами мы сыты!
– Эй, бригадир! А без обману?
– Без обману.
– Вывезем! На себе! Не отдавать же хлебушко!
И повезли навоз.
Другого выхода не было. По нескольку баб впрягались в волокуши, тащили по глубокому снегу километрами. За хлеб, за настоящий, не за авансовый, не за обещанный! За хлеб, которого давно не видели вдоволь в Петраковской. Там, где лошади падали, бабы вывозили…
Варварство? Да! Бывший слушатель Тимирязевской академии пошел на это! Но в варварстве и жила Петраковская – зимой коней привязывала к потолку, коров держала под открытым небом, растила сорняки, копила навоз, ела траву. Из варварства без варварских усилий можно ли вылезти? Тимирязевка не предусматривала в своих программах, приходилось действовать на свой страх и риск.
Он метался от одного поля к другому, командовал: здось побольше подкиньте – песочек, там хватит – без того земля добрая.
Знакомая дорога, разграничивающая пожарские земли от петраковских, была закрыта снегом, по ней не ездили зимой. Сейчас ее вновь пробили, набросали вдоль щедрые кучи навоза.
А на бригадном складе уже лежало отборное зерно для семян.
А Сергей находил время, чтобы водить дружбу с трактористами, с той бригадой, которой предстояло подымать петраковские поля.
– Ребята, хочу одного, чтоб вы стали похоронной командой… Что ржете? Поля наши в сплошном сорняке. Семена этих сурепок, осота хоронить, хоронить, да глубже. Без глубокой вспашки, без оборота пласта работу принимать не стану. Учтите это заранее. А за качественные похороны сочтемся, обещаю.
Трактористы смеялись, пили водку, выставленную Сергеем.
Навоз выгребался подчистую. По деревне Петраковской вкусно пахло свежеиспеченным хлебом.
Дорога, разделяющая поля, – там колос, здесь бурьян. Еще посмотрим – у кого как.
И вот в эти-то мартовские дни впервые с удивлением стал вглядываться в Сергея не встающий со стула бухгалтер Слегов. К нему на стол ложились сводки. В сводках из Петраковской – вывезено столько-то тонн навозу. Гм… Цифры красивые, хоть вешай на стенку вместо плаката.
В неподкупном бухгалтерском деле что слишком красиво, то с запашком. Иван Иванович полистал, выудил – вот точная цифра конского поголовья в Петраковской (гм… ну и цифра!), а вот и другая – количество работоспособных… Тракторов не брали… Гм… Одни цифры отрицали другие. Как это понимать, Сергей Лыков? Кто ты – рано созревший мошенник или чудотворец? Чудотворцы, как известно, давно повывелись на земле, зато мошенники теперь не в диковинку и среди молодых.
Слегов следил со своего бухгалтерского стула. Стул – что пожарная вышка, не рассчитывай обмануть. Поживем – увидим.
Весна после снежной зимы выдалась недружная. Сугробы то прели, то каменели под морозами; казалось, конца не будет таянию. Евлампий Лыков испугался затяжной весны, послал тракторы в первую очередь на пожарские поля – петраковцы обождут.
И прогадал. На непросохших полях тракторы застревали, часто ломались, по мокрому и вспашка плоха – грязные мочажины заплывали, подсыхая, запекались коростами, а уж сквозь них, не жди, скоро не проклюнется зерно. Не всегда-то права пословица: весенний день – год кормит, на нее есть иная: поспешишь, людей насмешишь.
Сергей не спешил и выгадал, тракторы дружней работали на петраковских полях. Ходили слухи, что бригадир незаконно задабривает трактористов, в бухгалтерию, разумеется, обличающих бумаг не поступало. Если так, то парень в своего дядю Евлампия, тот при нужде никогда не упускал случая обойти по кривой закон.
Уже в середине июня заговорили о какой-то дороге, на которой стыкались поля петраковцев и пожарцев:
– А по ту сторону ныне всходы-то того, не нашим чета.
Кто ты, Сергей Лыков, мошенник или чудотворец? Всходы-то мошенников обычно растут не из земли, из воздуха.
Сам Евлампий Никитич из конца в конец прокатил по петраковским полям на своем «газике», подтвердил:
– Ай да Серега! Видать лыковскую породу!
Чудотворец?.. Нет, дудки! Давным-давно ушла вера в чудотворство.
Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком – это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.
Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.
И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахроме зелени – лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.
Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости – хлеб вступает в пору юности.
Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх, как знамя. И тронь его – жестковат, чувствуешь заносчивую колючесть, и вглядись – серебром отливает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер, – по зелени волны с металлическим отливом. Юность в разгаре. Серебро на колосе, не то что серебро в волосах, оно здесь вовсе не напоминание старости.
Желтизна, соломенное золото – вот напоминание зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уловить момент, когда он появляется впервые.
Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и летучий, как дыхание. На колосе серьги. Хлеб цветет. Это созрело растение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко.
Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело.
Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, не мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость – молочно-восковой.
Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить момент, как поспеть убрать вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К этому времени уже крадется осень, крадутся дожди…
Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивилась своим полям. Изумлялась до страха, до оторопи…
– Гос-поди! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас… Гос-поди!
Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье. Сергей не исключение, от этого счастья-отчаянья он почернел, ссохся, лицо стало каким-то глинистым, губы спеклись.
Он ждал разговора с дядей Евлампием, ждал, что тот первый начнет. И не ошибся, тот сам приехал к нему, как всегда, кипуче весел, лицо в парной красноте, загривочек гнет вперед лысеющую со лба голову. Хлопнул с размаху племянника по спине:
– Ну, академик! Потолкуем!
Сели толковать.
– Куш большой, Серега, сам вижу, – втолковывал дядя Евлампий. – Но на хромую лошадь не ставь – проиграешь.
– Это петраковцы – хромая лошадь?
– Аль у них уже все ноги выросли? Тебе-то, верно, лучше меня видно – пока хромоваты, одни с урожаем не справитесь. А чтоб сотка хлеба под снег ушла – не допущу! Такой оказии с нашим колхозом еще не случалось.
– О чем разговор, – невинно ответил Сергей, – урожай общий, вместе снимем, ровные трудодни получим.
– Хе-хе, твоей «божьей рати», как пожарцам, одинаковый трудодень? Не рановато ли?
– Иль «божья рать» – люди хуже других?
– Доказательство, что ровня, маловато. Пожарец свой трудодень не одним десятком лет достигал, твои божьи люди хотят годом достичь. Но выйдет, парень. Хозрасчетик я покуда не нарушу. Давай полюбовно: мы поможем, а за помощь возьмем, что положено.
– А петраковцам с их же собственного урожая остаточки?
– Разве не хватит? Привыкли как сыр в масле кататься?
– Чудеса в решете, дядя Евлампий. То ты боялся, что петраковцы пристроятся к твоему пирогу, то теперь сам норовишь откусить от горбушки петраковцев. Или равные права петраковцам, или уж хозрасчет до конца!
– Н-ну, н-ну, – произнес Евлампий Никитич с угрозцей. – А знаешь, чем для тебя пахнет, ежели хоть один га под снег упустишь?
– Знаю.
– Нет, видно, плохо знаешь. Сам я тобой заниматься не стану, а районным властям сдам – растреплют в пух чижика.
– Идет.
– Н-ну и н-ну…
Евлампий Никитич уехал с убеждением: поклонится, куда ему деваться, хозрасчет хозрасчетом, автономная республика, а самостоятельности – шиш! Даже с МТС договора заключить не имеет права, трактор и комбайн получи из его, лыковских, рук.
Сергей заставил всех баб написать мужьям и сыновьям письма, тем, кто давно отбыл из своей деревни, работал на стороне, – берите отпуска, приезжайте на время уборки, внакладе не останетесь. А эти беглые мужички не все жили в дальних краях, многие работали рядом – на сплавучастках, на лесопунктах, – наезжали гостевать чуть ли не каждую субботу, обновленные поля видели своими глазами и, уж конечно, задумывались об урожае.
Хлеб поспевает не в один день. На местах повыше и попесчаней – зрел, а в низинах, на мокроте – с молочком, а то и вовсе зелен, как лук. «Бабы! У каждой из вас не чугун, а крестьянская башка на плечах! Не ждите бригадирского указа, соображайте, ловите момент, бросайтесь с серпами!..»
У Евлампия Никитича колхозник не мог колдобину на дороге засыпать без приказа, для этого, скажем, лошадь нужна, чтоб песок привезти, а уж тут спросись председателя. В бригаде Сергея, если сам сообразил, сам без подсказки сделал – похвала, и честь, и награда к законному трудодню.
Нельзя предугадать, нельзя наперед запланировать ту силу, которая появляется с надеждой. «Неуж жить начнем». Разумом предугадать нельзя, а учуять можно. «Божья рать» петраковская с начала августа до глубокой осени воевала с хлебами. «Жить начинаем, не дай-то бог, чтоб сорвалось!» Воевали за жизнь, не шуточки.
И вот – чудо в Петраковской! По всему району шум. Еще весной эта деревня считалась одной из самых захудалых, бывший безнадежный «колхоз-миллионер». А урожай-то ныне выше пожарского! Кто мог ждать?
В докладах начальства, в районной газете склонялось имя бригадира Лыкова; нет, нет, не того, не Евлампия, второй Лыков объявился…
Пропыленный «газик» мял колесами до звона прокаленную стерню.
Сжатые поля всегда кажутся слишком просторными, даже небо над ними велико и безжизненно. На окраине грустного стерневого моря, под высокими выбеленными небесами копошилась куча баб – подоткнутые подолы, открывающие исподние белые юбки, задубеневшие черные ноги, цветные платочки. Они серпами добирали остатки хлеба, уже полегшего, перепутанного, который не возьмет комбайн, в котором увязнут ножи жаток.
Иван Иванович Слегов впервые за много лет решил оторваться от просиженного стула, вблизи всмотреться в странного человека, который высылал ему в сводках пляшущие цифры. Если расставить все отчеты по порядку, получится сумасшедший бег с галопцем, с коленцами, с остановочками. Цифры не купишь, рано или поздно они вскрывают нутро того, кто их посылает. Вскрывают? Не всегда-то, оказывается.
Реденькая россыпь баб, и море стерни за их спинами. Нельзя поверить, что эти бабы освободили столько земли от хлеба. И опять в голову ползут цифры, цифры: столько-то га под яровыми, столько-то рабочих рук. Неподкупные бухгалтерские цифры – и кучка баб против них.
Сергея Слегов увидел поздно вечером. Тот, на ночь глядя, проводил с бабами бригадное собрание. Пришлось терпеливо сидеть, слушать бабий гвалт, пока-то угомонились, пока-то не разошлись по домам.
Наконец они вдвоем выбрались на крыльцо. Иван Иванович пристроился на ступеньке в обнимочку с костылями.
Ночь стояла безлунная. В воздухе растворены призрачные осенние запахи увядающих на корню трав. Небо накатно-черное, трубы над крышами можно угадать лишь по пустоте – нет в тех местах звезд, а должны бы быть. На накатном небе мутная рваная дорога Млечного Пути видна отчетливо.
Петраковский бригадир, как нахохлившаяся курица на яйцах, – весь внутри, словно забыл, что рядом с ним живая душа.
– Кхм!.. – кашлянул Иван Иванович. – Я к тебе не от колхоза, право, не с ревизией – не сиди, ради бога, клушей. Растревожил ты меня.
– Чем?
– А я и сам толком не знаю. Лихими прыжочками. Я сам когда-то прыгал, да вот спину сломал.
– Зачем тревожиться, Иван Иванович, ты лучше порадуйся вместе с нами.
– Готов радоваться, парень, – почти сурово ответил Иван Иванович, – если докажешь – прочно, не на час твоя удача.
– Пока на год, до нового урожая. За новый кто может поручиться наперед. Но на год-то петраковцы теперь сыты.
– Но ты, верно, хотел бы, чтоб сытость не на год – навечно.
– Хочу.
– И должно, соображения на этот счет имеешь.
– Имею. Пахать, сеять, урожай собирать, этот год перепрыгнуть.
– И в силы веришь?
– В чьи?
– Ну, в свои хотя бы.
– О моих силах говорить не стоит. Велика ли сила в одном человеке.
– Но без тебя бы Петраковская не взбурлила.
– Я – спусковой крючок в ружье, а ружье-то было заряжено.
– Чем? Какой заряд в бабах?
– Вот как-то в войну, – заговорил негромко, с ленцой Сергей, – недалеко от Волчанска какого-то прохвоста поймали. Полицая, что ли?.. Вешал наших при немцах. Одну женщину привели, чтоб опознала. У нее двух сыновей повесили, один, кажется, совсем мальчонка… Увидела она того и стала рваться… Да-а… Трое солдат держали, раскидала, как щенят. А ребятки – лбы здоровые, и баба-то уж не молода, с сырцой. Вот и ответь: откуда у нее сила взялась? Откуда у петраковских баб сил хватало на себе по снегу навоз на поля вытащить? Теперь оглядываются, сами не верят.
– И на будущий год на этот заряд рассчитываешь?
– Ну нет. Встать на ноги трудно, а раз встали – зашагаем, пожарцев-то нагоним.
– Все в это верят?
– Все.
– Хоть бы открыл, как заставил?
– Я? Нет, я не заставлял. Поля заставили, они вместо бурьяна довольно наглядно хлебом обросли. А разве можно сказать, что эти поля изменил я? Не я на них навоз таскал, не я их выпестовал.
– Ну да, ты же крючок под скобочкой, заряд в бабах, они стреляли. Крючочка, видишь ли, им не хватало. А крючочка ли?
– Иван Иванович, право, удивляюсь тебе.
– А ну-кось?
– До седых волос все героя ищешь. Героя, вождя великого, который один на блюдечке может жирное счастье принести.
– А что, нет таких?
– Один для всех?.. В одиночку?.. Думается, что нет и быть не может.
– А ведь, парень, эта песня тоже не свежая – братство да равенство до такого конца, что признавай – у всех под шапкой от бога наложено одинаково.
– Но даже если под шапкой мозги гения, то лучшее, что можно этими мозгами сделать, – указать, где оно, а брать-то все равно придется сообща, компанией. Нет такого героя, чтоб в одиночку от начала до конца счастье довести. Ильи Муромцы только в сказках бывают.
Иван Иванович долго молчал. Тихая ночь глядела звездами на чужую для бухгалтера деревню.
– Указать – где?.. – повторил он. – А у тебя не случалось такого, когда ты сам видишь ясно, пальцем указываешь, а другие слепы?.. Даже на удивленье слепы!
Сергей подумал, ответил решительно:
– Нет, не бывало.
– У меня было.
Сергей в темноте пожал плечами:
– Наверно, у меня под шапкой не больше других лежит, слишком далеко не просматриваю, вижу то, что и обычный человек разглядит.
– Счастливый ты, – вздохнул Иван Иванович.
Сергей вдруг засмеялся:
– Вот это, Иван Иванович, я уже от тебя слышал. Помнишь, ты попрекал, когда в академию меня направляли: мол, в рубашке родился.
– М-да… Винюсь, попрекал… А впрочем, чего виниться, я и тогда прав был. Ты – в рубашке, а я, похоже, в тенетах, всю жизнь в них путаюсь до сего дня… Ну, будь здоров. Ничего, ничего, сам подымусь. Ты иди шофера толкни, он в машине спит…
Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз – семья, один за всех – все за одного. Еще не успела опуститься оглобля на спину Ивана, но уже хрустнула пополам вера в колхоз.
Тысячи лет попы втолковывали: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тысячу лет, а проку ничуть. Человек так уж создан – больше всего любит себя, никак не соседа. Некрасиво, но что поделаешь – такова жизнь. Природа не барышня, сантиментов не признает.
Иван Слегов служил колхозу, но в душе не верил в него. И увесистые миллионные доходы, которые собственноручно записывал в бухгалтерские книги, не убеждали. Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет – у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то нет и семьи, есть казенная организация.
Вера треснула до того, как опустилась оглобля, но временами находило – а вдруг да… Смолоду пришиблен – болеть до старости.
А что, собственно, показал Серега?.. Волокушу с навозом вывезти вместе с соседом легче, чем в одиночку. Так это и сам давно знал. Но ведь если с соседом легче, то, значит, к соседу и уважение – без тебя, друг, никак! Уважение не от сладенького «возлюби», нужда заставляет.
Евлампий Лыков приказывает: делай, не то круто накажу, бойся! Что ж, приходится… Страшновато за себя, никак не за соседа. «Бойся» – то, выходит, вроде глухой стенки – людей разъединяет.
На друга Пийко киваешь, а сам?.. Считаешь доходы, прячешь их под замок в шкафы. Самое главное, самое интересное под замок – какова польза от труда? Зачем тебе знать, верь на слово, покорно слушайся. Ты – скотинка, над тобой – пастух с кнутиком. Разве тоже не строишь стенку, разве не разъединяешь? А после этого неверие: дружной семьей – да быть не может! Противно естеству!
Иван Иванович ворочался грузно на сиденье рядом с шофером, кряхтел.
Всю жизнь был убежден – выше других, умнее других, и несчастья оттого, что далеко всех перерос, где разглядеть высокого. И понять не хотел: не Ильи Муромцы прокладывают по земле молочные реки. Фитиль без лампы гореть не будет. Все как-то скрашивало костыльное житье-бытье – не признан, да не другим чета. Серега-молокосос открыл знакомое. Он открыл, ты отмахнулся – обидно! Уважение к себе он у тебя из души вырвал. Ох-хо-хо!..
Иван Иванович кряхтел.
Сергей Лыков стал районной знаменитостью, тащили в президиумы, усаживали бок о бок со старшим Лыковым, требовали – выступай, встречали аплодисментами, не дав раскрыть рот.
Чудо в Петраковской… Всем еще нравилось, что чудотворец держится скромно, от своей святости отмахивается:
– Такие чудеса творить не трудно, когда из богатого колхоза ветер в спину дует…
Его речи не могли обидеть Евлампия Никитича, настораживало другое: районные руководители слишком уж часто, слишком уж настойчиво повторяли: «Старшему Лыкову выросла достойная смена!»
«Смена… Гм!»
Евлампий Лыков не допускал, чтоб районное начальство гладило его против шерсти. Только попробуй, Евлампий Никитич сделает кругом марш из кабинета. К себе в село он, скажем, не уезжает, а оседает поблизости – в квартире, которая специально снята в городе, чтоб знатный председатель мог отдохнуть от заседаний. В этой квартире – телефон, уж он-то непременно зазвонит:
– Евлампий Никитич, что уж так-то… Зайди, обсудим без горячки. Евлампий Никитич, я жду…
И Евлампий Никитич по тому же телефону вызывает:
– Машину мне!
Шофер спешно с окраины города – он не с Лыковым квартирует, у своей родни – гонит машину, чтоб Лыков мог проехать триста метров до крыльца райкома. Не пешочком, не щелкопер какой-нибудь – солидный хозяин. Подкатит, выйдет перед райкомовскими окнами, в дорогой шубе, важный, насупленный, подымется вверх, не снимая высокой шапки ввалится в кабинет, усядется – величавый и оскорбленный, готов выслушать извинения.
Кому-то он не по нутру, кто-то его смены ждет…
И маленькое, никем не замеченное событие, но сам Евлампий Никитич его особо отметил. Главный бухгалтер Слегов сорвался со стула, самолично ездил в петраковскую бригаду. Такого никогда не бывало! Ванька Слегов, поседевший советчик, правая рука, спасенный от тюрьмы! Ванька Слегов никогда не ошибается, неужели и он верит, что песенка старого председателя спета?..








