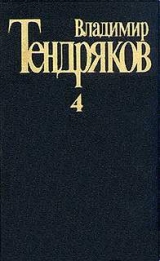
Текст книги "Апостольская командировка"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Тетка Дуся вздохнула:
– Ох-хо-хо! Сдается мне, одной вы косточки.
– Кто? – удивился я.
– Ты да Михайло – два лапотка, и оба лыковы.
– Да я с ним!..
– Уже само собой, ни ты с ним, ни он с тобой за стол не сядете. Друг за дружкой брезгаете. Он за святое дело и мать, и отца в землю вобьет, а ты?.. Ты эвон жену с дитем бросил.
Мутнел за окном тихий травянистый проулок, сидела рядом на лавке тетка Дуся, как всегда – на минутку, вот-вот спохватится: «Ой, забеседовались мы!» Сидит, растворившись в темноте. А как бы хотелось видеть сейчас ее лицо, ее глаза, отгадать по ним: нечаянно ты ударила или же с умыслом?..
С умыслом?.. Тетка Дуся?.. Более кроткого человека я не встречал в жизни. Чтоб так больно, с умыслом – нужна жестокая мстительность, нужна ненависть. Тетка Дуся ненавидит меня?.. Нет! Она так думает, таким меня видит: «Ты да Михайло – два лапотка, оба лыковые». Он – отца-мать, я – жену и дочь… «за-ради святого».
Мутнело окно, душные избяные сумерки прятали нас друг от друга – тетку Дусю от меня, меня от нее. Мы рядом – и между нами пустыня. Мы рядом – и на разных концах земли.
Она не понимает. Она, которая каждый вечер молитвенно разговаривает с Иисусом Христом. Постыдно корчить из себя Христа, не постыдно к нему стремиться!
Я стремлюсь… Я хочу стать глашатаем той сказки, в которую всем существом верит тетка Дуся, сказки, скрашивающей ее нелегкую жизнь, глашатаем того, что объединяет ее, красноглинскую бабу, со всем человечеством, с теми, кто жил когда-то, живет сейчас, кто еще не родился, кому суждено будет жить по материкам и океанам нашей планеты, а возможно, и за ее пределами. Я мечтаю объединить себя и тетку Дусю с великим и загадочным племенем людей Земли! Стремлюсь к этому! Иду на жертвы!
Да, жену! Да, дочь! Да, самых дорогих мне на свете! Бросил – да! Ради великого! Да! Всечеловеческого! На меньшее не согласен. Не собой жертвую, не собственной жизнью – б ольшим! Так скажи мне спасибо, страдающая душа, изумись моей бескрайней жертве, ну хотя бы пожалей. Стою того. А ты?..
«Эвон жену и дите за-ради святого». Эвон… Осуждение. После такого я должен люто возненавидеть – себя… или тебя, тетка Дуся. Люто, непрощающе, навсегда!
За окном в густых сумерках, за оцепенелыми избами доигрывают свои последние песни гармошки, доносятся девичьи голоса, живет Красноглинка просто, бездумно, по-своему счастливо. Убитый и растерянный сижу я в темноте.
Себя или ее?.. Не знаю, кого ненавидеть.
Будь проклята, обидчица!.. Нет, не смею. Не смею даже стонать, корчусь в темноте втихомолку.
– Ты, любый, и в бога вот веруешь, и жалостлив вроде, а не замечаешь, как вокруг тебя кипяточек нагревается…
Я молчал.
– Того и гляди, ошпаришь и сам сваришься…
Я молчал.
– Силен бес и горами качает, а уж людьми-то, словно вениками, трясет. Беса-то ищем в других. Михайло всю жизнь только тем и занимается: ищет беса да вышибает! Ты помоложе, еще не развернулся. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие! Забеседовались мы, однако! Ну-кося, свет включу, корове пойло надоть вынуть…
Я, боясь, что Дуся при свете разглядит мое лицо, поспешил в свой закуток, на свою слоновью койку.
Одной кости с Ушатковым…
Ради святости жену и дочь…
И от этой святости – кипяточек не греет, а ошпаривает.
Постыдно корчить из себя Христа, не постыдно к нему стремиться. Я стремился к Христу самозабвенно, отчаянно, с надрывом, с жертвами… Жену и дите за-ради святого… Стремился и пришел… к Ушаткову.
Что я такое? И что такое мой бог?
За окном далеко девичьи голоса пели частушки:
Ах, я иду и пыль пинаю
Туфелькой шевровою…
Поют, гуляют, целуются, а у сиротливой тетки Дуси в углу лежит занесенный странным ветром сиротливый человек. Поют, гуляют, целуются – нормальная жизнь. Я недоволен этой нормальностью, чего мне хочется?..
И что станется с людьми, если они меня послушаются, перестанут жить, как жили, – нормально?.. Жен и детей за-ради святого… Страшно! Страшно!
И вновь старые вопросы. И вновь у разбитого корыта. В который раз!..
* * *
Мы кончили все земляные работы – навозохранилище и ямы под фундамент. У плотников был почти готов сруб. Рубленные в лапу бревна Гриша Постнов нумеровал масляной краской, чтоб не перепутать – какое на какое потом класть. Завтра сюда со строительства ремонтных мастерских перекидывают каменщиков.
После обеда решено было отметить «по-семейному». Митька Гусак прошелся с «шапкой»:
– Гони по рваному с рыла.
И сразу же как из-под земли вырос гость. В шляпе, утратившей цвет и форму, но сохранившей ленту, воспаленно красная рожа, мокрогубый рот, растянутый до ушей в улыбке, – Мирошка Мокрый. Он услужливо рвал у меня из рук лопату, кричал весело:
– Скос-то неровно взял! Глянь со сторонки. Ну кто так скос берет, конфуз тебе в селезенку. Учен, да плохо! И-их! Алли-го-рия!
Бросал лопату, выскакивал из ямы, мчался к плотникам:
– Гришка! Гришка! Давай полустеночки-то горушкой сложим. Учи таких сопляков порядку!
Пугачев остановил Мирона:
– Зря, Мокрый, стараешься. Сегодня не обломится.
– Что так? Аль строители скупы стали? Аль я вам не компания? Какая компания с Мироном пропадала? С Мироном всюду веселье.
– И все-таки, веселый человек, отчаливай да не мешкай. С нами сегодня Валентин Потапыч сидит.
– Эхма! Алли-го-рия! Чего бы это Густерину сегодня – праздник не тот, чтобы сам председатель веселился. Чего председателю-то с вами праздновать? И всего-то навсего – землю повыкидали…
– Не твоего ума дело. Катись подобру, а то на ручках унесем.
– Да уж ладно. Э-эх, аллигория! С Густериным Мирон не путается, дорожку уступает… Ладно, ладно…
Исчез.
Я не видел Густерина с того разу, как он нанял меня на работу, даже издали. Ни разу еще председатель не появлялся на нашей стройке. Но как дух божий, Густерин постоянно окружал меня: «Валентин Потапыч просил… Валентин Потапыч указал… Валентин Потапыч обещал…»
И вот он, парадно осиянный прокаленной (тронь – зазвенит) лысиной, морщины в застывшей прижмурочке (полевое солнышко, видать, вечную улыбочку приклеило), выгоревшие жесткие усы, дедовские подслеповатые очки и юношески легкомысленная рубашка – ворот апаш, рукава короткие, и обнаженные выше локтей руки мускулисты, и походка упругая, молодцеватая – почтенно стар, задорно молод, зрелой середины в нем нет. Подпрыгивая прошелся вдоль ям, приготовленных под фундаменты, заметил меня:
– Здравствуйте. Как жизнь?
– Ничего.
– Бежать не собираетесь?
– Если не прогоните.
– Как, бригадир, он себя показывает?
– Старается, – ответил Пугачев.
Он мог бы отвалить и щедрее: старается не значит справляется, а я научился вымахивать лопатой, право, не хуже штрафника Митьки, отстаю только от Саньки Титова, но с тем тягаться можно лишь на экскаваторе.
– Зачем же гнать вас – живите, если хлеб наш вам солон не кажется.
– Эй, ребята! – повернулся Пугачев к братьям Рулевичам. – Накрывайте на стол!
И Рулевичи, подхватив топоры, принялись хозяйничать: пара взмахов – отесан кол, пара ударов обухом – кол вогнан в землю, еще кол, еще – четыре ножки, на них лег сколоченный из тесовых обрезков щит – готов стол с занозистой столешницей. На нем выросли три зеленоватых поллитровки, варварски разодранная банка килек, на мокром газетном листе – вялые, прошлогоднего засола огурцы, колбаса, которую один из Рулевичей тут же порубил топором, буханка хлеба, располосованная на обильные ломти, мутноватые граненые стаканы…
– Милости просим, не побрезгуйте.
Густерин сел за стол и бросил на меня из-под очков быстрый, изучающий взгляд. И сразу осенило…
Как я прост! «Семейная выпивочка», председатель колхоза на ней ни с того ни с сего. Это же заговор против меня! И глава его не Пугачев – сам Густерин. До Ушаткова дошел слух о моих «душеспасительных беседах», а до Густерина разве мог не дойти? Ушатков действовал без ухищрения, с похвальной простотой: «Берегись, посажу!» Густерин не из таких, читает исследования Веселовского, интеллигентный председатель – выпивка по случаю, застольный разговор, противник, позорно прижатый к стене…
Но только осмотрительно ли это с вашей стороны, товарищ Густерин? Вы же знаете: я из-за своих убеждений решился сменить Москву на Красноглинку, семью на тетку Дусю. Значит, убеждения-то не простые, убеждения отчаявшегося, их сокрушить вряд ли можно так вот просто, с первого раза. И вряд ли вы, товарищ Густерин, здесь, в Густоборовском районе, смогли пройти такую военную подготовку, какую прошел я и в ночных студенческих спорах, и в редакции журнала, где приходилось схватываться с теми, кто находится на переднем крае современной науки, с дерзкими и зубастыми молодыми учеными. Я бретер, Густерин, я закаленный дуэлянт в диспутах! Что же… вы сами того хотите, скрестим шпаги.
Садясь за стол, я испытывал подмывающую отвагу.
Выпили по первой, чтоб «смочить корни» будущего коровника. Густерин пригубил, поставил стакан. Наступило неловкое молчание, лица ребят торжественно натянутые, выжидающие. Митька Гусак попробовал сострить: «Милиционер родился…» Никто не поддержал.
И Густерин начал наступление:
– Признаюсь, я сам напросился в гости.
– Ради меня? – пошел я навстречу.
– Ради вас.
– Чтоб задать вопрос: как я дошел до жизни такой?
– Если неприятно – не отвечайте. Поговорим о коровнике.
– Почему же? Им отвечал, и вам готов. Но прежде вопрос: вы верите, что когда-нибудь ваш колхозник по утрам будет купаться в собственной ванне?
– Гм… Верю, иначе был бы плохим председателем.
– И я верю – будет. И пугаюсь этого.
– Нуте-с?
– Добиваться жирных щей вместо щей пустых, водопровода вместо колодца, ванной вместо лохани – да, одаривать людей, но вместе с тем, увы, в чем-то и обворовывать их.
– Эх как же так? – не без враждебности удивился Пугачев.
Но Густерин не удивился, даже поерзал от удовольствия.
– Интересно, интересно, – сказал он.
– Это как же так? Ежели я эти жирные щи заработаю, – значит, обкраду себя?
– Объясню. Не сразу. Прежде спрошу тебя, Пугачев: как думаешь, кому сильней хочется получить – голодному кусок хлеба или пообедавшему пирожное?
– При чем тут пирожное? – сердито проворчал Пугачев. – Не темни.
– Пирожное, может, и ни при чем, да на нем человеческая натура вылезает. Если ты будешь сыт не только хлебом, но и пирожным, и удобствами, вроде ванной да сортира в кафеле, ты, возможно, и станешь еще чего-то желать, но уже наверняка не столь сильно, как прежде. Прежде-то брюхо песни пело, простого хлеба просило, не исполни его желание – ноги протянешь. Тут уж поневоле сильно желаешь, сильней некуда. А при ванной, при большой сытости… Машину бы иметь, дом просторней, но это, право, не вопрос жизни и смерти. Твои-то желания не имеют прежней силы. А жизнь, где не очень-то желается, не ждется ничего впереди, вряд ли покажется счастливой.
– Интересно, интересно…
Пугачев недоуменно пожал плечами, но заговорил Михей Руль, на этот раз не в мою защиту:
– Что тут интересного, Валентин Потапыч, никак не пойму. Чушь какая-то. Выходит, накорми меня, тогда я испорчусь.
– Вредительская философия, – откликнулся Гриша Постнов.
– Ишь ты, лягнул, – усмехнулся Густерин. – Копытом только лошадь правоту доказывает.
– С белой ванной черненькая тоска приходит! Как вам это доказать?! Живущий впроголодь никогда не поверит, как тяжело ожирение. Не рассчитываю, что и вы, Валентин Потапович, поймете, вы, честный рыцарь большого куска, всю жизнь положили на то, чтоб он рос в руках колхозника. Но в конце-то концов этот кусок вырастет до такой кондиции, что уже дальше его рост никого не будет радовать, цель потеряется. Конечно, сейчас в Красноглинке эти опасения кажутся смешными…
– А если нет? – спросил Густерин. – Если скажу, что каждому порядочному председателю теперь приходится задумываться – не хлебом единым жив человек…
– Разве?
– Не дождались, когда ванны кафельные будут, раньше времени бесимся, – съехидничал Густерин.
– Что-то не заметно ожирения в Красноглинке.
– Вам незаметно, потому что не знаете, как эта Красноглинка раньше жила. Тем, кто жрал толченку из коры, а теперь кусок хлеба свинье бросает, это заметно. Сыты! Молоко пьем, пиво варим…
– И самогончик втихаря, – постненько вставил Митька Гусак.
– Раньше красноглинец в город от толченки бежал – понятно. Теперь бежит тоже, от хлеба к такому же хлебу – непонятно. Ванны да сортиры его манят? Ой ли? Найдется ли такой дурак, который рассчитывает, что его в центре города квартира с ванной ждет, догадывается – ждет-то его общежитие, да еще барачное, в одной комнате – куча мала. Говорят, культуры нехватка, мол, это гонит. Культурой что хвалиться – не богаты. Но уж так ли тоскует беглый красноглинец по этой культуре? Попадая в город, он на театры да на музеи не набрасывается. В кинишко идет, какое и мы здесь крутим каждый день. Я и на самом деле, как вы выразились, рыцарь большого куска, но и меня, рыцаря, жизнь заставляет дальше этого куска заглядывать. Дозрел.
– Тогда сделайте еще один шажок вперед и дозрейте, чтоб признать: нужна людям – всем людям, на всем белом свете! – помимо жирного куска, какая-то наивысшая цель. Учтите, не к нищете зову, не к тому, чтоб жирный кусок изо рта у трудящегося вырвать, к единой цели! Бесцельность опасна! К единой, не на день, не на год вперед – на все времена, пока жив человек!
– И как вы представляете эту всевышнюю цель?
– Конкретно? Никак. Она для меня непостижима.
– Вот те раз! – изумился Густерин. – Это что же – иди туда, не знай куда, принеси то, не знай что?.. Ребята, вам понятно?
Пугачев проворчал:
– Мура.
– Не знай что?.. Но разве обязательно знать солдату замыслы главнокомандующего? Если у солдата есть вера в гений главнокомандующего, ему легко воевать, ему даже погибнуть нестрашно.
– Эге! Наконец-то мы подходим к горяченькому. И главнокомандующий этот для вас?..
– Если он будет человек – это выльется в деспотизм. Но если за главнокомандующего над людьми признать не человека, а высшее существо…
– Бога?
– Да, бога!.. Раз я верю в то, что он, бог, по своему высокому желанию создал жизнь на планетах, в том числе и нас с вами… Раз я поверю в бога, то должен поверить, что существует у этого бога своя цель, непостижимая для меня, но высшая, правая. Значит, я начинаю жить убеждением, что мое существование не бесцельно, я осознаю свое высокое призвание.
Густерин сощурился сквозь очки, но уже не добродушно, не иронически.
– Гм… – сказал он. – А самообман-то к добру не приводит.
…Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
Вы материалист, Валентин Потапович, пользу золотого сна не признаете, а я признаю.
– Сном, даже золотым, долго не проживешь, рано или поздно проснись и живи днем, который начался, а для этого ставь цель перед собой, и не всевышнюю, туманную – не знай что! – а конкретную, достижимую.
– Коммунизм! – выкрикнул Гриша Постнов. – Он достижим! Пусть он скажет про коммунизм! Не увиливает!
– Хорошо, – согласился я. – Пусть коммунизм. Конкретная цель. Но как вы, материалисты, понимаете ее? Стремись жить для будущей жизни, для потомков? И попробуй тут не впасть в сомнение: почему я должен жить для каких-то далеких по времени, мне незнакомых людей? Чтоб не мне, а им жилось лучше. Почему им, этим далеким, такая привилегия? Почему я кому-то должен служить удобрением? После таких мыслей я скорей всего приду к выводу: не лучше ли жить только для себя? Этого не было, если бы я руководствовался: любил того, кто рядом с тобой живет, такого, как ты сам, кто может ответить такой же любовью, согреть тебя.
– Он против коммунизма, Валентин Потапыч! Послушайте же – он против!
– Нет, за коммунизм! – ответил я. – Но не просто за материальный, а и за духовный.
– Через бога? – спросил Густерин.
– Жалкое заблуждение, что вера в бога – помеха коммунизму.
– А я не хочу жить в твоем божьем коммунизме! Не хочу! – не унимался Гриша.
– Ты хочешь жить в таком, где бы все работали поровну и получали поровну?
– Да, в таком, чтоб без бедных и богатых.
– По тебе не видно.
– А как ты можешь видеть, что я хочу?
– Я сейчас работаю не меньше тебя, устаю даже больше, топором махать все же чуть легче, чем выбрасывать глину лопатой, а получаешь ты поболе моего. И берешь не краснея, в голову не приходит тебе получать поровну со мной. Нет, ты к своему коммунизму не приспособлен.
– Себя со мной не равняй.
– То-то, мы за равенство, а равнять нас не смей.
Гриша не ответил, сердито надулся.
Наступила минутная тишина. Слышно было, как где-то у реки в прибрежном ивняке смачно щелкает и высвистывает соловей, не нашедший терпения дождаться сумерек. Щелкает и высвистывает, поет о том, как прекрасен для него этот красноглинский мир.
– Подведем итог, – подал наконец голос Густерин, – бог вам нужен ради всевышней цели, не так ли?
– Так, – ответил я твердо.
– Всевышняя цель, – это конечная цель, дальше которой уже никаких целей существовать не может? Не так ли?
– Да, конечная, да, последняя, вовсе не проходная, то есть вечная.
– Вечная или конечная? Сами понимаете, одно исключает другое.
– Для человека – вечная, а поскольку сам человек, скорей всего, не вечен, то предполагается – эта великая цель завершит его существование.
– Ясно.
Снова молчание. Гриша Постнов сидит надутый, Пугачев весь подобрался. Густерин задумался.
Выщелкивает одинокий соловей у реки.
До сих пор Густерин только прощупывал меня, особых выпадов не делал. Должен же ударить. Все ждут. Жду я.
И он этот удар нанес с ходу, тут же, сразу после паузы.
– Ну что ж, – вздохнул Густерин, – попробую доказать, что вы или человеконенавистник, или путаник.
– Даже так? Давайте, слушаю вас.
– Цель конечная… А раз так, то она и означать должна конец человеческой деятельности, конец житья-бытья – смерть. Этого желаете?..
– Я идеалист, но не утопист, трезво смотрю на вещи. «Вера в вечность человеческого рода на Земле столь же нелепа и бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума». Это не мои слова, а одного нашего ученого. Нашего, не буржуазного. И учтите, его никто не собирался опровергать.
– Этот ученый, может, и прав, но разговор-то теперь идет не о том – бессмертны вообще люди или смертны, – а о том, что лично вам больше нравится. Наверное, и тому трезвому ученому хотелось бы, чтоб человечество жило без конца. Хотелось, речь идет о желании. Только человеконенавистник может испытывать духовную потребность во всеобщей смерти.
– Ха! – Пугачев с размаху хлопнул ладонью по шаткому столу. – Вот оно!
– Потише! – крикнул Митька Гусак. – Жизни-то не конец, да, гляди, конец выпивке. Чуть бутылки не сбил.
– Леший с ними! Еще сбегаю.
– Послушайте, – заговорил я сердито, – ученый, который, не прячась и не лукавя, объявляет о конце, – не человеконенавистник, а я, который заявляю столь же прямо о конечной, попал в негодяи.
– Вы не заявляете, вы желаете – это большая разница. Упрекнешь врача, если он заявляет, что больного ждет смерть? А вот если он не просто заявляет, а желает смерти – значит, негодяй, если не преступник.
– Сравнение хлесткое, но ко мне-то притянуто за уши.
– А разве вы не стали на путь духовного врачевания? А разве вы не втолковывали мне тут, что люди излечатся, если станут верить в то, во что вы верите, желать того, чего вы желаете? А представьте мир, где все желают по вашему рецепту конечной цели, за которой прозрачно проглядывает некая картинка общей смерти. Не случайно, видать, религия во весь голос кричала о Страшном суде. Хотите вы или нет, в старую унылую дуду трубить пробуете.
– Валентин Потапович, не смейте!.. – произнес я. – Не смейте отрывать божескую цель от бога. Они едины!
– Да уж, конечно. Каков дьяк, такова и панихида.
– Может, мы, Валентин Потапович, отбросим спор, а перейдем на словесные пощечины?
– Простите, не хотел вас обидеть. Хотел лишь сказать, что раз идея конечной цели может вызывать только страх и уныние, то и сам бог неизбежно будет выглядеть эдаким пугалом. Он же и был таким – берегись, покараю!
– Верно, был. Но человечество тем и совершенствовалось, что уходило от грозных богов, богов-пугал, к добрым, любящим. – Я вспомнил сестру Аннушку с ее богом-дубинкой и добавил: – Вся история человечества заполнена борьбой с дурными богами. Боги выступали против богов. Причем кроткий Христос побеждал Зевса-громовержца.
– Эге! – Густерин весь заморщился от удовольствия. – Глядите, как вы запели – борьба нужна. Ну да, ну да, батогом против батога, богом против бога. А нельзя ли выразиться иначе – непрекращающаяся борьба одних идей с другими. Ведь ваши-то неуловимые боги – не что иное, как человеческие идеи. Если так, то спор кончен – договорились до материализма.
– Нет, не договорились, Валентин Потапович, О самом важном забыли.
– Ну-кось?
– О ванной забыли… Мы скоро без иронии будем произносить ругательную фразу: «С жиру бесятся». Взбесишься, если цель жизни утрачена.
– Но какая цель? Конечная же? Я же не сторонник бесцельности.
– Какой смысл играть в шахматы, если ни один из противников не сможет дать мата. Мат – цель игры, которая, собственно, убивает игру. Убивает, а без конечной-то цели нет смысла играть.
– А когда-нибудь ради шутки играли в шахматы без королей?
– Нет.
– Попробуйте на досуге. Королей-то нет, мат исключен, но игру-то совершенно бессмысленной никак не назовешь: пока фигур полно на доске, игра как игра – мозгами ворочай, осмысляй.
– Но в конечном-то счете это бессмысленное занятие!
– А теперь представьте, что эта игра сложна и так длинна по времени, что поколения игроков сменяются другими поколениями, каждого из них конец игры просто не может заботить, потому что они о нем лишь смутно догадываются – мол, все на свете имеет свое начало и свой конец, значит, и игра ваша когда-нибудь непременно кончится. Но будут ли они от этого меньше чувствовать смысл игры?
– Вы хотите сказать, что конечная цель не определяет смысла?
– Конечная-то каждого из нас – могилка под ракитовым кустиком, но смысла такая цель не дает, живем иными…
Я молчал…
– Проходными… В них смысл заложен.
Я молчал.
Пугачев глядел на меня с победной усмешечкой, – знай наших. Гриша Постнов не спускал с меня круглых, совиных, недобрых глаз. Остальные же давно откровенно скучали – спор-то спором, а водку на столе забыли.
Густерин встрепенулся:
– Ну, не знаю, как вам, а мне с этой конечною целью ясно. И пора отчаливать… Да и ребята носы повесили от наших с вами – ату его!
Он легко вскочил из-за стола и, уже отбежав, оглянулся и крикнул:
– Сами признались: бог-то вам нужен ради всевышней цели. Вспоминайте это почаще!
Я снова ничего не ответил. Соловьи на реке уже пели в несколько голосов.
– Ребятушки! Козлятушки! М-м-ме-е!.. Молочко-то осталось ли?.. – Из-за бревен торопливо вылез Мирошка Мокрый.
Митька Гусак удивился:
– Ты, грибок, не под листом ли прятался?
– Туточка лежал. Уж и спал, и лапу сосал, весь истомился.
– Терпела лиса, пока бабка кур кормит.
– Ну и шакал же ты, Мокрый!
– Такому хоть орден за стойкость вешай.
– Орден, ребятушки, – дело наружное, у меня нутро награды просит… Эй, да вы-то что тут делали? Да боже ж мой, вы сказки-то насухо слушали, ай знали, что без Мирона спешить не следует?
И-их! Председатель, уступи,
Меня в доярки запиши,
Одну коровушку дою —
Бутылочку литровую!
Развеселю вас, братцы! Знай Мирошку Мокрого! Эй, москвич! Чего нос повесил? Давай выпьем да спляшем вместях всем на потеху!
Вскочил Гришка Постнов – волосы всклокочены, щеки вздрагивают, глаза блестят.
– Ты!.. – срывающимся голосом на меня. – Ты!.. Нянчатся тут с тобой! А ты же вор! Ты весь наш советский народ обворовываешь!
– Гришка! Аллигория! Бросай политику толкать, знаем, что сознательный. Душа горит, а ты момент оттягиваешь.
– Заткнись, Мокрый!.. На тебя тратились, в институтах учили, а что из тебя толку? Выучился, извел народные денежки да отплюнулся – в святые угодники пишите!..
– Охолонь, Гришка, – вступился Михей Руль. – Пусть бы он, как Митька Гусак, от корысти, а и того нет. Какая корысть в лопате, посуди-ка.
– Если деньги растратил без корысти, по халатности – милуют? Нет, судят! Все одно вор!
– После дела кулаками машешь, – подал голос Пугачев. – Он уже побитый сидит. И не кулаком по черепу – словом по мозгам.
– А что для него слово? Что?! – кричал Гришка. – Его и в Москве словом пронять не могли. От таких слова, как от стенки горох… Не уговаривать их, а морду бить!
– И компанией еще, кучей на одного?.. – процедил Пугачев. – Тоже мне праведничек.
– Брат-тцы-ы! Опосля водки доделите, опосля водки способней по-всякому, даже по мордам простительно!.. – вопил Мирон. – А ну, раздвиньтесь, братцы, допустите меня, я тут по всем правилам устрою…
Но Митька Гусак придержал его:
– Э-э! Шалишь, Мокрый. Пусти лису на приступочку, из дому выставит. Садись гостем и не хозяйничай… Но в общем-то, чего это мы в самом деле… Идею помни, а о водочке не забывай. Божий человек, придвигай и свой стакашек – расплесну сейчас всем.
– Спасибо, – я поднялся. – Мне лучше уйти, а то, Мирон прав, после водки как бы кому учить не вздумалось.
– Баба с возу, кобыле легче, – веселенько откликнулся Мирон. Он уже восседал на густеринском месте, не отрывал завороженных глаз от бутылки. – Не жадуй, Митька, лей с краешком – с утра мучаюсь.
Руль остановил меня:
– Зря, паря, ты обижаешься. И Гришку понять должон: институт-то ему вроде господа бога, второй год на него молится. Ты от бога его отвернулся, как ему тебя не невзлюбить.
– Никакого бога у меня! Мечта за душой, а не бог! Он мне душу заплевал своим поведением. Прощать? Не-ет! Моя бы воля – душил таких!
– Иди, друг, коль собрался, – посоветовал Пугачев. – Спор-то кончен, теперь звон пустой.
Я двинулся прочь.
– У-ух! Вон оно! За что муки такие! По жилочкам, по жилочкам – аллигория!.. – раздалось за спиной.
* * *
Теплой ночью, пахнущей речной влагой, укрыто село. Я показался на вымостках, перекинутых с берега на берег. Со всех сторон меня окружали соловьи, я стоял в центре соловьиной галактики. Их пение вкраплено в тишину, как звезды в ночном небе: одни ближе, ярче, сочней – голоса первой величины, другие удалены, притушены – тускло мерцающие подголосочки. И обморочно неподвижные черные кусты, и темная громада вздымающегося берега, и смутным всплеском церковь на нем, и узкий серп молодого месяца над всем крапленным соловьиными голосами миром. А внизу, в веселенькой преисподней, – река мерцает и поеживается под луной, течет, смеется, смеется, словно защекоченная.
По этим вымосткам в ночную пору никто не ходит из села – на берегу лишь церковь да поля за холмом, а еще дальше леса… Ночь скрывает меня от всех. Похоже, что, я, как искусанный волк, прячусь, чтоб зализать свои раны.
Я сам создал для себя теорию. Если есть бог, значит, есть и наивысшая, наикрайняя цель. Сам бог непостижим, и богову цель не понять слабым человеческим разумом, в нее нужно просто верить, как верят математики, что через две точки на плоскости нельзя провести больше одной прямой. Есть Всевышняя Цель! Единая для всех! Верь и стремись к единому, не тяни кто в лес, кто по дрова. Согласие среди людей, их любовь друг к другу само по себе не есть прямой замысел бога, но отражение его – тень. А тень-то дерева соответствует самому дереву. Возлюби ближнего своего!
Такова моя теория. Право же, я испытывал от нее удовлетворение, как конструктор при виде созданной им машины, – все удачно подогнано, ничто не торчит, не гремит, не отяжеляет, нет лишнего. И главная находка: «Тень дерева соответствует самому дереву, бога видеть не надо, но его тень улавливаема». Быть может, кто-то из верующих давным-давно открыл это до меня – не знаю! Я гордился своей гуманной теорией.
И вот при первой же пробе… Да, при первой!.. До сих пор я еще ни на ком серьезно не пробовал свои взгляды. В Москве приходилось их прятать, в спор ни с кем не вступал. Здесь же одерживал победы над простоватыми ребятами своей бригады – плотниками и землекопами. Густерин первый – не простоват. И этот первый сразу же вырвал узелок – гляди, с гнильцой. Не наикрайняя цель игру делает, не стремись к ней! И через плечо с издевочкой: а бог-то тебе, любезный, нужен ради этой наикрайней да наивысшей! При первой же пробе…
Соловьиные голоса со всех сторон, голоса, освещающие непроглядную тишину. Под ногами нежно, заливчато, как от щекотки, смеется речка. Стою, облокотившись на жидкие перильца, забился сюда от всех подальше.
Приехал в Красноглинку, бросил семью. Зачем? Исстрадался по конечной…
Соловьиные голоса, соловьиная галактика…
Когда-то меня пугала кошмарность Вселенной – не познать, не охватить, жалок ты со своим умишком, случаен, бесцелен, бессмыслен. Кошмар Вселенной требовал – открой вселенскую цель, пусть даже видимость ее, самоутвердишься, перестанешь выглядеть столь жалким, ты не бессмыслица!
Не конечная цель делает игру. Гм…
Вселенная необъятна до кошмара, но тогда это уже не так и плохо. Необъятна, черпай – не иссякнет, выуживай из бесконечного одну проблему за другой, постигай цель за целью, веди игру с вечным противником. Не конечная делает игру… Вечный противник, вечная игра, никогда не утрачивающая смысла – вечная, непрекращающаяся деятельность человека.
Соловьиные голоса, буйно сочащиеся из провальной тишины. Какая ночь!..
Почему-то вдруг всплыло в памяти яркое, солнечное утро над Москвой, празднично весенняя толпа на привокзальной мостовой, бородатый парнишка в душегрейке, вывернутой мехом наружу, с независимым видом волочащий сквозь толпу по асфальту привязанную к ноге консервную банку. Консервная банка, консервный звон – презираю, люди, ваши привычки, не хочу походить на вас, вот вам, любуйтесь – не брит, не стрижен, не мыт, гремлю. Вам смешно, вам дико мое поведение, этого-то я и добиваюсь – злитесь!
Уже тогда я почувствовал, что тот нестриженый, немытый – мой непутевый родственник. Как тогда хотелось похвалиться – обрел более интересное, чем пустая консервная банка.
Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое…
Я готовился защищать бога, а Густерин его и не тронул. Сир, я нуждаюсь в этой гипотезе!
Отче наш, иже еси на небеси…
Гремлю своим богом, как пустой консервной банкой.
А соловьи-то здесь, соловьи! Над рекой млечный путь из соловьиных голосов!
На берегу вдруг захрустел песочек, скрипнули вымостки, раздался прозрачно легкий, почти девичий стук каблуков по дощатому настилу. Соловьиный мрак родил на свет юной луны тощую фигуру, шляпа бросала тень на узкое лицо – отец Владимир!
И на узких мостках спрятаться некуда. Он замедлил шаги и узнал меня:
– Юрий Андреевич! Я же вас искал!
Я только кивнул и ничего не ответил. Он встал рядом, положил бледные руки на жидкие перильца, на голубоватый острый нос, как жирная маска, надета тень от полей шляпы. С минуту мы слушали соловьев и смех реки.








