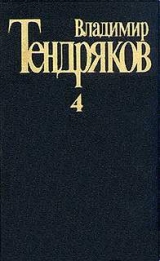
Текст книги "Апостольская командировка"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Запрокинув голову, собачьи преданная, с выражением скорби и счастья, боли и наслаждения, сидит у ног учителя Мария, девка из Магдалы, городишка, что стоит ниже по берегу. Мария Магдалина была недавно «одержима бесами», часто падала на улицах и билась с пеной на губах. От голоса учителя становится покойно больным. Благодарная Мария сидит у его ног, преданно смотрит снизу вверх.
Иногда приходит послушать учителя некто Матфей. Он, пожалуй, самый старый знакомый учителя, встречался с ним еще до того, как тот появился в этом поселке на берегу моря Галилейского. Матфей – мытарь, ездит из селения в селение и собирает подати, служба неприятная, но она научила его ловко обращаться с каламом – писчей тростинкой. Сейчас Матфей сидит в стороне, молчит, слушает. Он заговорит уже после смерти учителя, подробнее других изложит на пергаменте историю пророка из Назарета.
И еще один всегда присутствует на сборищах – Иуда. Он дальний, не из Галилеи, откуда-то с юга, из города Кариота, сын некоего Симона. Иуда деятелен и услужлив. Если какой-то богатый галилеянин пожелает дать денег учителю, чтоб тот роздал их нищим, то едет получать эти деньги Иуда. Он же и передает их тем, кто нуждается. Иуда – кошель учителя, что-то вроде казначея при молодой общине.
Прежде чем уснуть, я мысленно строю незримый мост через века и земли, из сегодняшней Красноглинки в древнюю Галилею.
Ноет натруженное на крутой глине тело, растекается по суставам покой. Я не думаю о своем завтра, оно меня нисколько не тревожит. «Завтрашний день позаботится сам о себе».
С лопатой в руках, в поте лица я прошел через кусок своей жизни, через то, что недавно называл своим сегодня, съел свою картошку в мундире, лег на жесткий матрас. Ничего не случилось со мной особенного, не выпало никаких удач, а я счастлив. Я сейчас в удивительном равновесии – порвал с прошлым, не трепещу перед будущим – чувствую полноту наступившей минуты, живу и наслаждаюсь.
Тетка Дуся за занавеской потушила лампадку. И закричали, закричали петухи по спящему селу. Конца этой переклички я уже не слышу…
А утром я срываюсь с постели, выспавшийся, отдохнувший, словно умытый изнутри. Я невесом и упруг, движения мои порывисты. Я пью пахучее парное молоко, ем неизменную картошку. Ем торопливо, мне не терпится вырваться из стен. Новый день ждет меня, новый день со своими заботами и открытиями.
И сказка продолжает жить во мне, я сейчас вынесу ее на волю. В рваных, грязных штанах, в тяжелых резиновых сапогах я переступаю в мир и останавливаюсь пораженный.
Чем?..
Тем, что на притоптанной травке в проулке лежит непотревоженная роса, что среди тысяч и тысяч ртутно тяжелых капель одна-единственная вдруг расцвела перед моими глазами красными, зелеными зыбкими иглами.
Тем, что стоит исцеляющая тишина не только над не проснувшейся еще Красноглинкой, но и на много сотен километров во все стороны.
Тем, что знакомый, исхоженный мною травянистый проулок оказывается не так уж и знаком, не так на нем сейчас лежат тени, не так играет солнце, – кроткая тайна во всем.
И пылает неистово росяная капля – пучок радуги! – капля одна из сотен тысяч, из миллионов тусклых капель особо выдающаяся – гениальность, дождавшаяся великого момента. Я шагаю с крыльца – и сияющая капля пугливо гаснет. Роса обильно обмывает мои сапоги.
Прежде чем свернуть из проулка, я оглядываюсь – на росяной матовости пролегли кричаще-зеленые следы.
И вот первый петух заблаговестил осипшим спросонья голосом. И вот звякнуло за соседним домом порожнее ведро, и на соседней улочке за настороженно дремлющими черемухами начал кланяться колодезный журавль, спесиво кланяться и стонуще скрипеть…
Не я один переступил через порог, не я один вижу младенчество дня, не я один нарушаю его оцепенение. И растет во мне светлое чувство благодарности к тем, кто вместе со мною открывает сейчас наше сегодня. «Каждому дню достаточно своей заботы…» Но день только-только родился, заботы еще не начались. Раннее утро – минуты полной свободы, чувствуй их, умей ими насладиться!
Здравствуйте, те, кто проснулся! Здравствуйте, братья и сестры! Как я счастлив, что живу с вами в одно время, под одним небом!
На окраине села я увидел спешащую в сторону скотных дворов доярку, плотную девку, почти совсем мне незнакомую, так как жили мы на разных концах. Однако…
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
Поспешно и чуть смущенно, так как не слишком знакомы, но доброжелательно. В такое утро недоброжелательным быть просто нельзя.
Штабеля рыжего кирпича, отвалы выброшенной глины, щепа, густо покрывающая истоптанную землю, щепа, почему-то вкусно пахнущая арбузом…
Вот уже третий день подряд я прихожу первым, сажусь на бревна, и жду, и слушаю все возрастающий шум просыпающегося села. Замычали выгнанные из-под крыши коровы на скотном дворе, раздались звонкие молодые голоса скотниц:
– Куд-ды тебя понесло, шалава!..
– Эй, Глашка! Ворота закинь, в поле вырвутся, канальи!
Глухо застучал на берегу реки в тесовой будке движок, погнал по трубам воду. Ему отозвался в самом селе железным ревом запущенный трактор. Парнишка проскакал на неоседланной лошади, глухим переплясом простучали по пыльной дороге копыта.
А сказка живет во мне. Пока никого нет, я примеряю ее на ту жизнь, которая вот-вот обступит меня вплотную.
Скоро придет Руль со своими Рулевичами.
Старик Руль быстрей других хватает то, что я говорю. «Коль польза прямая налицо, то какие еще нужны доказательства?..» Признает пользу, не нуждается в побочных доказательствах. До этого я сам с трудом и оглядками долго добирался сквозь лес логических рассуждений. Он же принял это сразу, не задумываясь. За свою долгую жизнь он узнал что-то такое, что мне было недоступно. Руль один из всех подставляет мне плечо. Пока что на него одного я могу опереться…
Не в силах устоять перед соблазном – мысленно сравниваю старика Руля с верным Петром, рассудительным рыбаком с моря Галилейского… Конечно, всякое сравнение зыбко, конечно, нет полного совпадении, я просто раздвигаю рамки своей сказки, а в сказках допустим вымысел.
Пугачев… С кем его сравнить? Он не верит мне, недоумевает. «Лошадь с рогами!» Может, с неистовым Савлом, который стал столь же неистово верным Павлом?..
Савл?.. Нет! Пугачев и умней, и благороднее. Он не отталкивает меня с пеной у рта – прочь, нечисть! – он тянется ко мне, старается понять. Говорят, у Христа был еще ученик – Фома Неверующий…
Савлом скорей может стать Гриша Постнов. Сейчас он кипит и отвергает – «заразу несешь!» – а завтра, глядя на других, поверит и непременно энергично, готов будет бить морду тем, кто уверовать не успел.
Митька Гусак… Этого легко уговорить, но он так же легко и отойдет, особенно если помаячит мотоцикл в качестве тридцати сребреников. Но при этом он искренне простодушен. Не таким ли был и Иуда Искариот?
Э-э, сказка сказкой, но не слишком ли я?.. Митьку Гусака в Иуды, себя, разумеется, в Христы – от скромности не умрешь, парень.
А собственно, что тут такого? Я стремлюсь к тому, к чему с незапамятных времен стремится исстрадавшееся человечество, – к взаимопониманию друг друга, к взаимоуважению, к взаимолюбви. «Люби ближнего твоего…»
Стремлюсь к этому, мечтаю об этом. И что за беда, если в мечтах я залечу к тем высотам, какие достигало человечество? Постыдно корчить из себя Христа, но не постыдно к нему стремиться!
– Здоров…
Нет, не Руль с Рулевичами, раньше их сегодня явился Санька Титов. Кажущийся сутуловатым от излишней просторности в покатых плечах, не столько хмурый, сколько сосредоточенно насупленный, он, пришлепывая широкими резиновыми голенищами по толстым икрам, прошел к сторожке, погремел там, вышел с топором, лопатой, молотком. Скупым и сильным движением он глубоко всадил топор в бревно, сел, положил на обух лезвие штыка и… все звуки пробуждающейся жизни утонули в жестяном скрежещущем грохоте. С сумрачной деловитостью Санька принялся отбивать лопату.
Я как-то совсем забыл его, не пустил в свою сказку. Уж больно не сказочное существо – Санька Титов.
Окажись я и в самом деле или воскресшим из мертвых Иисусом Христом, или лошадью с рогами, он нисколько не удивится, не изменится в лице, останется по-прежнему насупленно сосредоточенным. Его как-то нельзя представить верящим – в бога ли, в науку ли, в коммунизм ли. Все это для него где-то в стороне, а он умеет думать только о том, что видит. Вчера увидел, что тупа лопата, подумал – надо отбить. Сегодня вспомнил – и вот исполняет.
К селу Красноглинке летят громкие жестяные звуки…
– Перекур!
Гриша Постнов, если я слишком близко приближался к нему, покрывался гусиной кожей… от неприязни. Пугачев же бросает топор и садится напротив. Лицо его – медная чаша – темно, глаза сужены. Похоже, он уже не может без меня – лошадь с рогами! Пугачева мучает тайна: не от выгоды сменил я Москву на Красноглинку и ученые книги на святое писание – тоже не от невежества. Может, мир начал помаленьку трогаться с ума, а может, есть какая-то правда в том, что люди держатся за бога?..
Раз даже Пугачев послал после работы за поллитровкой Митьку Гусака:
– Посидим поплотней. Тут ведь без поллитры не разберешься.
Но из этого ничего не получилось, так как сразу же нагрянул Мирошка Мокрый, первый пьяница в Красноглинке, – фетровая шляпа, утратившая и цвет и форму, но не утратившая муаровой ленты, красная рожа в зловещей медной щетине, мокрый рот до ушей…
– Бра-ат-цы! Огнем вечным горю! Негасимым! Всю жизнь заливаю, залить не могу! Не человек я, братцы, а почетная могила неизвестному солдату!
Мирошка не давал никому сказать ни слова, кричал о своей особе и водке, которая так ему люба.
– Перекур!
И Пугачев садится напротив меня – лицо темно, глаза сужены. Он уже весь изранен и ждет новых ран. Беспокойный человек, брат мне по крови.
* * *
Наконец-то я почувствовал в себе силы решиться на то, что больше всего меня пугало, – написать Инге, сообщить ей правду о себе. Тянуть дальше нельзя, Инга рано или поздно узнает – если уже не узнала, – что уволился с работы. Как ни страшна правда, а полное неведение всегда страшней.
Я но хотел писать письмо на глазах у тетки Дуси, не хотел, чтоб в эти минуты кто-то видел мое лицо. Я спрятался за занавеску, забрался с ногами на кровать, пристроил на коленях Библию, положил на нее листок бумаги, вывел:
«Инга родная!»
И задумался… Да, родная, но сейчас собираюсь разорвать последнюю ниточку родственной связи. Родная в начале письма, чужая в конце.
«Я должен просить у тебя прощения, – начал я, – за то, что когда-то встретился с тобой, за то, что стал твоим мужем, за все семь лет совместной жизни, за дочь, наконец. И прекрасно понимаю безнадежность своих оправданий. Сколько бы я ни оправдывался, все равно в твоих глазах останусь не просто виновным, а преступно виновным.
Что же случилось? Я и сам во всем толком не разберусь. Может показаться смешным, но причиной моего странного поведения стали высокие, можно назвать, потусторонние явления. Как и всякий нормальный человек, я свято верил в торжество разума, а так как наука – самое яркое проявление разума, то верил и в ее торжество, в ее спасительную миссию. Я был настолько слеп, что не видел – с расцветом наук войны не исчезают, а становятся страшнее, и прохвосты на свете не редеют.
Я не могу славить науку, как до сих пор славил, мне нечему стало верить, не к чему стремиться. Мои мысли, знаю, покажутся неубедительными, затрепанными, мое поведение – диким. Но что делать, когда мне начало казаться, что мое появление на свет – бессмыслица; бессмысленно, что встретился с тобой, живу с тобой, воспитываю дочь. Можно ли так жить? Не лучше ли оборвать бессмыслицу?
Осуди меня, что я от отчаяния обратился к тому, к чему люди обращались испокон веков – к богу! Признать бога – значит признать его руководство, признать существование некой высшей цели. Словом, я стал верующим, на свой манер, конечно. И вот тут-то начала шириться между нами незримая пропасть.
Ты, Инга, довольна жизнью, какой живешь, я – нет! Могу ли я требовать – откажись во имя меня от тех, кто тебе близок по взглядам и по духу? Могу ли я обречь тебя на осуждение, возможно, на остракизм и осмеяние? Осуждение должно пасть и на нашу дочь. В моей жизни произошел духовный скачок, почему это должны разделять со мной мои близкие?
Я не могу стать прежним, не хочу ломать вашу жизнь, значит, мне необходимо исчезнуть. Признаю – выход из положения грубый, болезненный, но болезненней вдесятеро нам жить вместе. И выход единственный, выбирать не приходится – я исчез. Так лучше вам, так лучше мне.
Едва я встану на ноги, постараюсь тебе помогать изо всех сил. Правда, вряд ли от меня теперь будет большая помощь. На четвертом десятке лет я начинаю жить сначала. Сейчас я зарабатываю себе хлеб ломом и лопатой.
Не могу быть прежним.
Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь. Так лучше.
Юрий»
Я поставил последнюю точку, обрубил нить.
Ради веры в старые времена шли на костры. Костер… А не легче ли это? Там жертвуешь только собой, только на час мучений. А здесь подписал свое имя, поставил точку – осиротил дочь. Какими бы важными причинами ты ни оправдывался, все равно из памяти не вычеркнешь – ты обездолил тех, кого больше всего на свете любишь. Будешь помнить всю жизнь, всю жизнь станет жечь совесть – медленный костер до гроба. Так ли уж страшен по сравнению с ним тот варварский, средневековый костер?..
Может, разорвать письмо? Может, поднять руки вверх – сдаюсь, каюсь, лечу обратно!
Рад бы! Но вся беда – ни покаянием, ни сдачей позиций не спасешь от несчастья дочь, жену, самого себя.
Нельзя запретить себе – не думай, о чем думается. Рано ли, поздно, не выдержишь нелегальщины, устанешь притворяться. И тогда опять придешь к тому же самому – надо исчезнуть. Хорошо, если билет до Новоназываевки, а то как электричка… Всю жизнь притворяться невозможно.
Я не разорвал письмо, запечатал, положил его в карман, вышел на улицу.
Красноглинское почтовое отделение вкупе с отделением трудсберкассы давно уже кончило свой рабочий день. Возле дверей висел вылинявший синий почтовый ящик. Щелкнув железной челюстью, он проглотил мое письмо.
Утром оно начнет свое путешествие до Москвы.
Инга узнает все.
Оборвалась последняя ниточка.
Стоит вечер, золотой пылью рассыпался сухой закат над крышами. Кожей лица, каждой порой тела сквозь рубаху пьешь теплый воздух. Вся Красноглинка повылезла из-под крыш на улицы. Такое ощущение, что село накануне какого-то праздника. Девчата в цветастых платьях, парни в белых хрустящих сорочках, мужчины в отутюженных, торжественных, слишком теплых для такого вечера костюмах.
Почти на каждой улочке на свой лад, но одинаково старательно наигрывают гармошки. Девчата поют разнеженно умиленными голосами:
За дальнею околицей,
За молодыми вязами
Мы с милым расставалися,
Клялись в любви своей.
И бегает с воплями ребятня. И то там, то тут вспышками, затяжным раскатцем – кочующий смех.
Идя от почты, я заблудился в этой праздничности. Во всей Красноглинке, наверное, только мне одному не до веселья. Письмо брошено, железный ящик с лязгом проглотил его…
И были три свидетеля:
Река голубоглазая,
Березонька пушистая
Да звонкий соловей.
Прямо посреди дороги, осиянный закатом, стоит Митька Гусак. Просто стоит, не двигается, должно быть, наслаждается сам собою. Он сейчас представляет удивительное зрелище, от одного взгляда на него возникает невольное – «И жизнь хороша, и жить хорошо!». В невиданно широкой кепке на маленькой голове, в тесном пиджаке какого-то невероятно кирпичного цвета, при черном галстуке, в черных брючках-обдергайчиках, и остроносых туфлях цвета беж – не человек, а олицетворение успеха, Кто поверит, что днем он кайлил землю?
А в Москве сейчас Инга укладывает спать Танюшку. У Танюшки – тугие щеки, вкрадчиво нежная кожа со всеми оттенками розового и молочного… И улыбка ее трогательно беззуба. И она, конечно, требует рассказать ей на ночь сказку: «Избушка, избушка, встань ко мне передом…»
Инга! Ах, Инга! Гордо посаженная голова, густые волосы, отливающие старой бронзой, глыба белого лба, глубокие глаза с твердыми зрачками, линии тела, презирающие застенчивость, – создана быть матерью и любовницей.
А Митька Гусак стоит посреди дороги и наслаждается сам собой.
Я жертвую счастьем дочери, счастьем Инги не ради себя. Наверное, ради Митьки Гусака тоже. А он, этот Митька, и без меня достаточно счастлив.
Ищу смысл жизни: для чего, куда, камо грядеши?..
Митьке плевать на эти вопросы. Он сыт и одет, да еще как одет – закачаешься! Вот он, нарядный, посреди дороги, сплошное великодушие – пожалуйста, любуйтесь мной, восхищайтесь, нисколечко не жалко.
Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы… «Инга, родная!.. Если можешь, забудь!» Наотмашь тебя, Инга, без жалости, вместе с дочерью. Ради Митьки Гусака и ему подобных…
И стройная березонька
Листву наденет новую.
И запоет соловушка
Над синею рекой.
Умиленно разнеженные девичьи голоса.
Надо перехватить письмо, оно не должно уйти из железного ящика в Москву. Люблю тебя, Инга, и творю тебе зло! «Люби ближнего своего…» Ближнего, самого ближнего – без жалости!
Зачем?!
Поют и смеются, играют гармошки – бархатный вечер. Почему я должен быть врагом себе и своим близким? Хочу жить, как все, радоваться теплу, дышать полной грудью и не мучиться: для чего, куда, камо грядеши?
Но в том-то и дело, что не мучиться я уже не могу. Завидую счастливому бездумию Митьки Гусака и презираю его.
Инга и Гусак… Нет, я не имею права ставить их рядом. И со всеми другими тоже. Я люблю Ингу, а потому все станут мне казаться плохи, ничтожны – никакого сравнения!
Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы… Я люблю! Люблю!! Но если каждый вот так станет любить только самого близкого, самого-самого, а к остальным относиться враждебно?..
«Люби ближнего своего…» Почему-то эти слова обычно приписывают Христу. Ложь! Они были сказаны до него, и Христос восстал против них. Еще раз вспомни самое возвышенное место из Нагорной проповеди:
«Вы слышали, что сказано: „Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благоволите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»
Сам Христос покинул своих родных: «нет пророка в своем отечестве». Любовь к родным была бы якорем на пути к безбрежной всечеловеческой любви. И Будда Готам, юноша из царского рода Шакиев, покинул однажды ночью жену и сына, бежал из своих дворцов на дороги.
Митька Гусак не нуждается в том, что я мученически ищу. Но Митька еще не все человечество. И не ради одного только Митьки я оставил Ингу и дочь, даже не ради только жителей Красноглинки…
Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы… Жертвуй любовью во имя любви. Жертвовать или не жертвовать – не от меня это зависит. Цветок умирает, когда приходит пора наливаться плоду, одно отрицает другое.
Я не стану перехватывать письмо, завтра оно уйдет из железного ящика в Москву. Люблю Ингу, буду любить, всегда буду чувствовать себя преступником перед ней. Всю жизнь станет жечь совесть – медленный костер до гроба.
За те счастливые минуты равновесия, которые я теперь время от времени испытываю, приходится дорого платить.
Играют гармошки, поют девчата, то там, то сям вспыхивает веселый смех. Митьке Гусаку надоело стоять посреди дороги, ленивенько побрел куда глаза глядят. В Красноглинке нежданный праздник.
И никто не знает, что я в этот счастливый вечер несу в себе бездну горя.
* * *
Утром постучали в окно, девичий голос прокричал:
– Теть Дусь! Твоему жильцу – повестка!
На клочке бумаги четким, без нажима почерком:
Гражданину Рыльникову Ю.А.
Просьба явиться к 9.00 сего дня в сельский Совет для выяснения неотложных вопросов, касающихся Вас лично.
Председатель Красноглинского с/с
Ушатков
– Ну, парень, не к добру, – объявила тетка Дуся. – Мишка Ушатков за хорошим не позовет. Уж я – то знаю, он хоть и не близкая, но родня мне.
Я уже немало слышал о председателе сельсовета Ушаткове. Не всегда он занимал сельсоветский пост, когда-то был одним из ответственных в районе работников, в свое время схлестнулся с менее ответственным Густериным, победил, высадил с высокого стула, а лет через десять скатился сам… к Густерину. «Здравствуй!..» – «Здравствуй!..» При встречах они без наигрыша приветливы, без усилий просты – старые добрые знакомые.
Ушатков – узаконенная власть Красноглинки, старший лейтенант милиции, участковый Тепляков обязан прислушиваться в первую очередь к нему. Густерин – экономика Красноглинки, тот же Тепляков не к Ушаткову, а к нему идет по нужде – выдели лошадь, уступи тесу на крышу, дай машину… Ушатков выдает справки с печатями, Густерин – деньги.
Правление колхоза и сельсовет в Красноглинке под одной крышей, кабинет Густерина и Ушаткова через стенку, но входы разные, не перепутаешь.
Чопорная неуютная старомодность – два стола, составленные буквой «Т», один под кумачом, с пыльным графином, на другом плексигласовый чернильный прибор с кремлевской башенкой. Он за столом – бочком, без чиновной осанистости, видно, что в любую минуту готов сорваться и бежать из кабинета – в жизнь, в массы.
Под морщинистой кожей лица чересчур откровенно угадывается костяк черепа, запавшие виски вызывают невольную жалость, зато скулы тверды, как лодыжки, хрящевато острый, как у тетки Дуси, синичий нос, тонкогубо сплюснутый большой рот, голубые, пристально выжидающие глаза.
Ушатков не предложил мне садиться, разглядывал голубым, уже старчески размыленным взглядом. Я вдруг не то чтобы увидел, а всей кожей ощутил себя: резиновые в засохшей глине сапоги, глазастые штаны с чужого зада, клетчатая рубаха с закатанными рукавами, щетинист.
– Вы в тюрьме не сидели?
Спросил просто, даже скучненько, без тени вражды и угрозы, словно осведомился: «Как ваше здоровье?»
– Нет, – ответил я.
Уж не пугать ли вздумал меня? Человека, который сам себя осудил, сам себя сослал в добровольную ссылку.
Я зацепил сапогом стул, пододвинул к себе и сел, перебросив ногу на ногу. Громадная казенная бахила, заляпанная красноглинской глиной, вызывающе закачалась перед Ушатковым. Но тот и внимания не обратил на мою демонстрацию, озабоченно продолжал:
– Вы о чем толковали на работе? За что агитировали?.. И откровенно, Рыльников, откровенно, без виляний.
– Может, вы мне сами доложите – о чем? Раз разговор начали с тюрьмы, так уж выкладывайте и состав преступления.
– За господа бога агитировали или нет?
– Нет, не агитировал.
– Без виляний, Рыльников, без виляний!
– Без виляний – не агитировал.
– Молчали? Все беседовали, а вы сидели паинькой?
– Объяснил, кто я, почему здесь у вас, в Красноглинке, оказался.
– И даже слово «бог» не произносили?
– Как же мог не произносить это слово, когда сообщал, что я верующий.
– Значит, признаетесь?
– В чем?
– Что верите в бога.
– А зачем, собственно?
– Без виляний, Рыльников, без виляний…
– Нет никакой нужды в особом признании, ни перед кем не скрываю: верю в бога, и вины за собой в этом не вижу.
– Увидите! Позаботимся.
– Вы, товарищ Ушатков, запамятовали: в нашей стране законом разрешена свобода вероисповедания.
– Старухам темным разрешена эта свобода – несознательны, спрос с них невелик, а вы сознательный, Рыльников, образованный, – значит, злостный мракобес, вас общим аршином мерить нельзя!
– Выходит, я повинен за свое образование?.. Вот это уже мракобесие чистой воды.
– Осторожней, Рыльников, осторожней!
– Я не так, как вы, думаю, не так гляжу, но почему это должно вам мешать? Может, от этого жизнь испортится, земля станет хуже рожать, порядок нарушится, люди грызть друг друга бросятся?..
Запавшие виски, костистые скулы, голубой открытый взгляд, в голосе убежденность.
– Может!
– Как так, объясните?
– Ежели каждый будет думать во что горазд, глядеть куда заблагорассудится, то получится – кто в лес, кто по дрова. Не держава, а шарашкина фабрика. Дисциплина должна быть во всем!
– Не нарушай дисциплины, не смей думать иначе?
– Вот именно, не смей!
– Не смей думать по-новому, думай, как думали до тебя, топчись на месте, не рассчитывай на развитие… Не страшно ли вам?..
Лицо Ушаткова пыльненько посерело, взгляд потемнел, костистым кулаком он стукнул по столу:
– Вот!.. Ушатков – страшен и вреден, а ты, голубчик, – полезнейший человек!..
– А вдруг да…
– Ушатков, который к Марксу зовет!.. Полезен не он, а ты – к богу зовешь, к Христовым идейкам! Они же передовые, не обветшалые… А вправлять мозги ты умеешь, да! Послушай такие речи человек без твердых убеждений – глядишь, вместо нашей песни «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой» запоет: «Спаси и помилуй, господи!»
– Почему вы думаете, что я не пою об избавленье. Пел эту песню, пою, буду петь.
– Безбожную?
– Песня-то зовет к защите угнетенных и обездоленных, к тому же, собственно, звал и Христос.
– Эвон! До чего мы ловки! И откуда вы вдруг повылезали! Раньше-то вас и на дух не было слышно. Развелось по стране нечисти, вот что значит без крепкой руки остаться…
– Без крепкой руки?.. А не кажется ли вам, что тот, кто сумел обзавестись крепкой рукой, из той святой песни невольно словно по слову выкидывал: «Ни бог, ни царь и ни герой». С крепкой-то рукой как не стать героем. Будут и возвеличивать, и молиться на тебя будут. А глядишь, в молитвах-то и до бога вознесут…
В голубых глазах Ушаткова что-то захлопнулось, они стали пустые, непроницаемые, на желтый костистый лоб набежала суровая складочка.
– Ну, хватит! – Он встал, прямой, плоский, остроплечий, дешевый пиджачишко висит, словно на вешалке. – Поговорили, обстановочку выяснили. Когда понадобитесь, дадим знать. – И отвернулся…
– До свидания, – сказал я. – Думается все же, песню ту я правильнее вас пою.
На работе мне пришлось объяснить, почему я опоздал.
Гриша Постнов, как всегда, не смотрел в мою сторону, стоял над бревном, бесстрастно тюкал топором, стесывая бок. Он всем своим существом показывал, что раз и навсегда не замечает меня, в упор не видит, не слышит – пустое место.
Митька Гусак вылез из ямы – гол по пояс, костлявое тело маслянисто лоснится от пота, волосы повязаны носовым платком, во все четыре стороны торчат рожками узелки, – представить сейчас нельзя, что этот Митька стоял вчера вечером посреди села показательно наряден, не человек, а наглядное пособие на тему: «Жить стало лучше, жить стало веселей».
Митька вылез и дружески подмигнул мне:
– На поверку-то, не бог тебя выручает, а ты его. Плоховат, выходит, у тебя товарищ. Нечего и водиться с ним.
Митька – сам «штрафничок», не столь давно еле-еле увильнул от суда – сочувствует мне.
Михей Руль, осторожненько вырубая паз – «выбирал череп», – заговорил:
– Зря ты, парень, на весь лес кукуешь. Со всяким норовом зверь живет, кому-то может твое «ку-ку» и не понравиться.
Я возразил:
– А для меня, Михей Карпыч, никакой зверь не страшен – несъедобен я.
– Храбрился ерш перед щукой.
Пугачев, молчаливо и хмуро выслушавший мои объяснения, сейчас вдруг взорвался на старика:
– Подлости учишь, Михей! Втихаря кукуй, то есть себя стесняйся, кукушкой под ворону рядись. Ежели все ряженые станут, ненастоящие, как жить-то тогда?
– А как до сих пор мы жили? – ухмыльнулся Руль. – Ты думаешь, я весь наружу? Ан нет, кой-что под семи замочками прячу – не доберешься, шалишь.
– Утаиваешь?
– А как же иначе?
– Ты против искренности? Ты против правды?
– Правдив простак, да на нем воду возят.
– Жалко мне тебя, Михей.
– Подожди жалеть, сперва поживи с мое.
Пугачев повернулся ко мне:
– Должны люди открыто в глаза друг другу смотреть? Как ты думаешь, боголюб московский?
– Если только они не ненавидят друг друга, – ответил я.
– Эх-хе-хе! – вздохнул Руль. – Не язвил вас, парнишки, жареный петух в зад.
Рулевичи деловито махали топорами. Санька Титов ворочался в яме, выгонял «кубики». Гриша Постнов демонстрировал свое невнимание ко мне. Пугачев помялся возле меня, посверкал глазами с медного лица и вдруг с тоской воскликнул:
– Один ли ты, боголюб, непонятен! Все люди – лошади с рогами.
И резко отошел.
Я взялся за лопату. Я несъедобен, неуязвим. Что сделают со мной Ушатковы? Арестовать за то, что верую, нельзя – закон не разрешает. Снять с работы, отнять эту лопату?.. Смешно. Я свободен. Полностью.
Стало даже как-то обидно. За свои взгляды я готов на крест, на костер. Отошло время крестных казней…
* * *
– Ты уж, сокол, больно скор на расправу. Чуть что не понравилось – сразу печать Каинову ставишь: мол, ни дна тебе ни покрышки. Эвон как сестру Аннушку припечатал – занедужила, из дому теперь не выходит. И с Михайло Ушатковым ты теперь вот разделался: ирод, да и только, анафема!
– Но ты же сама говорила, Дуся, что от этого человека добра ждать нечего.
Мы сумерничаем с теткой Дусей у подсиненного окна, обсуждаем мою беседу с Ушатковым.
– И теперь говорю – добро он часто изнаночкой поворачивает.
– «По плодам их узнаете их…» А плоды-то Ушаткова горькие.
– Ой, всегда ли? Однажды верхом он по берегу ехал. Весна была, самый ледоход. Глянь, а по реке-то старый дубас тащит. В нем девчонка, совсем мала, лет трех, что ли… На дубасе и летом, при малой воде, не каждый проплыть сможет, а уж в ледоход-то верная гибель. Толкни любая льдина – и перевернется… У каждого, поди, зашлось бы сердце – дитя же! – но, ой, не каждый полезет в полую воду, когда со льдом хороводит, – кто себе враг? Михайло-то сперва на коне хотел доплыть, да не тут-то было, разве коня загонишь в такую реку… Тогда скинул он лишнее, да и пошел среди льдин рукавами махать, притянул дубас к берегу, девку в охапку, а девка-то кошку держит, расставаться не хочет, так и принес ее в деревню с кошкой… Потом от застуды весь чирьями зарос. Да-а, доброе… Да-а… А вот в тот же год, кажись, он, Михайло, как-то ребятишек в траве застал, те с голодухи щавелек сбирали. Ведь не из баловства, с голодухи, и чего доброго – траву, так нет, стребовал бумагу составить о потраве покосов. Подумай-ка, на детишек, как на скотину. Трава, выходит, дороже детишек. Вот хоть хай его, хоть хвали.
– Дуся, страшные слова! И после них еще оправдывать его!
– То-то все мы вместо бога суемся – судить да миловать. Говорю, что было. Вот Густерина нынче добром все поминают. И верно – не нагрубит, не откажет без нужды… А нырнул бы наш Валентин Потапыч дите спасать? Сдается мне, сперва подумал бы, а подумавши, в деревню повернул, мужиков сбивать… Михайло себя не жалеет, и себя, и других… Суровенький…
– Вы бы здесь его еще в святые угодники записали…








