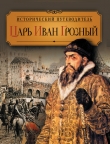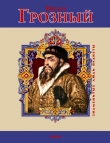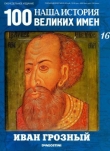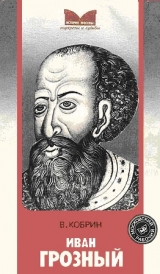
Текст книги "Иван Грозный"
Автор книги: Владимир Кобрин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Крах опричнины
Еще более трагические события произошли и летом следующего, 1571 года. Весной в Москве стало известно, что крымский хан Девлет-Гирей готовит поход на Москву. Как всегда в таких случаях, на берегу Оки был выставлен заслон из русских войск. Один участок берега был поручен земским, другой – опричным войскам. Обычно действующая армия, как отмечалось выше, делилась на пять полков; в небольших операциях, когда войск бывало немного, формировали три полка.
Необычная ситуация сложилась на этот раз. Земских войск было, как всегда, пять полков, а опричных хватило лишь на один. Видимо, опричников было так мало, что эту рать было невозможно разделить хотя бы на три части. Это предположение подтверждается официальной разрядной Книгой, где записывались назначения на основные должности. Там читаем, что царь Иван “с людми собратца не поспел”. Ясно, что опричники, хорошо пограбившие в Новгороде, отяжелевшие от добычи, не хотели рисковать жизнями, для них стало слишком привычным воевать с безоружным населением. Ближайшие слуги царя, которых он считал самыми верными, превратились в тех самых “ленивых богатин”, против которых когда-то резко выступал Пересветов. Опричнина продемонстрировала утрату боеспособности.
16 мая царь, оставив в заслоне один опричный полк, которым командовал князь Василий Темкин-Ростовский (тот самый, что ездил в Соловки собирать материал против митрополита Филиппа), уехал в глубь страны собирать войска, выгонять опричников из насиженных гнезд. К тому же пришли успокоительные известия, будто хан отложил поход.
На самом же деле поход состоялся. Через неделю после отъезда царя, 23 мая, Девлет-Гирей подошел к Оке. Пленный сын боярский КудеярТишенков обещал хану провести его к Москве по неизвестной дороге и убеждал, что у царя Ивана людей осталось мало и “стати-де ему против тебя некем”. Девлет-Гирею удалось переправиться через Оку там, где его не ждали, а потому и не было войск. Путь крымским войскам к Москве был открыт. Русским воеводам осталось одно: добраться до Москвы раньше хана.
Воеводам удалось опередить Девлет-Гирея на несколько часов и .занять оборону вокруг Москвы. Опричный полк Темкина-Ростовского держал позиции в опричной части города, возле нового дворца царя Ивана. Но Девлет-Гирей в бои не вступил, город штурмовать или даже осаждать не стал, а лишь поджег не защищенные стенами посады. Огонь быстро перекинулся через стены Китай-города и Кремля. Пламя бушевало три часа, пока хватало пищи огню. Выгорело все.
Таубе и Крузе пишут, что в городе “не осталось ничего деревянного, даже шеста или столба, к которому можно было бы привязать лошадь”. В Кремле и Китай-городе множество людей задохнулось “от пожарного зною” и дыма. Жертвы долго лежали непогребенными, ибо было “хоронити некому”. По словам Таубе и Крузе, царь распорядился сбросить трупы в Москву-реку, но их было столько, что образовалась плотина, и река вышла из берегов. В городе из-за разлагающихся тел (ведь дело было летом!) “смрад велик был”. Колодцев в Москве всегда было мало, пользовались речной водой, теперь же из-за сброшенных в реку трупов она стала непригодна для питья. Только к 20 июля, почти через два месяца, город удалось очистить от мертвых тел.
В огне сгорели и постройки государева опричного двора в Москве. Царь Иван начал его строить в апреле 1566 года, отказавшись от мысли жить в Кремле, а перебрался туда на жительство 12 января следующего, 1567 года. Сохранилось подробное описание этого сооружения, сделанное не раз там бывавшим Генрихом Штаденом. Опричный двор занимал квартал между нынешними проспектами Маркса и Калинина и улицами Герцена и Грановского, там, где сейчас находятся старое здание (аудиторный корпус и библиотека) МГУ и приемная Президиума Верховного Совета СССР.
Двор был обнесен стеной высотой около 7 метров, первая треть – из белого камня известняка, над ним – кирпичная кладка. На трех воротах, ведущих во двор, обитых блещущей на солнце белой жестью, были прикреплены черные резные двуглавые орлы и львы с глазами, сделанными из зеркал. Черные деревянные орлы возвышались и над башенками зданий внутри двора.
Кроме стен все строения опричного двора были деревянными, возведенными “из прекрасного елового леса”, доставлявшегося из-под Клина. Штаден, который с явным пренебрежением относился ко всему русскому, тем не менее восхищался искусством строителей этого двора: “Палатные мастера или плотники для этих прекрасных построек пользуются только топором, долотом, скобелем и одним инструментом в виде кривого ножа, вставленного в ручку” (рубанком? – В. К.). Все деревянные здания были украшены тонкой резьбой. Сушила для рыбы, чтобы она хорошо проветривалась, когда ее вялят, были построены “из досок, прозрачно прорезанных в виде листьев”. Узором из листьев были покрыты и столбы палат. На колокольне опричной церкви висели колокола, вывезенные из Новгорода.
Гибель опричного двора, по словам Штадена, вызвала большую радость у земских. Уничтожение было полным. Даже колокола “расплавились и стекли в землю”.
Ужасные результаты московского пожара были следствием не только победы крымского хана и военной слабости опричнины. Царь Иван был, несомненно, виновен в том, что Москва была плохо укреплена. В самом деле: город занимал территорию примерно в пределах нынешнего Садового кольца, а крепостными стенами были защищены только Кремль и прилегавший к нему так называемый Великий посад. Стена вокруг Великого посада получила название Китай-города, по ней так называли и сам посад. Китай-город, ненамного превышавший по своим размерам Кремль, был воздвигнут еще при Елене Глинской.
Ныне сохранились лишь остатки этой крепости: один участок стены с башней начинается у Третьяковского проезда, идет по двору гостиницы “Метрополь” к проходному двору с улицы 25 Октября к площади Революции; другой – от площади Ногина к гостинице “Россия”. Вся же стена была варварски уничтожена в 30-х годах нашего века вместе со многими другими памятниками русской архитектуры. Китайгородская стена отходила от Кремля возле нынешнего Исторического музея, шла по нынешнему проспекту Маркса до площади Дзержинского, далее по Новой и Старой площадям к площади Ногина, затем к Москве-реке и вдоль берега до самого Кремля.
Ни Кремль, ни Китай-город Девлет-Гирей даже не пытался штурмовать. Будь Москва обнесена целиком или хотя бы в большей своей части каменной стеной, пожара могло не быть. Однако за три с лишним десятка лет, прошедшие со времени строительства Китай-города, строительство московских укреплений не продвинулось ни на шаг. А была ли возможность строить новые каменные стены? Несомненно. Ведь смог царь построить каменную крепость, защищающую только его опричный двор. Судя по всему, царь не любил Москвы: он бывал в ней довольно редко, а жить предпочитал то в Александровой слободе, то в Вологде, то в Старице (после казни Владимира Андреевича Старицкий уезд вошел в состав опричных территорий, и Старица стала одной из любимых опричных резиденций царя). Во всех этих городах, да и в некоторых других царь строил новые каменные укрепления. Только столица страны оставалась беззащитной. А потребность в новых укреплениях была велика: ведь на следующий же год после смерти Ивана IV началось строительство новая каменной стены – Белого города (по линии современного Бульварного кольца).
После сожжения Москвы Девлет-Гирей ушел восвояси, но своей цели он достиг: и захватил “полон” и добычу, и разграбил много городов, в основном в Рязанской земле. Все это жестоко ударило по престижу царя Ивана и опричнины. Недаром и современники, и потомки из ближайших поколений рассматривали эти события как божью кару за бесчинства опричников. Курбский называл нашествие крымского хана так: “...мечь варварский, мститель закона божия”. Он перечислял в своем послании Ивану Грозному “язвы, от бога пущенные”, и среди них наряду с голодом и эпидемиями “пресловутаго града Москвы внезапное сожжение, и всея Руские земли опустошение”. Царю был срочно необходим виноватый. Он нашелся. Тем же летом князь Иван Федорович Мстиславский публично каялся в том, что “государю... и всей Русской земле изменил, навел есми с моими товарыщи безбожного крымского Девлет-Кирея царя” и клялся, что ему вперед “на все православное крестьянство варвар не наводити”. Эти “признания”, не имевшие ничего общего с истиной, были, судя по всему, услугой, оказанной Мстиславским царю. Достаточно сказать, что Мстиславский оставался не только на свободе, но и по-прежнему первым боярином в Думе, был вскоре назначен новгородским наместником. Зато царь Иван получил возможность и на этот раз обвинить в своих неудачах и просчетах “бояр-изменников”.
Не менее тяжелыми были последствия набега Девлет-Гирея для внешнеполитического положения страны. Хан был уверен, что теперь он поставил Россию на колени и может диктовать ей свою волю. Переговоры Ивана IV с крымскими послами начались в необычной атмосфере. По приказу царя во время первой аудиенции бояре были не в торжественном парчовом одеянии (“платье -золотном”), а в простых черных одеждах. Пискаревский летописец сообщает, что и сам царь надел сермягу. Обращаясь к ханским послам, он будто бы сказал: “Видишь-де меня, в чем я? Так-де меня царь (хан. – В. К.) зделал! Все-де мое царство выпленил и казну пожег, дати-де мне нечево царю”. Не остались в долгу и крымские дипломаты. В качестве посольского подарка Иван IV получил кинжал, чтобы иметь возможность после страшного поражения покончить самоубийством. Шли переговоры трудно. Русские представители были готовы отказаться от Астрахани, но крымцы требовали и Казань...
Поскольку переговоры сорвались, Девлет-Гирей решил на следующий год закрепить успех и повторить набег.
Иван IV принял тогда, пожалуй, единственно верное решение: для отпора Девлет-Гирею он объединил земские и опричные войска. Они не просто стояли рядом, как было в прошлый раз. Нет, теперь в каждом полку были и земские, и опричные служилые люди, и земские, и опричные воеводы. Нередко опричники оказывались под началом у земских воевод. Главнокомандующим был назначен князь Михайло Иванович Воротынский, который до того провел немало лет в тюрьме и ссылке. Незадолго до набега 1571 года он начал создание на юге страны оборонительной системы против крымских войск, разработал устав сторожевой службы, которая не давала крымским войскам незамеченными дойти до Оки. Во время набега 1571 года, видимо, только полк Воротынского сохранил боеспособность и преследовал ханские войска.
Чем объяснить, что Иван IV пошел в 1572 году на исправление собственных ошибок? Почему он решился назначить главой армии ненавистного ему Воротынского, чьи богатство и независимое положение внушали Грозному постоянные подозрения? Ответ исключительно прост: слишком критическим было положение. В обычной обстановке диктаторы думают не о благе страны, а об укреплении свой личной власти. В минуты же смертельной опасности для страны такая же опасность угрожает и диктатору, не только его власти, но и самой жизни. И тогда диктатору приходится откладывать на время свои амбиции, идти даже на ослабление своей диктатуры и принимать все необходимые меры для спасения страны. Действует он в такие дни со всей свойственной ему решительностью и энергией (трудно представить себе слабого, нерешительного и неэнергичного диктатора). Так поступил и царь Иван.
30 июля 1572 года возле деревни Молоди, примерно в 45 километрах от Москвы, неподалеку от Подольска, произошла решительная битва. Русские войска во главе с Воротынским нанесли сокрушительное поражение Девлет-Гирею. Следует признать, что в этом сражении отличился и один из опричных воевод – князь Дмитрий Иванович Хворостинин. Дело в том, что в опричнину принимали не только палачей, но и опытных военачальников: ведь опричные войска участвовали в боевых действиях. Принятие в опричнину было знаком царской милости, наградой, от которой нельзя было отказаться. Поэтому один только факт службы в опричнине, если у нас нет в распоряжении сведений о злодеяниях, не может служить достаточным основанием, чтобы считать любого “воеводу из опришнины” палачом и убийцей. Мы не знаем ничего об участии Д.И. Хворостинина в тех или иных карательных акциях опричнины. Что ж, распространим и на него презумпцию невиновности и сохраним о нем память как о мужественном воеводе.
Победа была полной. В плен попал даже крупный крымский полководец Дивей-мурза. Попытка хана через три дня взять реванш не увенчалась успехом: он снова был разбит. Потери Девлет-Гирея в людях были настолько велики, что в ближайшие годы нечего было и надеяться снова ввязаться в войну. Крымская опасность была ликвидирована на 10 – 15 лет. Страна была спасена.
Вместе с тем победа при Молодях показала даже Ивану IV, что опричнина себя изжила. Осенью 1572 года он отменил опричнину с той же безоглядностью, с какой вводил. “Странное учреждение” объявили как бы даже несуществовавшим.
Об опричнине и раньше не рекомендовалось говорить слишком много. От иностранных государств ее просто скрывали. Об этом известно по инструкциям, которые получали русские дипломаты. В них обычно предусматривались ответы на разные “провокационные” вопросы. Так, на вопрос об опричнине полагалось отвечать, что никакой опричнины нет, об этом только болтает “мужичье”, а “мужичьим речем чему верити?”. Просто “которые государю дворяне служат правдою, и те при государе и живут блиско; а которые желали неправды, и те живут от государя подале”. На вопросы о жизни государя в Александровой слободе и строительстве нового дворца надо было отвечать, что “волен государь, где похочет дворы и хоромы ставить, туто ставит; от кого ся государю отделивати?”, в Слободе же он “живет для своего прохладу” (удовольствия. – В. К.). Но теперь об опричнине было запрещено упоминать и внутри страны. По сообщению Штадена, тот кто произнесет внезапно ставшее крамольным слово “опричнина”, подлежал наказанию кнутом.
Были объединены уже не для одной боевой операции, а в целом опричные и земские войска, опричные и земские служилые люди, восстановилось единство Боярской думы. Некоторые из земских получили назад свои конфискованные вотчины. Кое-кто был реабилитирован. Так, из ссылки возвратились вдова и два сына казненного Ф.А. Басманова. Вдову выдал замуж сам царь (т. е. дал ей приданое), сыновьям вернули отцовские вотчины и поместья.
Сделали и некоторые другие жесты, которые должны были символизировать наступление новой политики. Например, в Новгород вернули две иконы в серебряных окладах. Все остальное награбленное осталось в руках царя, зато возвращение икон было обставлено исключительно торжественно. Их встречал архиепископ Леонид (впоследствии, впрочем, казненный царем Иваном) вместе со всем духовенством. Иконы поставили на прежнее место в Софийском соборе, и архиепископ отслужил по этому случаю молебен.
Продолжились казни и самих опричников. Одним из первых потерял голову (в самом буквальном смысле этого слова) князь Василий Иванович Темкин-Ростовский. Его не спасли ни успешно выполненное грязное поручение царя в Соловецком монастыре, ни палаческое усердие 25 июля 1570 года, когда этот Рюрикович как простой палач лично рубил головы. Вероятно, ему было поставлено в вину, что он не отстоял от огня опричный дворец во время набега Девлет-Гирея в 1571 году. Незадолго до казни князь Василий даже вынужден был отдать свои вотчины в виде компенсации отцу казненного им без вины человека (“за сына ево убитую голову”).
Впрочем, летели головы не только у опричников. Победитель при Молодях князь Воротынский, получивший за эту победу высочайший титул “государева слуги”, меньше чем через год был казнен по вздорному обвинению, что пытался околдовать царя. Донес на Воротынского его холоп. Курбский рассказывает, что князя связанным держали над огнем, а царь сам подгребал угли. Вместе с Воротынским были казнены еще двое воевод: уже престарелый Михайло Яковлевич Морозов и бывший опричник князь Никита Романович Одоевский.
Так в чем же дело?
Так был ли все же какой-то смысл, и если был, то какой, во всей этой вакханалии казней, убийств, во всех этих странных, часто противоречивых извивах правительственной политики, во внезапных возвышениях и столь же внезапных падениях временщиков? Речь, разумеется, не идет о поисках оправданий для опричнины. Каковы бы ни были прогрессивные последствия опричнины (если были), все равно у историка нет морального права прощать убийство десятков тысяч ни в чем не повинных людей, амнистировать зверство. Выбросив из истории моральную оценку, мы окажемся сторонниками давно осужденного, но все еще, увы, живого тезиса: “Цель оправдывает средства”. Но такая позиция не только морально уязвима, она антинаучна, ибо, как в физике, измерение подчас меняет свойства объекта, так и в жизни цель меняется под воздействием средств. Нельзя достичь высокой цели грязными средствами.
Вопрос о значении и роли опричнины давно пытается решить наша наука. Долгое время спор шел исключительно в моральной плоскости (чрезвычайно важной, но не единственной, определяющей решение проблемы). Только казни, кровопролитие практически без анализа их причин занимали дворянских историков – и князя Михаила Михайловича Щербатова, жившего во времена Екатерины II, и великого ученого Николая Михайловича Карамзина.
Карамзина иногда считают основателем концепции “двух Иванов” – мудрого государственного мужа в первой половине своего царствования и тирана – во второй. Пожалуй, для широкой публики именно Карамзин сделал эту концепцию привычной. Однако родилась она задолго до XIX века. У ее истоков стоял еще князь Курбский. В своем антигрозненском памфлете “История о великом князе Московском” он задается вопросом, “откуды сия приключишася так прежде доброму и нарочитому царю, многажды за отечество и о здравии своем не радяшу... и прежде от всех добру славу имущему?”. И первое свое послание царю Ивану Курбский адресует “царю, от бога препрославленному, паче же во православии пресветлуявившуся, ныне же – грех ради наших – сопротивным (противоположным. – В. К.) обретеся”. Такая позиция Курбского понятна: как бы иначе он мог объяснить своим читателям, почему он столько лет верой и. правдой служил такому извергу и тирану?
Представление о внезапном изменении характера царя Ивана характерно и для исторических сочинений, появившихся в начале XVII века, в первые годы правления династии Романовых. Дело в том, что первый царь этой династи – Михаил Федорович и его окружение оказались в нелегкой ситуации. Только по жене Ивана Грозного – царице Анастасии (родной сестре деда царя Михаила) они имели право на престол. Однако зверства опричнины были у всех в памяти. Буквально все авторы этого времени ищут корни трагических событий начала XVII века, “пленения и конечного разорения превысокого и пресветлейшего Московского государства” в мрачных временах опричного террора. Большинство авторов резко осуждает царей, которые “крови многочисленнаго народа... яко река, излияша”. Пожалуй, лишь сын опричника, князя Андрея Ивановича Хворостинина (брата того Дмитрия Хворостинина, который отличился в битве у Молодей) – Иван упоминает “всеславнаго царя Ивана”, но и он предпочитает просто умолчать о событиях XVI века, а восхвалять опричный террор и казни “изменников” не решается.
Следовательно, становится необходимым одновременно недвусмысленно отмежеваться от опричнины и подчеркнуть свою связь с угасшей династией потомков Калиты. Здесь как нельзя более кстати подоспела концепция “двух Иванов”. Настойчиво внедряется в сознание мысль, что все хорошее в наиболее ярком царствовании недавнего прошлого исходило от благочестивой царицы Анастасии, представительницы того рода, из которого вышел и новый царь; все же дурное началось лишь после ее смерти. Воцарение Михаила Романова – это тем самым возврат к блаженным временам первого периода царствования Ивана IV. Вероятно, именно тогда проникает в фольклор идеализированный образ “старого боярина” Никиты Романовича, деда царя Михаила, который своим смелым заступничеством умерял последствия гнева грозного царя. Создатели этой легенды как-то забывали, что если Никита Романович Юрьев благополучно прожил все опричные годы и на несколько лет пережил царя Ивана, то только потому, что никогда ни за кого не заступался, хотя, видимо, и не причинил никому особенного зла.
Выше уже шла речь о “государственной школе” и С.М. Соловьеве, который, недвусмысленно осуждая зверства опричнины, видел в ней закономерное проявление борьбы новых государственных начал против отживших родовых. В самом же конце XIX века, в канун первой русской революции, возникает новая концепция опричнины, которая с небольшими изменениями дожила и до наших дней, особенно в учебной литературе. Создателем ее был крупнейший историк тех лет Сергей Федорович Платонов, изложивший эту концепцию в своей книге “Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI – XVII вв.”.
Платонов начало своего труда посвятил истокам Смуты, и в частности опричнине. Он попытался найти корни опричнины не в чертах характера царя Ивана, не в заговорах бояр или в безумном стремлении царя истреблять своих подданных, а в социальных отношениях. По мнению Платонова, главным тормозом централизации страны были боярство, крупные землевладельцы. В дальнейшем мы еще вернемся к вопросу о том, насколько обоснован этот тезис Платонова, послуживший предпосылкой для его дальнейших рассуждений. Ученый полагал, что Иван Грозный, выселяя из опричных уездов бояр, тесно связанных с местным населением, привыкшим смотреть на них как на своих государей, тем самым заменял, как он писал, “остатки удельных переживаний новыми порядками”. Этой цели служила, по мысли Платонова, и раздача опричникам-дворянам вотчин выселенных бояр. В этих переселениях Платонов увидел главное в опричнине и отсюда выводил социальный смысл этого учреждения. Думается, читателю с детских лет памятна эта концепция.
Я не согласен с Платоновым, но все же думаю, что его труд был гигантским шагом вперед в изучении опричнины. Это была первая попытка найти корни опричнины в каких-то социальных явлениях. И сразу коренным образом изменился набор тех источников, которые историки используют для изучения опричнины. Ведь до Платонова изучали лишь внешнюю канву событий, примерно в том духе, как было сделано в этой книге несколькими страницами раньше. Соответственно источниками служили летописи, писания царя Ивана и Курбского, сочинения иностранцев, то есть источники повествовательные, чрезвычайно субъективные и тенденциозные. Споры о степени достоверности заключенной в них информации можно было бы вести бесконечно. Не требовало особых трудов объявить одни и те же источники то “тенденциозной клеветой”, то “независимым мнением”, то “официальной ложью”, то “объективным изложением фактов”. Критерием истины становилась лишь принятая исследователем точка зрения.
Изучение социальной политики опричнины потребовало принципиально новых источников. Незаметные и скромные купчие, меновные и другие акты феодального землевладения стали важным материалом для суждений об опричнине. Появилась возможность использовать уже не отдельные документы, а целый их массив.
Концепция Платонова спровоцировала обращение историков к этим источникам, но под напором выявленных благодаря этому фактов сама рухнула.
Прежде всего выяснилось, что в опричнину вовсе не были взяты те уезды, где были особенно сильны традиции землевладения бывших удельных князей. Например, хотя в опричнину вошел Суздальский уезд (оттуда происходили князья Шуйские, ветвь суздальских князей), но, во-первых, кое-кто из Шуйских, видимо, сам стал опричником, а во-вторых (и это главное), основные их вотчины остались в соседнем Нижегородском уезде, который был земским. Более того, как показал Г.Н. Бибиков (историк, великолепно начавший свою научную деятельность перед самой войной и погибший на фронте), в опричнину вошли в основном уезды, населенные средними и мелкими феодалами, рядовыми служилыми людьми. В связи с этим С.Б. Веселовский писал, что для выселения нескольких княжат из их родовых гнезд вовсе не было нужно выгонять “из уездов многие сотни рядовых помещиков и вотчинников. Подобная идея могла прийти в голову только совершенно полоумному человеку”. Однако Веселовский исходил из убеждения, что все эти выселения действительно были осуществлены. Но так ли это?
Этот вопрос поставил Александр Александрович Зимин (1920 – 1980), выдающийся советский историк. Он тщательно изучил все сведения о переселениях феодалов в годы опричнины. А материалов такого рода накопилось немало. Ученик С.Ф. Платонова П.А. Садиков упорно работал в архивах и нашел много документов, которыми служилые люди оформляли продажу или дарение монастырям своих земель, полученных в возмещение за вотчины, утраченные в опричнине. Зимин скрупулезно исследовал состав этих феодалов, потерявших вотчины в опричные годы. Оказалось, что среди них почти не было людей, с точки зрения царя Ивана, “чистеньких”. Большинство их было родственниками опальных, многие связаны с двором опального старицкого князя. Итак, одно из двух: либо эти выселения были прокламированы, но не осуществлены в полной мере, а правительство выселило только опальных; либо тех феодалов опричных уездов, кто не внушал царю особых подозрений, оставляли на месте и зачисляли в опричнину.
Более того, известны случаи, когда у человека, который по закону вроде должен был лишиться вотчины, ее оставляли. Характерна в этом смысле история вотчины Андрея Тимофеевича Михалкова, рассказанная им самим в своем завещании. Михалков получил в наследство от тестя два села в Костромском и Угличском уездах, с тем чтобы зять уплатил долги тестя и дал в монастырь вклад по его душе. “И те вотчины, – пишет Михалков, – в опришнину были взяты и розданы в роздачю. И я о тех вотчинах бил челом государю, что я за те вотчины по духовной тестя своего и шурьев дал по их душам 300 рублев. И государь теми вотчинами меня пожаловал и в грамоте велел написать, что те вотчины мне и сыну моему Ивану и в род неподвижно за мою за литовскую службу”.
Итак, та реформа, которую считали самой сутью опричнины, была либо не осуществлена, либо осуществлена далеко не в полном объеме. А ведь во многом именно на опричных переселениях основано ходячее представление об опричнине как системе мер, направленных против боярства. В связи с этим необходимо небольшое отступление от основной темы книги.