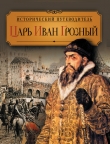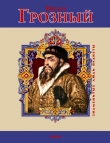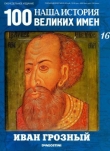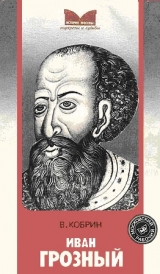
Текст книги "Иван Грозный"
Автор книги: Владимир Кобрин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Глава III
«ВО СЛОВЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ РИТОР»
«Яко бы неистовых баб басни»
Портрет царя не будет полным, если не остановиться на одной важной грани его личности – литературной деятельности и общественно-политических воззрениях. Среди оценок современников есть и такая: «...во словесной премудрости ритор, естествословен и смышлением быстроумен». Иван Грозный был, несомненно, одним из самых талантливых литераторов средневековой России, быть может, самым талантливым в XVI веке.
И вновь я слышу протесты читателей: "Опять вы за свое: оправдываете, возвеличиваете кровавого тирана". Нет, не оправдываю и тем более не возвеличиваю. Просто распространенным заблуждением стало считать, что называть человека талантливым – не констатация факта, а похвала ему, в том числе и его моральным качествам. Словно негодяй или преступник не может быть талантливым. Ведь человек – не черно-белая гравюра с резкими переходами от света к тени, а скорее – живопись с множеством оттенков разных цветов. Стилистические достоинства литературного произведения, увы, не влекут за собой автоматически моральные достоинства его автора.
В литературе царь Иван был прежде всего новатором. Для всякой средневековой письменности, в том числе и для русской, характерен литературный этикет. Это и неудивительно: ведь сословный строй средневековья делал этикетной всю жизнь. Человек одевался и ходил так, как того требовало его положение на общественной лестнице. Даже число лошадей в его упряжке зависело не столько от его материальных возможностей, сколько от чина, места в иерархии. Соответственно и в литературе были строгие правила, в каких выражениях положено писать о враге и о "своих", о битве и о монашеской жизни, где место разговору о "простых" бытовых подробностях, а где надо выражаться торжественно и велеречиво. В наши дни литературный этикет выродился в литературный штамп, где "наш" отличается от "чужого" тем, что "наш" – высок и строен, а "их" – долговяз и поджар.
Сегодня нельзя себе представить литературу без разговорного языка, в средние же века разговорный и литературный языки далеко отстояли друг от друга. Живые обороты устной речи можно было встретить иной раз в деловых документах да в записях показаний на суде. Для литературы они считались противопоказанными. Иван Грозный, пожалуй, первым пошел на широкое включение в свои послания разговорного языка и даже просторечия.
Не исключено, что эта особенность связана с тем, что Иван IV, вероятно, не писал свои послания собственноручно, а диктовал их. Писать своей рукой считалось как бы недостойным государя. Так, служилые люди, вплоть до бояр высокого ранга, если были грамотны, сами подписывали те или иные документы, а имя царя на грамоте писал дьяк, царь же лишь прикладывал к ней свою печать. У нас сохранились, например, собственноручные подписи Бориса Годунова того времени, когда он был боярином, но нет ни одного его автографа в бытность царем. Эту особенность интуитивно почувствовал наш великий писатель М.А. Булгаков: в его пьесе "Иван Васильевич" Иван Грозный как раз диктует свое послание дьяку.
Так что автографов Ивана IV в нашем распоряжении нет. Правда, есть гипотеза Д.Н. Альшица, согласно которой царь Иван собственноручно правил текст летописного свода, посвященный событиям начала 50-х годов XVI века. Однако это предположение принято далеко не всеми исследователями. Ученому удалось несомненно доказать, что правка была произведена по приказу царя, отражала его стремления к целенаправленной переделке задним числом исторической действительности, но чья рука держала перо, которое зачеркивало один текст и писало новый – царя или одного из его приближенных, – пока предмет научного спора.
Отсутствие автографов царя Ивана даже породило точку зрения о том, что он не был автором тех произведений, которые считаются принадлежащими ему. Этот взгляд отстаивает американский ученый Э. Кинан, автор ряда работ по истории русской средневековой письменности. Кинан отрицает не только авторство Грозного, но считает стилизацией XVII века и произведения Курбского. Однако гипотеза Кинана (впрочем, сам он считает ее доказанной) встретила обоснованную критику и советских, и зарубежных (в том числе американских) ученых, указавших на существенные пробелы в аргументации этого автора.
Опровержения построений Кинана базируются на тщательных исследованиях по выявлению разных редакций произведений Грозного и Курбского, изучению их соотношения, на сличении текстов Грозного и Курбского с теми, которые, по мнению Кинана, послужили фальсификатору основой для создания вымышленного текста. Но есть и еще один аргумент. Кинан не придал значения стилю произведений Грозного. Между тем мы располагаем такими его посланиями, которые дошли до нас не в составе рукописных сборников XVII века, а в официальных документах XVI века – послания английской королеве Елизавете I, шведскому королю Юхану III, опричнику Василию Грязному. В них явно ощущается стилистическое единство с остальными произведениями грозного царя. Таким образом, авторство Ивана Грозного сегодня уже сомнений не вызывает.
Первое, что обращает на себя внимание при чтении произведений царя Ивана – это его широкая (разумеется, на средневековом уровне) эрудиция. Для доказательства своих положений он совершенно свободно оперирует примерами не только из истории древней Иудеи, изложенной в Библии, но и из истории Византии. Все эти многочисленные сведения у него как бы естественно выплескиваются. Он прекрасно знает не только Ветхий и Новый Завет, но и жития святых, труды "отцов церкви" – византийских богословов. Болгарский ученый И. Дуйчев установил, что Грозный свободно ориентировался в истории и литературе Византии.
Поражает память царя. Он явно наизусть цитирует в обширных выдержках Священное писание. Это видно из того, что библейские цитаты даны близко к тексту, но с разночтениями, характерными для человека, воспроизводящего текст по памяти. Цитаты эти так обширны, что Курбский даже иронизировал над тем, что царь цитирует не, как принято, отдельными строками и стихами, а "зело паче меры преизлишно и звягливо, целыми книгами, паремъями (обширными отрывками. – В. К.), целыми посланьми". Впрочем, и сам Курбский признавал, что знает царя как человека, «священнаго писания искуснаго».
Думается, сочетание больших природных способностей, интеллектуальной и литературной одаренности с властолюбием способствовали развитию в царе Иване некоего "комплекса полноценности", превосходства над жалкими "людишками", не знающими того, что ведомо царю, не умеющими так выражать свои мысли, как умеет царь. Не только отсюда, но, возможно, и отсюда проистекало глубокое презрение царя к людям, стремление унизить их достоинство.
Умение царя взорвать литературный этикет средневековой письменности ярко проявилось в его переписке с Курбским. Курбский был, несомненно, очень талантлив, но оставался целиком в рамках литературной традиции. Он в совершенстве владел стилем средневековой риторики, подчас даже переходя к своеобразной ритмической (или, быть может, слегка тронутой ритмом) прозе. Вот, например, отрывок из его первого послания царю Ивану (чтобы подчеркнуть ритм, я позволил себе чисто условно разбить его на строки)
Почто, царю,
силных во Израили побил еси
и воевод, от бога данных ти
на враги твоя,
различными смертьми расторгл еси
и победоносную святую кровь их
во церквах божиих пролиял еси
и на доброхотных твоих
и душу за тя полагающих
неслыханные от века муки и смерти
и гоненья умыслил еси,
изменами и чародействы и иными неподобными
облыгая православных
и тщася со усердием
свет во тьму прелагати
и сладкое горько прозывати?
Что провинили пред тобою
и чем прогневали тя
кристьянскии предстатели?
Царь Иван тоже владел стилем средневекового "плетения словес". Не менее четкий, чем у Курбского, ритм слышен в таких строках царского посланиях
Ты же, тела ради,
душу погубил еси,
и славы ради мимотекущие,
нетленную славу презрел есн,
и на человека возъярився,
на бога возстал еси.
Торжественно звучит будто выкованная из металла речь царя:
«Не дожидаютца грады Германские бранного бою, но явлением животворящего креста поклоняют главы своя».
И сразу вслед за этим пассажем, писанным самым высоким стилем, словно видишь усмешку царя Ивана:
«А где по грехом, по случаю, животворящего креста явления не было, тут и бой был. Много отпущено всяких людей: спрося их, уведай».
В другом случае длинное рассуждение со ссылками на учение фарисеев, с цитатой из апостольских посланий внезапно заканчивается грубой и разговорной фразой:
«Что же, собака, и пишешь и болезнуешь, совершив такую злобу? Чему убо совет твой подобен, паче кала смердяй?»
Грубость выражений царя Ивана исключительна, но она стилистически оправдана, ибо разрушает этикет. Так, царь Иван нарочито снижает высокую патетику Курбского.
«Уже не узриши, мню, лица моего до дни Страшного суда», – пишет царю Курбский.
«Кто бо убо и желает таковаго ефиопскаго лица видети?» – отвечает Иван IV.
Характерно в этом плане второе послание Грозного Курбскому, то, где шла речь о «градах Германских». Послание это было написано (или, вернее, продиктовано) в особо приятной для царя Ивана обстановке. В 1577 году русские войска, которыми на этот раз командовал сам государь, взяли в Ливонии город Вольмар, тот самый, из которого отправил свое первое послание Курбский. Да не просто отправил, а с вызовом подчеркнул:
«Писано в Вольмере, граде государя моего Августа Жигимонта короля, от него же надеюся много пожалован быти и утешен от всех скорбей моих».
Крепко засели в памяти царя Ивана эти «злокусательные» слова и всплыли наружу через 13 лет, когда он въехал в Вольмар победителем.
В том давнем послании Курбского было еще одно место, видимо, задевшее Грозного, хотя н несколько иначе. Говоря о своих военных заслугах, Курбский писал, что редко бывал дома,
«но всегда в дальноконных градех твоих против врагов твоих ополчяхся».
Эпитет «дальноконный», то есть такой, до которого и на коне добираться долго,-изобретение Курбского. Это яркое и образное словцо, должно быть, уязвило уже писательское самолюбие Грозного. Он и к нему вернулся через 13 лет, когда во взятом только что Вольмаре диктовал саркастическое послание своему врагу. Вспомнив в 1577 году о дальноконных градах, царь продолжил:
«...ныне мы з божиею волею своею сединою и дали твоих дальноконных градов прошли».
Но мотив коней продолжает развиваться: «...коней наших ногами переехали все ваши дороги», нельзя сказать, что «не везде коня нашего ноги были»... И наконец, заключительный удар:
"И где еси хотел упокоен быти от всех твоих трудов, в Волмере, и тут на покой твой бог нас принес, и где, чаял, ушел – а мы тут, з божиею волею сугнали, и ты тогда дальноконнее (выделено мной. – В. К.) поехал".
В свои послания Иван IV свободно включал не только сдобренные ссылками на Библию и исторические примеры рассуждения, но и простые, написанные живым языком зарисовки. Тут и описание одного из боярских мятежей:
«...а митрополита затеснили и манатью на нем с источники изодрали, а бояр в хребет толкали»;
тут и неожиданно возникающая после сентиментально-торжественных слов о «юнице» (царице Анастасии), которую у него якобы «отняли», придворная сплетня о каком-то любовном приключении Курбского:
"А буде молвиш, что я о том не терпел и чистоты не сохранил (речь идет о новых браках царя. – В. К.) – ино вси есмы человецы.Ты чего для понял стрелетцкую жену?"
Этот последний намек уязвил Курбского. В ответном послании он писал, что то, что пишет царь, «припоминаючи... стрелецких жен» – это «смеху достойно и пияных баб басни» (один из редких случаев, когда Курбский прибег к просторечию!).
Курбский, видимо, знал, что царь гордится своим стилем, знал, как ударить побольнее. А потому именно в эту точку часто направлял свои уколы. Отвечая на первое послание Грозного, он назвал его «широковещательным и многошумящим», негодовал на смешение в нем цитат из Священного писания с бытовыми припоминаннями:
«Туто же о постелях, о телогреях и иные бещисленные, воистину, яко бы неистовых баб басни»,
а затем приходил к выводу, что так «варварско» написанное послание вызывает удивление и смех не только у «ученых и искусных мужей», но и у детей; добавлял, что негоже так писать «в чюждую землю», где кое-кто разбирается «не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учениих».
Но эти упреки Курбского относятся не к слабым, а к сильным сторонам стиля Грозного. Курбский выступает здесь в роли традиционалиста, слишком хорошо знающего, как должно, как положено писать. Именно литературное новаторство царя вызывает раздражение у его оппонента.
Дипломатическая перебранка
Этот стиль живой перебранки Грозный вводил даже в дипломатическую переписку, например, в послание английской королеве Елизавете I. Царь отправил его 24 октября 1570 года в момент обострения русско-английских отношений. Англия получила в свое время значительные привилегии в русской внешней торговле, давшие ей почти монопольное положение. В обмен царь Иван рассчитывал на союз в Ливонской войне. Но королева не собиралась втягиваться в войну на континенте и соглашалась лишь предоставить царю Ивану политическое убежище, если он будет вынужден бежать из России (а Иван IV вроде всерьез об этом подумывал).
Перечислив в послании все прегрешения английской дипломатии, ратующей лишь о торговых привилегиях, царь Иван с негодованием писал:
«И мы чаяли того, что ты на своем государьстве государыня и сама владееш... Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но мужики торговые, и о наших о государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываеш в своем девическом чину, как есть пошлая девица».
В некоторое оправдание грубости Ивана Грозного можно сказать лишь, что слово «пошлый» в языке того времени означало обыкновенный. Но все же назвать великую королеву Англии обычной девицей было достаточным оскорблением, тем более что Елизавета была озабочена своим девством, болезненно воспринимала намеки на него, и, должно быть, царю Ивану было это известно.
В послании есть еще один момент, уже не стилистический. Царь Иван выступает здесь как феодальный монарх, который глубоко возмущен ролью буржуазии в политике той страны, где уже начали развиваться капиталистические отношения. Грубость царя имеет здесь, таким образом, серьезную идеологическую подоплеку.
Послание Елизавете может показаться верхом куртуазности по сравнению с тем, как царь Иван писал шведскому королю Юхану III. Резкость тона была вызвана щекотливым положением, в которое попала русская дипломатия. Со шведским королем Эриком XIV в 1567 году Россия заключила договор о союзе и разделе Ливонии.
В договоре был один странный пункт; король Эрик обещал прислать в жены царю Ивану жену своего брата герцога Юхана Екатерину. Юхан, боровшийся против Эрика, был заточен в тюрьму, сам же царь Иван потом утверждал, что был уверен в его смерти: Эрих «оманкою нам хотел дати жену твою», царю будто бы сообщили, что Юхана «в животе нет». Правда, Иван IV не объяснял, как он собирался уладить отношения с собственной женой – царица Мария Темрюковна была тогда жива. Екатерина, однако, представлялась царю более завидной партией: она была сестрой польского короля Сигизмунда II Августа. Поскольку у Сигизмунда-Августа не было детей, царь рассчитывал приобрести через этот брак права на польский престол.
Вскоре в «Стекольню» (так на Руси называли Стокгольм) прибыло русское посольство во главе с Иваном Михайловичем Воронцовым. Послы должны были ратифицировать союзный договор и увезти с собой принцессу Екатерину. Но произошло непредвиденное: король Эрик психически заболел (как писал со слов шведов Воронцов, он стал «не сам у собя своею персоною»), его свергли с престола, а принц Юхан не только освободился из темницы, но и занял королевский трон. Цель посольства была прекрасно известна новому королю, и он дал волю своему гневу: не только отправил царю резкое послание, но и надругался над послами – их ограбили до нитки, оставив в одних рубашках. Царю Ивану пришлось одновременно защищаться от обвинений в намерении похитить чужую жену и нападать.
Говоря о своем, мягко говоря, странном сватовстве, царь Иван не ограничился оправданиями в незнании того, что Юхан жив, а перешел в наступление. Во всем, дескать, виноваты шведы, которые сами не могут разобраться, кто у них король: «...опрометываетеся, как бы гад, розными виды»; к тому же "много говорить о том не надобеть: жена твоя у тебя, нехто ее хватает (никто ее не хватает. – В. К.)". Отрицал Иван и что хотел взять принцессу в жены: он, оказывается, надеялся только выменять на нее Ливонию у ее брата Сигизмунда-Августа.
Был еще один пункт разногласий. Дипломатические сношения со Швецией традиционно осуществлялись через новгородских наместников. Это был след того времени, когда независимый "Господин Великий Новгород" самостоятельно заключал договоры со Швецией. Начиная с отца Эрика и Юхана Густава Вазы шведские короли пытались изменить это положение как унизительное для достоинства страны.
При Эрике XIV Иван IV в надежде заполучить принцессу Екатерину и вывести Швецию из числа противников в Ливонской войне пошел на прямые сношения со шведским королевским двором. Однако после переворота Юхана царь решил вернуться к традиционному протоколу. Юхан же добивался равноправия в отношениях.
Царь отвечал королю, что ему, отпрыску «мужичьего рода» (ведь его отец – Густав Ваза – не прирожденный государь, а избранный король), «нелзя ровнятися с великими государи». Тем более что, как утверждал Иван IV, сноситься через новгородских наместников– достаточно почетно, не меньше, чем с независимым Новгородом:
«Ино тем ли Великий Новгород, отчина наша, честна была, что от нас откладна была, али тем ныне безчестна, что нас познали, своих государей?»
Поражает конец грамоты, в котором грозный царь переходит уже к брани, находящейся на грани с площадной:
"А что писал еси к нам лаю (ругань; лаяти – ругать. – В. К.)... и нам, великим государем, и без лае к тебе писати нечево".
И далее:
«А ты, взяв собачей рот, захошь за посмех лаяти, ино то твое страдничье пригожство: тебе то честь, а нам, великим государем, с тобою и ссылатися безщестно... А с тобою перепаиваться, и на сем свете того горее и нет, и будет похошь перелаиватися, и ты себе найди такова ж страдника, каков еси сам страдник, да с ним перелаивайся».
«Ох мне скверному»
Для стиля царя Ивана характерна еще одна особенность: лаконизм, находящийся как будто в противоречии с длиной многих его произведений. Дело в том, что лаконичен он не всегда, но в лучших местах умеет одной фразой выразить сложную мысль или создать яркую, живую картину жизни. Вот, например, его послание в Кирилло-Белозерский монастырь. В нем царь выступает поборником чистоты монашеских нравов, «крепости» монастырской жизни. Приводит он много отрицательных примеров. Один из них – Звенигородский Савво-Сторожевский монастырь:
«А на Сторожех до чего допили! Тово и затворити монастыря некому, по трапезе трава растет».
Можно представить себе, сколько потребовалось бы слов менее талантливому литератору, чтобы рассказать, как из-за пьянства убавилось число монахов, как пренебрежительно они относятся к иноческому житию и даже не сходятся к общей трапезе и молитве в трапезной церкви... Все это лишнее: одна фраза дает лучшее представление о пьяной обители, чем подробный рассказ.
Послание в Кирилло-Белозерский монастырь – одно из лучших произведений царя. Через три с половиной века оно снова вошло в историю отечественной словесности: в пьесе М.А. Булгакова "Иван Васильевич" реальный Иван Грозный диктует дьяку именно это послание.
Обстоятельства написания этого произведения таковы. В Кирилло-Белозерском монастыре оказались в числе монахов, кто по желанию, а кто невольно, многие бояре. Знатные иноки перессорились, в спорах хвастались близостью к государю. Напуганные монастырские власти не знали, что делать, и игумен Козьма обратился к царю с просьбой помочь разобраться в боярских сварах. Царь Иван рассвирепел: ведь большинство монахов-аристократов он сам почитал за ссыльных «собак-изменников». Но все же послание начал в таком смиренном тоне, что любого, кто знал горячий нрав государя, это не могло не насторожить. «Увы мне грешному! Горе мне окаянному! Ох мне скверному! Кто есмь яз на такую высоту дерзати?» – так сразу после пышного обращения пишет царь.
В первой части этого удивительного одновременно по таланту и лицемерию произведения Иван Васильевич проявляет феноменальную изобретательность в поисках самых черных красок для собственной характеристики. «А мне, псу смердящему, кому учити, и чему наказати, и чем просветити?», ведь он виновен в постоянных «пианьстве, в блуде и прелюбодействе, в скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе», он «нечистый и скверный душегубец». Филиппики Курбского бледнеют перед этими самопроклятиями. Скажи кто-нибудь другой одну сотую этого о государе, назавтра бы несчастный погиб в страшных мучениях. Но, должно быть, царь находил особую прелесть в том, чтобы говорить о себе так, как не смел более никто в стране. В том было как бы еще одно отличие от всех прочих, еще одна ступенька к высотам, недоступным для простых смертных.
Только постепенно, почти незаметно тон послания меняется до неузнаваемости. Да, не он должен учить монахов, а они – его, ибо «свет иноком ангели, свет же миряном иноки». Но ведь он, царь, давно еще рассказал кирилловским старцам, что мечтает «о пострижении» и даже дал обет. Поэтому он чувствует, что уже «исполу... чернец», носит на себе «рукоположение благословения ангельскаго образа». Потому-де он только и решился написать это послание, но учит не сам, а только ссылается на заветы основателя монастыря – «чудотворца» Кирилла.
С удивлением и возмущением пишет Грозный о том, как пышно и своевольно живут в монастыре Иван Васильевич Шереметев (инок Иона), Иван Иванович Хабаров (инок Иооасаф), Василий Степанович Собакин (инок Варлаам). Все смирение забыто царем, когда речь заходит о боярах: Собакин (то ли дядя, то ли даже отец кратковременной царицы Марфы) – «злобесный пес», Шереметев – «бесов сын», Хабаров – «дурак и упырь». Бояре, придя в монастырь, ввели «свои любострастные уставы», а потому «не они у вас постриглися – вы у них постриглися». Постепенно нарастает сарказм, направленный уже не столько против бояр, сколько против потворствующих им монахов: «Да Шереметева устав добр – держите его, а Кирилов устав не добр – оставь его!»
Сочными красками описывает царь привольную жизнь аристократических монахов.
"А ныне у вас Шереметев сидит в келии, что царь, а Хабаров к нему приходит, да и иныя черньцы, да едят, да пиют, что в миру. А Шереметев нивести с свадьбы, нивести с родин, розсылает по келиям пастилы, ковришки и иныя пряныя составныя овощи (изысканные кушанья. – В. К.)... А инии глаголют, будто де вино горячее (водку. – В. К.) потихоньку в келню к Шереметеву приносили: ано по монастырем и фряские (итальянские, виноградные. – В. К.) зазор".
Реализм описания настолько велик, что становится ясно, у царя были источники информации о всех деталях жизни бояр в обители Кирилла-чудотворца. Один из них он даже назвал – к царю с жалобами на монастырь приезжал В. Собакин и доносил, «что будто вы про нас не гораздо говорите со укоризною». Правда, царь уверял, что «на то плюнул и его бранил» и добавил, что Собакин – "мужик очюнной (не до конца проспавшийся. – В. К.), врет и сам себе не ведает что". И все же, вероятно, резкий тон послания отчасти объясняется этим доносом.
Впрочем, и без Собакина царь по многим примерам реально представлял себе, каков был подлинный, не отраженный в строгих уставах быт монастырей. Недаром он подчеркивает, что порядки в Кириллове – не исключение. Повсюду, полагает царь, распространилось пьянство: "...в мале поселим поникши и потом возведем (поднимем. – В. К.) брови, таже и горло, и пием, донеле же (пока. – В. К.) в смех и детем будем". Даже «у Троицы в Сергиеве благочестие иссякло и монастырь оскудел», да и «по всем монастырем» прежние «крепкие» уставы «разорили любострастные».
Напрасно царь делал вид, что такие испорченные нравы – новость. За два с лишним десятка лет до того, в 1551 году, выступая на церковном соборе, сам же Иван Васильевич рисовал не лучшую картину монастырской жизни. В монастыри многие постригаются не «спасения ради душа своя», а «покоя ради телеснаго, чтобы всегда бражничать». Настоятели покупают свои должности, «доводят» за счет монастыря своих родичей, в кельи «небрежно жонки и девки приходят», а архимандриты и игумены все монастырские богатства «с роды, и с племянники, и с боляры, и с гостьми, и с любимыми друзи истощили». Такие порядки, по мысли царя, нарушают равенство «братии во Христе», которое должно существовать в монастыре.
О каком равенстве можно говорить, если у Шереметева «и десятой холоп, которой у него в келий живет, ест лутчи братий, которыя в трапезе ядят»? Обрядившийся внезапно в демократические одежды царь грозно вопрошает монахов: «Ино то ли путь спасения, что в черньцех боярин бояръства не състрижет, а холоп холопъства не избудет?» Изображенную им картину Грозный доводит до логического абсурда: «И только нам благоволит бог у вас пострищися, ино то всему царьскому двору у вас быти, а монастыря уже не будет».
Раздражение царя вызвал еще один факт из жизни Кириллова монастыря. Здесь был похоронен князь Владимир Иванович Воротынский; над его могилой вдова соорудила церковь – сохранившийся до наших дней памятник архитектуры, удивительно изящный, сравнительно небольшой храм. Послание же царь писал вскоре после того, как казнил брата князя Владимира – героя битвы при Молодях Михаила Ивановича. К тому же один из монахов в беседе с царем неосмотрительно похвалил княгиню за благочестие. Только что требовавший полного равенства людей перед богом царь Иван на этот раз возмущается тем, что церковь Воротынскому – не по чину: положено лишь «царьстей власти церковию и гробницею и покровом почитатися». Могло бы быть лишь одно основание для исключения – если бы похороненный был святым. Но в монастыре все обстоит наоборот: «...над Воротынским церковь, а над чюдотворцем нет». И потому на Страшном суде, иронизирует царь, Воротынский и Шереметев должны оказаться выше святого основателя монастыря: Воротынский церковью, а Шереметев – уставом, который на практике заменил устав Кирилла.
Автор позволил себе так подробно остановиться именно на этом послании, поскольку в нем сошлось многое: и воззрения царя, и лицемерие, и литературная одаренность, и убийственный сарказм.