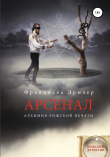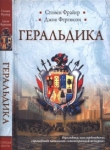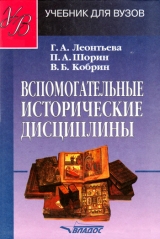
Текст книги "Вспомогательные исторические дисциплины"
Автор книги: Владимир Кобрин
Соавторы: Галина Леонтьева,Павел Шорин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Древнерусская денежная терминология и денежный счет
В русских письменных источниках, прежде всего в «Русской Правде» и в «Повести временных лет», содержатся следующие наименования денежных единиц: скот, куна, резана, ногата, веверица, векша, бела и гривна.
Древнейшей весовой единицей является гривна. Это название связано с шейным украшением в виде обруча, широко распространенным у славян, финно-угров и других народов. Происхождение весовой гривны еще окончательно не установлено. Делались попытки вывести ее вес из византийской литры (римской либры – 327,456 г) на основании параллельного анализа договора 911 г. Руси с Византией и «Русской Правды». Договор фиксирует норму штрафа в 5 литр за намеренное нанесение удара «по закону русскому», а «Русская Правда» за аналогичное оскорбление назначает штраф в 12 гривен. Отсюда определялся вес гривны в 136,44 г. Веский аргумент против византийского происхождения гривны – отсутствие среди материальных памятников древнерусского денежного обращения слитков серебра, хотя бы отдаленно приближающихся к весу 136,44 г, и более мелких денежных единиц (монет), находящихся в пропорциональных отношениях с этим весом.
Долгое время очень популярной была теория восточного происхождения русской гривны. Суть ее сводится к следующему. Позднейший русский фунт (409,512 г) близок по весу иракскому ратлю. Среди памятников древнерусского обращения хорошо известны денежные слитки новгородского типа, теоретический вес которых равен приблизительно 204 г, что составляет ровно половину иракского ратля. Отсюда делался вывод о заимствовании веса гривны с Востока.
В настоящее время наиболее аргументированная гипотеза происхождения русской денежно-весовой системы предложена В.Л. Яниным. Ее основное отличие от существовавших ранее теорий заключается в том, что она построена на основе тщательного анализа обширного нумизматического материала. Основные положения этой концепции могут быть сведены к следующему. Первое знакомство восточных славян с денежно-весовыми единицами относится к первым векам новой эры. В это время на территории Восточной Европы обращаются значительные массы римских серебряных монет – денариев. Средний вес римского денария – 3,41 г – лег в основу славянской гривны в 68,22 г в соответствии с традиционным славянским счетом на 20, 40 и 80. Гривна весом в 68,22 г, бытовавшая в IX – 1-й половине Х в., была более древним элементом системы, чем гривна серебра. В.Л. Янин допускает и другую возможность: первоначально термин гривна обозначал единицу, равную не 20, а 40 денариям, т. е. около 136,44 г.
В конце VIII в. начинается массовый приток на Русь восточного серебра в виде дирхемов, которые в IX в. весили 2,73 г, т. е. относились к гривне в 68,22 г, как 25:1. Такой дирхем в письменных источниках называется куной. В начале Х в. наряду с дирхемами в 2,73 г в обращение начинают поступать более тяжелые монеты в 3,41 г. Таких дирхемов в гривне заключалось 20, и эта монета на Руси стала называться ногатой.
В конце 30-х гг. Х в. начинается кризис восточного серебра, обусловивший чрезвычайную пестроту веса монет, которые начинают рубить и резать с целью получить более мелкие платежные единицы. Монеты на Руси принимают не на счет, а на вес, о чем убедительно свидетельствуют находимые в кладах и при археологических раскопках весы и гирьки-разновесы. Появляется новая денежная единица, равная половине куны, – резана в 1,36 г. Денежная система Руси принимает следующий вид, зафиксированный Краткой редакцией «Русской Правды»: гривна (68,22 г) = 22 ногатам (3,41 г) = 25 кунам (2,73 г) = 50 резанам (1,36 г).
Что касается самой мелкой единицы этой системы – веверицы (векши), то она предположительно равна 1/3 резаны, т. е. в гривне содержится 150 вевериц.
До середины Х в. эта система денежно-весовых единиц существует как общерусская, а затем разделяется на две местные системы – северную и южную. В основе северной системы лежит гривна в 51,19 г, составляющая 1/4 позднейшего фунта. Гривна южной системы связана, скорее всего, с византийской литрой.
Структура денежного счета, зафиксированная Пространной редакцией «Русской Правды» (XIII в.), уже несколько иная. Из нее исчезает резана, место которой занимает куна, ставшая вдвое легче. Теперь 1 гривна = 20 ногатам = 50 кунам = 150 или 100 веверицам.
Наиболее уязвима концепция В.Л. Янина в своей исходной точке. Знакомство восточно-славянских племен с римским денарием еще не доказано археологически. Нет ни одного факта, свидетельствующего о бытовании гривны в 68,22 г на протяжении почти 500 лет – с конца IV в. до конца VIII в.
Основные единицы древнерусских денежно-весовых систем не исчезают с наступлением безмонетного периода. Самые крупные из них существуют в виде слитков серебра северного (новгородские) и южного (киевские) веса.
С наступлением феодальной раздробленности развиваются местные денежно-весовые системы, рыночная сфера жизнедеятельности которых ограничена территориальными рамками отдельных земель.
Возобновившаяся в конце XIV – начале XV в. русская монетная чеканка явила несколько различных местных денежно-весовых систем, генетически связанных с весовыми нормами безмонетного периода.
Безмонетный период.В истории русского денежного обращения период времени, охватывающий XII, XIII и почти весь XIV в., получил название безмонетного. Никаких внутренних причин для отказа от монет как средства денежного обращения не было. Ремесло и торговля вплоть до монголо-татарского нашествия развивались на Руси по восходящей линии. Причины возникновения безмонетного периода и характер денежного обращения в это время остаются наименее изученными проблемами русской нумизматики. В основе этого явления лежало прекращение поступления на Русь, не имевшую собственных серебряных разработок, серебра из-за рубежа. Однако общие запасы серебра на Руси в XII в. были вполне достаточными для введения и поддерживания собственной монетной чеканки. Они, вероятно, были даже более значительными, чем к моменту возобновления чеканки на Руси в конце XIV в., так как громадное количество серебра в XIII–XIV вв. ушло в Золотую Орду в результате платежей ордынского «выхода». Следовательно, основная причина безмонетного периода заключается в начавшейся феодальной раздробленности Руси, ликвидировавшей единую экономическую и политическую основу организации монетного производства и денежного обращения.
Изучение письменных источников позволяет констатировать, что денежная терминология предшествующего периода не только не исчезает в безмонетный период, но, напротив, свидетельствует о дальнейшем развитии гривенно-кунной денежно-весовой системы. Появляются новые денежные понятия и термины, например «мортка». Происходит, вероятно, постепенное обособление местных особенностей денежного счета, отразившееся в дальнейшем, при возобновлении монетной чеканки в конце XIV–XV в., в различиях весовых норм монет отдельных русских княжеств.
Одним из самых спорных является вопрос о конкретных формах денежного обращения в безмонетный период. Обращение серебряных слитков, обслуживавших лишь очень крупные торговые операции, имело, ограниченный характер. Мелкие платежные единицы – куны, резаны и др., перестав обозначать серебряные монеты, получили какое-то другое ценностное содержание. Очень популярные в прошлом теории меховых и кожаных денег еще не исчерпывают проблему в целом. Обращение пушнины в качестве средства платежа ограничивалось, вероятно, районами, богатыми промысловым пушным зверем, где хорошо был развит охотничий промысел. Что касается обращения кожаных денег, не имевших практически никакой собственной стоимости и представлявших собой по сути кредитные деньги, то самое их существование в древности долгое время вообще отрицалось нумизматами. В середине XX в. в Испании была обнаружена рукопись, содержавшая описание путешествия Абу Хамида ал-Гарнати в Центральную и Восточную Европу, которое он совершил в середине XII в. Особый интерес для изучения денежного обращения имеет сообщение этого арабского путешественника, относящееся к русской территории, о том, что он наблюдал торговые расчеты с помощью старых беличьих шкурок, лишенных шерсти. Это сообщение настолько необычно, интересно и значимо, что представляется оправданным привести его полностью: «Между собой они производят операции на старые шкуры белок, на которых нет шерсти, в которых нет никакой (другой) пользы и которые ни на что решительно не годятся. И когда эти шкуры головы белки и ее двух лап, то (эти шкуры) правильны. И каждые 18 шкурок в счете их идут за один дирхем. Они их укрепляют в пачку и называют джукн (?). За каждую шкурку из этих шкур дают краюху отличного хлеба, которая достаточна для сильного человека. На них же покупается все, как то: рабыни, отроки, золото, серебро, бобры, кундиз (куницы?) и другие товары. А если бы эти шкуры были в какой (другой) стране, то за тысячу их вьюков не купить бы одного зерна и не были бы они годны решительно ни на что. А когда (шкурки) испортятся в их домах, они везут их в полувьюках, в разрезанном виде, направляясь к некоему известному рынку, где есть люди, а перед ними ремесленники. Они передают им шкурки, и ремесленники приводят их в порядок на крепких веревках, каждые 18 шкурок в одну пачку. Сбоку веревки приделывается кусок черного свинца с изображением царя (царства, государства). За каждую печать берут по шкурке из этих шкурок, пока не припечатают всех. И никто не может отвергнуть их. На них продают и покупают».
Этому рассказу, казалось бы, не оставляющему никаких сомнений в существовании на Руси кожаных денег, все же не следует поспешно придавать абсолютного значения. Во-первых, сообщение ал-Гарнати может относиться к очень ограниченной территории. К тому же, нам неизвестен маршрут его путешествия по территории Руси.
Во-вторых, в Новгороде Великом, например, по сообщению Гильбера де Ланнуа (начало XV в.), в качестве мелких денег использовались головы белок. Однако в результате ведущихся в Новгороде вот уже более полувека систематических археологических раскопок обнаружены сотни тысяч хорошо сохранившихся кожаных изделий и обрывков кожи, но среди этих находок нет ни одной, которую можно было бы хоть как-то связать с кожаными деньгами. В то же время в хорошо датированных слоях безмонетного периода часто находят кошельки, аналогичные кошелькам из более древних и более «молодых» слоев.
В.Л. Янин выдвинул интересную гипотезу о платежной роли в безмонетный период некоторых изделий древнерусского ремесла. Для выполнения функций средств платежа эти изделия должны были удовлетворять прежде всего двум условиям – иметь постоянную и определенную стоимость, а также быть максимально стандартизированными. Этим требованиям вполне удовлетворяют овручские шиферные пряслица, широко распространенные на территории Руси и часто находимые в городских центрах в количествах, явно превосходящих хозяйственные потребности в них. Аналогичную роль могли играть некоторые виды каменных и стеклянных бус и стеклянные браслеты. Бусы и пряслица встречаются в монетных кладах. Более того, ареал шиферных пряслиц практически совпадает с территорией монетного обращения Руси IX – начала XII в.
И.Г. Спасский высказал предположение о выполнении роли платежного средства на территории Северо-Западной Руси раковин каури. Эти небольшие и красивые раковины, добывавшиеся на Мальдивских островах Индийского океана, были широко распространены в качестве денег в Африке, Азии и Европе. Они встречаются при раскопках в Новгороде и Пскове, особенно много их найдено в Прибалтике, известны они в Верхнем и Среднем Поволжье.
Русские монеты и денежное обращение XIV–XV вв.
Чеканка собственных монет возобновилась на Руси в конце XIV в., после более чем 350-летнего перерыва. Новые экономические и политические условия развития Руси способствовали почти одновременному появлению чеканной монеты в различных русских центрах. Успехи в освободительной борьбе с монголо-татарским игом и особая роль в ней Великого княжества Московского предопределили возобновление монетной чеканки прежде всего, именно в Москве. Начало собственной монетной чеканки стало возможным благодаря действию факторов как экономического, так и политического свойства, сложившихся на рубеже XIV и XV вв. С одной стороны, необходимость в собственной монете определялась усиливающимся развитием и укреплением рыночных связей между различными русскими землями, которые обеспечивались заметным ростом товарного производства и его дифференциацией. С другой стороны, чеканка монет стала возможной благодаря концентрации монетного металла в крупнейших русских центрах, образованию в них значительных фондов серебра. Важную роль сыграла здесь и сильная политическая централизация отдельных русских земель и княжеств, без которой начавшаяся чеканка монет очень скоро бы заглохла.
Приоритет в возобновлении монетного производства оспаривают три сильнейших русских княжества конца XIV в. – Московское, Суздальско-Нижегородское и Рязанское. Среди исследователей нет единодушия по вопросу о времени и месте начала новой русской монетной чеканки. Большинство из них полагают, что первым приступил к чеканке монет великий князь московский Дмитрий Иванович Донской (1359–1389) в 60-х или 70-х гг. XIV в. Вполне возможно, что начало чеканки следует отнести к 80-м гг. XIV в. и связать появление первых русских монет с победой в Куликовской битве 1380 г.
Существует мнение, что чеканка началась в Великом княжестве Суздальско-Нижегородском при великом князе Дмитрии Константиновиче (1365–1383).
Слабая изученность значительного фонда русских монет конца XIV в. не позволяет считать этот вопрос решенным, однако наиболее аргументированным представляется мнение ученых, отдающих предпочтение Великому княжеству Московскому.
В нумизматике долгое время господствовало неверное представление об определяющей роли монетной чеканки Золотой Орды в возобновлении русского монетного производства. Оно покоилось на принимавшемся априори факте широкого распространения золотоордынских монет на территории Руси на всем протяжении золотоордынской чеканки. Установлено, что монеты Золотой Орды на русской территории имели исключительно небольшой и ограниченный ареал. Топографирование находок джучидских дирхемов убедительно это доказывает – лишь отдельные единичные находки татарских монет встречаются за пределами Великого княжества Рязанского и Верховских княжеств, да и сюда они начинают проникать только в 60-е гг. XIV в. Не приходится и говорить о каком-либо принципиальном влиянии золотоордынской монетной системы на русскую. Что касается Великого княжества Рязанского, то специфика его монетной чеканки объясняется особыми условиями его исторического развития – пограничным положением, экономическими связями с Золотой Ордой и определенной политической зависимостью от нее, особенно на раннем этапе собственного монетного производства в конце XIV в.

Изготовление денег.
Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в.
Монеты Великого княжества Московского. Чеканку монет в Москве начал великий князь Дмитрий Иванович Донской. Судя по незначительному числу известных монет Дмитрия Донского (около 100 экземпляров), чеканка началась в самом конце его княжения или по крайней мере в 80-е гг. XIV в. На лицевой стороне этих монет изображен человек с саблей или петух, а вокруг надпись: Печать великого князя Дмитрия.На оборотной стороне отчеканена легенда, подражающая татарским монетам и содержащая имя хана Тохтамыша. Эта надпись отражала вассальную зависимость русских князей от Золотой Орды.
Сын Дмитрия Донского великий князь Василий I (1389–1425) продолжил чеканку в более крупных размерах. Характерно, что с некоторых типов его монет исчезают надписи, подражающие татарским. Это результат определенных успехов в борьбе за освобождение от монголо-татарского ига. Сюжеты изображений на монетах становятся более разнообразными. Большую популярность приобретает изображение всадника с птицей на руке, являющееся, возможно, портретом самого великого князя, принимающего участие в соколиной охоте, столь любимой на Руси.
Монеты великого князя Василия II Васильевича (1425–1462), прозванного Темным из-за его ослепления в 1446 г. галичским князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой, поражают множеством типов. Здесь изображения и князя – на коне с птицей на руке, на коне с копьем, сидящего на престоле, и сцен охоты, и различных зверей и птиц, часто фантастических, и какие-то пока еще необъяснимые бытовые сцены. На лицевой стороне ранних монет этого князя изображен всадник с соколом, а на оборотной – мифический Самсон, раздирающий пасть льва, и круговая надпись Князь великий Василий.
Монеты Василия Темного ярко отразили острейшую борьбу за московское великое княжение между ним и его политическими соперниками – галичскими князьями. Основные этапы этой феодальной войны хорошо прослеживаются на нумизматическом материале. Одним из действенных средств феодальной войны была порча монет, т. е. снижение их законного веса или ухудшение качества за счет уменьшения в монетах количества чистого серебра, завуалированного добавлением примесей. Например, резкое снижение веса московских монет произошло в 1446 г., когда галичский князь Дмитрий Шемяка сел на московский престол. Поскольку такая монетная реформа прежде всего ухудшила положение трудового люда, очень скоро народное возмущение привело к изгнанию Дмитрия из Москвы. Захватив столицу, Шемяка какое-то время чеканил свои монеты, частично используя штемпели Василия II. Такие монеты несут на себе два имени. После возвращения в Москву в 1447 г. Василия Темного постепенно налаживается монетное производство, сильно пострадавшее от хозяйничанья галичских князей. Вновь организуется денежный двор, стабилизируется вес монет, вырабатывается определенный и постоянный их тип. На лицевой стороне изображается голова человека, вероятно князя, окруженная очень характерной надписью Осподарь всея земли русской.Знаменательно, что такую же надпись имела и государственная печать Василия II. В самом конце княжения Василия Темного появляются монеты с надписью Денга московская.При этом князе, видимо, появляются и первые медные монеты – пулы, которые чеканят в Москве и некоторых других городах.
В княжение великого князя Ивана III (1462–1505) практически завершается собирание русских земель и княжеств в единое государство. Этот важнейший исторический процесс также нашел определенное отражение в нумизматическом материале. Прежде всего он проявился в прекращении самостоятельной чеканки монет Новгородом Великим и некоторыми другими центрами. В то же время постепенно отмирает система откупа монетной чеканки и начинает более или менее постоянно функционировать Московский денежный двор. На монетах все чаще изображается всадник, ставший своего рода гербом московских великих князей.
При Василии III (1505–1533) происходит дальнейшая централизация монетного производства. Прекращает самостоятельную чеканку Псков. Значительное число монет Василия III, как и часть монет его отца, имеет лишь титул государь всея Руси, без обозначения имени князя. Сам титул делал присутствие на монетах княжеского имени необязательным.
Метрология монет Московского княжества изучена еще недостаточно. Окончательно не установлена монетная стопа, а следовательно, и весовая норма ранних монет Дмитрия Донского. Одни исследователи считают весовой нормой первых московских монет 0,92 г, другие – 0,98 г, полагая при этом, что вскоре после начала чеканки Дмитрий Донской провел денежную реформу, понизившую вес монет. По мнению Н.И. Булычева, высказанному еще в начале XX в., в основе монетной стопы Великого княжества Московского лежал полуслиток весом в 102,378 г – из этого слитка чеканили 100 монет. То есть первоначальная весовая норма московских монет была равной 1,02 г.
Разногласия вызывает и вопрос о том, каким был первоначальный московский рубль – 100-или 200-денежным. В.Л. Янин, предполагая, что рубль в Низовских землях был 200-денежным, пришел к выводу, что с понижением веса московской деньги Дмитрия Донского до 0,92 г происходит отделение денежной единицы от весовой. Старый рубль сохраняется лишь в виде весовой единицы – гривенки (204,756 г), а новый является чисто денежной единицей в 184,28 г.
Однако среди всех известных слитков XIV–XV вв. (246 экземпляров) нет ни одного с весом от 183 до 186 г, а их подавляющее большинство весит 193,5—197,5 г. Представляется, что Дмитрий Донской начал чеканку монеты, исходя из теоретической нормы московского рубля – 102,378 г, а затем опираясь на реальный полуслиток весом 91–94 г. Интересные наблюдения В.Л. Янина, суть которых сводится к «возможности существования в определенные периоды двух монетных норм – официально объявленной, которую можно назвать исходной или теоретической и которая является результатом реформ, и неофициальной, несколько пониженной сравнительно с теоретической и постепенно все более понижающейся», подтверждают наше мнение.
По какой бы норме ни началась московская монетная чеканка, ее снижение в результате реформы до 0,90—0,93 г привело к установлению рациональных взаимоотношений московской денги как с джучидскими дирхемами, так и с рязанскими и новгородскими монетами. Московская денга стала равной половине белы, заменившей в Новгороде Великом ногату, а три московские денги приравнивались к двум золотоордынским дирхемам. Именно в это время впервые появляется новая счетная единица – алтын. Этимологию этого термина связывают с татарским алты – шесть. Первое упоминание алтына в письменных памятниках относится к 1375 г., причем вместе с ним здесь фигурирует еще не денга, а резана. Первое совместное употребление алтына и денги зафиксировано в договорной грамоте Дмитрия Ивановича Донского с рязанским великим князем Олегом Ивановичем 1381–1382 гг.
В нумизматике существуют две точки зрения о монетном содержании алтына. Одни исследователи доказывают его первоначальное равенство 3 денгам, другие – 6 денгам. После денежной реформы 1535 г. равенство алтына 6 денгам-московкам или 3 копейкам-новгородкам не подлежит никакому сомнению. Шестиденежный алтын хорошо известен и во 2-й половине XV в. До конца XVI в. алтын был только счетной единицей; в виде серебряной монеты он появился в конце XVI в., а не в 1704 г., как обычно указывается в литературе. Счет на алтыны в пережиточной форме сохранился до наших дней в народном бытовом названии 15-копеечной монеты – «пятиалтынный». Первые серебряные алтыны были отчеканены при царе Федоре Ивановиче (1584–1598). Эти редкие монеты чеканились на проволоке обычными копеечными штемпелями, только вес их был равен весу трех копеечных монет.
Монеты великого князя московского Василия Дмитриевича, внешне очень похожие на монеты Дмитрия Донского, разнятся с ними в метрологическом отношении. Скорее всего, Василий I начал чеканку своих монет по стопе последних монет Дмитрия, однако около 1409–1410 гг. он провел денежную реформу, в результате которой вес московской денги был снижен до 0,789 г. Знаменательно, что это снижение веса московских монет вызвало цепную реакцию – в других русских центрах, чеканивших монеты, также происходят изменения весовых норм монет.
Монеты Василия II Темного изучены достаточно хорошо. До 1446 г. их весовая норма (0,72—0,73 г) не нарушается. Даже когда в 1433–1434 гг. московский великокняжеский стол захватил галичский князь Юрий Дмитриевич, он стал чеканить монеты от своего имени, но по весовой норме монет Василия II, несмотря на то что в самом Галиче чеканка осуществлялась в это время уже по пониженной монетной стопе. В 1446 г. князь Дмитрий Шемяка понижает вес московской денги до 0,59 г, а затем, в конце княжения Василия II Темного, ее вес был понижен еще раз до нормы в 0,395 г, сохранившейся неизменной до денежной реформы Елены Глинской в 1535 г.
Среди всех средневековых русских так называемых удельных монет наиболее многочисленны и разнообразны монеты, чеканившиеся в различных уделах Великого княжества Московского. Известны монеты Галичского, Звенигородского, Дмитровского, Можайского, Серпуховского и других удельных княжеств. Несмотря на слабую изученность московских удельных монет, можно констатировать определенные тенденции в их чеканке. Она начинается, видимо, по весовой норме московских монет, но затем понижение их веса в сравнении с московскими монетами идет более быстрыми темпами. При этом в экономически более развитых центрах этот процесс протекал значительно медленнее, чем в более слабых.

Монеты XV в.
Изображения на монетах московских уделов разнообразны. Некоторые из них повторяют изображения на великокняжеских монетах. Например, изображение Самсона встречается на монетах княжества Серпуховского и Боровского при князе Семене Владимировиче (1410–1426), княжества Малоярославского при князе Ярославе Владимировиче (1388–1426), княжества Дмитровского при князе Петре Андреевиче (1389–1428), княжества Можайского при князе Андрее Дмитриевиче (1389–1432) и Галицкого княжества при князе Юрии Дмитриевиче (1389–1434). Очень популярным на монетах московских уделов является изображение всадника с соколом. Оно известно и на монетах великих княжеств Суздальско-Нижегородского и Тверского.
Иногда на монетах удельных княжеств присутствует имя великого князя московского Василия II Темного, что, возможно, отражает определенный контроль Москвы над чеканкой в уделах. Вероятно и другое объяснение – чеканка для удела осуществлялась денежником великого князя московского.
Монеты Великого княжества Суздальско-Нижегородского. Чеканка монет этого княжества началась в его главном центре – Нижнем Новгороде при великом князе Дмитрии Константиновиче (1365–1383). Значительное количество монет этого князя и многочисленность их типов свидетельствуют о сравнительно раннем начале чеканки. Однако вряд ли справедливо мнение в том, что чеканка началась около 1365 г. Скорее всего, Дмитрий начал чеканить монеты не в первые годы своего княжения. Первое комплексное исследование суздальско-нижегородских монет и персональная атрибуция многих их типов принадлежат А.В. Орешникову. После смерти Дмитрия чеканку продолжил его брат Борис Константинович (1383–1394), которому пришлось вести длительную и упорную борьбу за великокняжеский стол со своим племянником – суздальским князем Василием Дмитриевичем Кирдяпой (1377–1387). До чеканки монет в Нижнем Новгороде Борис Константинович чеканил собственную монету в Городце, а Василий Кирдяпа – в Суздале. Все ранние суздальско-нижегородские монеты имеют на одной из сторон (а часто и на обеих сторонах) надписи, подражающие татарским. Например, на одной из ранних монет князя суздальского Дмитрия Константиновича на лицевой стороне в круглой рамке изображено лицо человека, а на обратной – подражание татарской монете. Г.А. Федорову-Давыдову в специальной монографии, посвященной монетам этого княжества, удалось установить определенные типы подражаний золотоордынским монетам в чеканке Суздаля, Городца и Нижнего Новгорода.
Самостоятельная чеканка монет в Суздальско-Нижегородском княжестве прекратилась в 40-х гг. XV в. Монеты этого княжества, отличающиеся богатством сюжетов, помещенных на них изображений, часто анонимны. В метрологическом отношении они изучены недостаточно.
Монеты Великого княжества Рязанского. Отличительной особенностью денежного обращения Великого княжества Рязанского накануне начала собственной монетной чеканки явилось широкое использование серебряных золотоордынских монет, массовое проникновение которых на его территорию началось в 60-е гг. XIV в. Первые рязанские монеты – это джучидские дирхемы, снабженные надчеканками в виде различных букв русского алфавита: «Б», «Бо», «Д» и др. Начало буквенного надчеканивания приходится на середину 80-х гг. XIV в. Около 1390 г. буквенные надчеканки сменяются надчеканками в виде характерной тамги, ставшей неизменным и обязательным отличительным признаком рязанских монет на всем протяжении самостоятельной чеканки. Практически одновременно с появлением тамги начинается изготовление подражаний джучидским дирхемам, которые довольно быстро вытесняют из обращения подлинные золотоордынские монеты. Обязательный атрибут рязанских монет – надчеканка в своем развитии также прошла несколько этапов.
Ранние рязанские монеты чаще других привлекали внимание исследователей. Тем не менее до сих пор вопросы смысла и значения русских надчеканок на джучидских монетах и подражаниях им дискуссионны. Уже сам факт появления надчеканок означал, в сущности, начало самостоятельного монетного производства Рязанского княжества и, безусловно, отражал стремление рязанской великокняжеской власти к экономической и политической самостоятельности. Использование при этом монет Золотой Орды было предопределено сравнительно длительным обращением их на территории княжества.

Монеты русских княжеств и земель XIV–XV вв.
Надчеканивание татарских монет и изготовление подражаний им началось при великом князе Олеге Ивановиче (1350–1402). Монеты этого князя, так же как и монеты его сына и преемника Федора Ольговича (1402—ок. 1417), анонимны. В княжение Ивана Федоровича (ок. 1417–1456) резко изменяется тип монет – прекращается изготовление подражаний, и на монетах впервые появляется надпись на русском языке, содержащая титул, имя и отчество князя. С монетами предшественников их связывает только надчеканка рязанской тамги, помещение которой на монетах чисто русского типа подтверждает мысль о ее геральдическом характере. Оформление новых монет далеко не случайно: надпись расположена по внешним сторонам квадратной рамки, середина которой оставалась пустой, так как предназначалась для нанесения надчеканки с противоположной стороны монеты. Интересно, что тамга не вырезывалась в основном штемпеле, а, как и прежде, надчеканивалась специальным пуансоном, т. е. и при Иване Федоровиче сохранялось дополнительное клеймение монет тамгой. К сожалению, нет ни одного пуансона тамги, который связал бы первые монеты Ивана Федоровича с анонимными монетами его отца Федора Ольговича. Отсутствие такой связи свидетельствовует или о каком-то перерыве в чеканке монет, вызванном, быть может, как раз сменой княжений, или о сознательном уничтожении пуансонов, употреблявшихся перед началом чеканки монет Ивана Федоровича. Поскольку надчеканки последних анонимных монет практически не отличаются от надчеканок на ранних монетах Ивана Федоровича, следует признать верным первое из возможных решений.