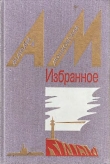Текст книги "Брусника созревает к осени"
Автор книги: Владимир Ситников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
В пору воинственного безбожья и развитого атеизма всякая деятельность по обслуживанию церквей была под запретом. Дядька – староста Серафимовской церкви предложил ему заняться свечным производством. Тайно по ночам приловчились они катать восковые свечи. Технология была нехитрая, но одному старосте крутить-вертеть несподручно, и вот помогал Герасим. Натягивали нить, сучили её – это для фитиля, а потом растопленным воском поливали крутящийся фитиль. Получалась двухметровая макаронина-свеча. Разрезали её на десять кусков – и вот тебе свечечка, чтоб могли люди поставить её перед ликами Христа и Богородицы.
– Дядька был сильно умный, – признавался Герасим Савельевич. – Он мне всегда говорил: счастью не верь, беды – не пугайся. Правду говорил. Так и надо.
Свечки уходили в лёт. За ночь таких макаронин успевали накатать не одну сотню. Месячное жалованье хорошего инженера можно было заколотить за одни сутки. И получал Герасим такие деньги. Конечно, особо заботились, чтоб никто не пронюхал о тайном производстве, а то припишут такую политику, что упекут на Магадан.
А вот на войне не повезло Герасиму – потерял ногу. Домой явился костыльником. Пока не изладили протез, прыгал о трёх «ногах», на костылях.
В Дергачах считался дед Герасим вовсе незаменимым мастером и в доску своим человеком. Местные ханыги запросто заходили к нему, чтобы перехватить деньжат или распить бутылочку, а старухи шли с поклонной просьбой, чтоб сложил печь, вставил стекло, разбитое внуком, сменил железный лист на полу возле печки, а то пожарник вовсе застращал, соорудил крылечко. Да мало ли нужд.
Конечно, появлялся Герасим Савельевич у заказчицы с Киркой. Иначе – никак. Во-первых, одного нельзя оставлять, во-вторых, помощник нужен. Всё «излажали» толком.
Теперь у Кирки появились деньги, свои, карманные. Он курил и не скрывал этого. Даже пиво пил с мужиками в «Закуске», которую старшеклассники и учителя обходили с опаской. Только один учитель физики Андрей Тимофеевич по кличке «Квапан» позволял себе походы туда. Но он был фронтовик, человек заслуженный, привыкший к такому образу жизни. Однако Кирка и Квапан в «Закуске» друг друга не узнавали.
Директриса Фефёла и педсовет махнули на Канина рукой. Лучше не замечать, чем переживать. Как-нибудь он доучится, а школа отмучится.
Но в том году в ответственном десятом классе Кирка пропустил три месяца. По всем предметам – ни в зуб ногой. Отчислять нельзя. Предписывалось бороться за каждого ученика. Послать бумаги в область – там обвинят педколлектив в беспомощности. Плохих учеников не бывает, бывают плохие учителя – считало облоно.
Фефёла набралась смелости и заявила, что аттестовать Канина нет никакой возможности. Придётся оставить на второй год. Кирка не возражал, да и что тут скажешь против. Убрать же из школы препятствовала мать. Она мечтала, чтобы Кирка стал инженером.
Появившись повторно в десятом классе, Кирка прежде всего подтвердил своё прозвище Толстолобик, данное за то, что во время драки мог сшибать противника с ног ударом головы в подбородок. Он был яр, горяч, нетерпим. А броневая лобная кость определённо имела примесь чугуна.
Конечно, Кирка не стерпел, когда Свистунов обозвал их со Славкой Мосуновым – Слоном и Моськой. Потом прозвище Толстолобик было вытеснено географическим – Канин Нос. Его Кирка признал. Всё-таки полуостров.
Славка Кирке понравился тем, что пересел к нему за парту, тем что не кичился и старался вовремя подсказать, напомнить, что задано было на дом. А то Кирка считал совершенно лишним записывать задания.
А Славке было чему поучиться у Кирки.
Славка завидовал парням, которые ко всему относились скептически, с недоверием и даже какой-то брезгливостью. Кирка был таким. У него всегда была наготове пренебрежительная оценка: чихня, ништяк, короче – лажа.
В школу Канин Нос вечно опаздывал, появляясь минут через пятнадцать после начала первого урока. У него всегда имелась в запасе очень уважительная, необыкновенно редкая причина для оправдания: то его дед Герасим по рассеянности запер, и пришлось вылезать через форточку, а форточки в их доме такие узкие, что он разделся догола – иначе не пролезть, то он якобы оставил портфель с учебниками у друга и пришлось бежать в Медуницу, а однажды, сделав страшные глаза, сообщил, что у них в доме появилось новое приведение, которое плачет.
– Короче, из-за этого плача я уснул только утром, – живописал Кирка.
Фефёла покончила с «Канинским фольклором», как она называла Киркины оправдания, и приказала, чтобы Славка Мосунов по утрам заходил за новоявленным приятелем Киркой домой. Славка был человек исполнительный. Он свистел три раза около Дома с привидениями, и Канин Нос нехотя появлялся на крыльце, зевая во весь рот.
– Мамка была. Короче, айда ко мне, – сказал как-то после уроков Кирка, – винограду наволокла. Мы с дедом никак съесть не можем. Короче – «Изабелла» называется. Сладкущий!
На «Изабеллу» Славка клюнул и действительно наелся винограда до отвала да ещё мамане принёс огромную кисть.
Дед Герасим показался поначалу Славке угрюмым и сердитым, потому что сказал при его появлении:
– Нет ничего страшнее пожара и гостей.
– Это не гость, – успокоил Кирка деда. – Это Славка Мосунов. Короче – мы с ним за одной партой сидим.
– Тогда понятно, – смягчился дед, – А меня зовут Герасим, но собачку Муму я не топил, хоть инженер Самосадов обвиняет меня.
Самосадов и правда, встречая Герасима Савельевича, говорил:
– А, погубитель Му-му.
Герасиму Савельевичу кланялись все ханыги и старушки из «деревяшек », потому что тем и другим он был нужен позарез или мог пригодиться. Кланялась ему и Славкина мать Ольга Семёновна, поскольку пришла к заключению, что надо позарез в их выгородке что-то делать с холодным полом. Дядя Яша боялся приглашать своего строителя, потому что тот мог заявить: выгородки вообще не должно тут существовать. Единственным спасителем в глазах матери был Герасим Савельевич.
Как-то нёс старик Герасим огромное оконное стекло, пуская солнечных зайцев по всем сторонам, слепя прохожих, отражая дождевые лывы, хватая отблеск витрин. Мешал ему нести стекло мусорный вздорный ветер. Он вертел, как хотел одноногим печником. Тот только успевал палкой тормозить, чтоб не упасть.
Ольга Семёновна ужаснулась, увидев мучения Герасима Савельевича, и выскочила с простыней, завернула в неё стекло и помогла донести до Дома с привидениями, тайно надеясь, что рукодельный старик согласится изладить пол в их выгородке.
И вот никто иной как дед Герасим явился в сопровождении Кирки к Мосуновым. Славка, чтобы показать, что он кое-что петрит, притащил железный лом.
– Конечно, против лома нет приёма, – раздумчиво произнёс Герасим Савельевич, разминая «беломорину», – Но нам этот лом, как зайцу барабан. Только половицы истычем. Волоки-ко, Кирилл, клинья, выбьем ими половицу.
Кирка со Славкой побежали за клиньями.
Фигурировал заяц, которому по фигу барабан, и в других ситуациях. К примеру, когда увидел мастер прямленые гвозди, какие приготовили Мосуновы пришивать половицы.
Пока Славка с Киркой убирали лишнюю землю и укладывали припасённые Ольгой Семёновной шпалы от узкоколейки вместо слег, Герасим дымил «беломориной», сидя на скамейке и рассказывал сочувственно кивающей Ольге Семёновне о том, что больше соли, чем сахару, отсыпала ему жизнь, да ещё перцу не поскупилась ухнуть.
– Мне ведь 69. Как ни поверни – всё равно 6 и 9. Хоть прожил я уже прорву годов, не хочется сидеть в валенке на завалинке, потому как человек артельный. Всё время на людях привык обретаться.
Спокойно, без жалоб и обид рассказывал Герасим, как на фронте был связистом.
– Когда бегал с катушкой проводов на горбу – ни одна пуля не брала, а потом поставили командиром взвода связи. Беготни не убавилось. Не зря говорили: вот бежит начальник связи, жопа в мыле – лицо в грязи.
Удалось раз в окопе посидеть и то зря: накрыл снаряд. Говорят, легко отделался: только ногу перебило. Загремел в госпиталь, а там сказали, что один выход: надо ногу ампутировать.
И без ноги я бойкости не потерял. Попросил сделать козлы для поднятия настроения раненых. Нарисовал на стене с открытки репродукцию картины Сурикова «Переход Суворова через Альпы». И больные, и даже врачи хвалили:
– Надо тебе, Канин, в академию художеств идти.
А я вместо этого в сапожники пошёл, потому что кормить стариков надо было. А потом женился ещё. Тоже забота.
– Изо всех сил ждали Победу. Придёт она, и случится избавление от бед и нужды, наступит неимоверное счастье. Пришла в дождливый день. Ревели и радовались. Вроде полная радость, а от сапожной лапы никуда я не ускакал. Мужик на деревяшке – не пахарь, не танцор, аккурат обутки шить, раз просто безногий, а не куцелапый.
Люди в войну пообносились, ходили в башмаках на деревянном ходу, в туфлях тоже на деревяшках – танкетками звали.
Народ валом валил ко мне. Хотелось новенькое, кожаное поносить. Я своё дело знаю, на колодки кожу натягиваю, подошвы деревянными гвоздями пришпандориваю, анекдоты травлю. Ко мне очередь и с кирзачами, и хромачами, а иные завёртывают просто посмолить самосад да меня послушать. Всё затоптано, окурками завалено, как на вокзале, а мне весело. Дымно, правда, как в газовой камере, а мне хорошо. Ребята-фронтовики заглядывают. Пришлось гармонь в руки взять. В общем, как в стихе всё было: «Наша Родина прекрасна и цветёт, как маков цвет. Окромя явления счастья, никаких явлений нет».
Стены тогда газетами оклеивали. И надо же, как подфартило. Рядом портрет товарища Сталина из газеты «Правда» оказался. А я шилья для удобства в стену втыкал. Иной раз и товарищу Сталину доставалось. Думаю – ничего страшного, он сам сын сапожника, понимать должен. Извиняюсь, конечно, прости, мол, товарищ Сталин, вождь народов, но шило само так угодило. Мне бы заклеить портрет-то, и вся недолга, да не дотункал: колю и колю вождя – то в руку, то в плечо.
Узрел это один чмырь в белых бурках, в кожане на меху, накатал про мои проделки телегу, куда следует: «Враждебное отношение к товарищу Сталину, выразившееся…» Пришли люди с кобурами, убедились в моём непочтении и отправили к другому вождю – товарищу Лаврентию Павловичу Берии, то есть в лагерь. А там безногим делать нечего. Иные Бога молили: пошли увечье, чтоб не робить. Безногие лес рубить не могут. В расход пустить – не тот пункт в статье. А баланду хлебать даром не положено.
О Берии дед Герасим говорил тоже с почтением:
– По-моему, на него даже мухи боялись садиться. А зеки все работали с жаром и в лесу, и в шарашках. У Лаврентия Павловича и безрукий начинал шить. А у меня две руки, так что опять досталось сапоги мастачить. Там начальство тоже ходило в белых бурках да хромочах, страсть как любило модельную обувь со скрипом. А скрип такой – отдирай – присохло. Под скрип, видать, и настроение у начальства поднималось. Сразу заметно: не какой-нибудь простой идёт, а фигура в бурках.
Всенародная трагедия случилась 5 марта в 1953-м, преставился вождь народов, которого по лагерям звали просто «ус», вот я и дома оказался. Старики отец-мать меня не дождались и жена – тоже. Тяжко им из-за меня пришлось. Родственники врага народа. Клеймили позором многие. А Нюрке пять годов. Наставлял на ум, кормил, вырастил, а потом этот балбес по имени Кирилл появился, двоечник несчастный. С ним вот вожусь. А он мне помогает. Сноровистый, сообразительный растёт, но хитрован ушлый. Хитрее меня раз в пять.
– Короче, дед. Верни про двойки слова обратно, – прикрикнул Кирка.
– Умной, умной, спасу нет.
Под свои бывальщины за два дня подвёл мастер черновой пол, настелил чистовой, пообещал, что теперь будет тепло и сухо. Денег нисколько не взял, хотя Ольга Семёновна совала сложенные вчетверо четыре десятки.
– Славка друг Кирки. С друзей деньги не берём, – отрезал Герасим, но пообедал с удовольствием. Сухомятка дома надоела.
– Так давайте я хоть у вас приберусь, выстираю,– заикнулась Ольга Семёновна. – Или пол вымою.
– А Нюрка на что? У тебя, Семёновна, и так уборки невпроворот. Зови, коли чего надо, – и, забрав свои клинья, дед с внуком ушли.
С тех пор Герасим Савельевич стал для Ольги Семёновны главным авторитетом. Белая, как кипень, голова его вызывала умиление и почтение. Умник да рукодельник. Она кланялась ему издали, даже через дорогу, о здоровье справлялась и благодарила за ремонт пола. Теперь, казалось ей, никакая зима им не страшна.
И Кирка – Канин Нос постоянно отирался около казармы, будто бы к Славке завёртывал футбол попинать. А когда появилась в Дергачах Катерина Первозванова, все они стали друзьями – не разлей водой. Да и Верочка Сенникова не отставала. Тоже с ними была.
Кирка теперь сюда притаскивал всякие маманины гостинцы, привезённые из Москвы или с юга. Иногда звали они Витю Логинова, но его мама Клара бдительно следила за сыном и, открыв форточку, звала домой:
– Витенька, заниматься.
И неслась на улицу заунывная мелодия.
– Не игра. Короче – зубная боль, – цыкая зубом, оценивал скрипичную музыку Кирка – Канин Нос.
К тому времени люди вроде забыли о Киркиных воровских проделках. Да и Мишки Ворожейкина нет.
Когда дед Герасим начинал пояснять, что живёт он в доме номер два и внук у него двоечник, теперь Кирка вставлял:
– Короче, дед: дом-то у тебя номер три. Забыл что ли?
Люция без Рево
Славка не задумывался, кем он станет, когда вырастет. Ведь до взрослых лет ещё так далеко. А вот его одноклассник и сосед из «казармы» Витя Логинов уже давно точно определил себе будущее. Скрипач. Закинув за спину, словно ружьё, свою скрипку в футляре, он пилил на велосипеде два раза в неделю в Медуницкую музыкальную школу. И конечно, всё у него было ясно. Правда, изводил он своей игрой соседей по «казарме». Видно, самому Вите нравились занудливые звуки, а остальные воспринимали это как наказание. Терпели в надежде, что когда-то это кончится, завершится учёба в музыкалке, и уедет Витя куда-нибудь совершенствовать свой смычок.
Витя был мальчик воспитанный. Всем говорил: «здравствуйте», «извините» и даже «пожалуйста». Это мамочка Клара Викторовна с пелёнок учила вежливости. Клара Викторовна тряслась над сыночком. На работе сослуживцам говорила только о нём. Сочинения домашние писала для него, рылась в книгах, когда давали Вите задание подготовить сообщение по истории или географии. Кажется, готова была за Витю прыгать и бегать на физкультуре. Лишь бы Вите было хорошо. Конечно, только артистом, музыкантом должен был стать Витя Логинов.
Кирка определённой цели не имел, но практично заявил:
– До армии покантуюсь, а там видно будет. Может, в военное училище пойду, маршалом стану, а может запевалой, у меня глотка во, – и орал: «Мама, я доктора люблю».
– Вот это здорово,– восхищался Славка.
Верочка – Фарфоровая куколка тоже была учтивая и вежливая. Она рассыпала на пианино гаммы, которые нравились не всем, но это длилось не так долго, потому что она поняла, что из неё Рихтера не получится и стала наигрывать лёгкие песенки, которые вполне можно было воспринимать, как музыку.
– Скрипка – такой инструмент, которому, как любви, все возрасты покорны, – трогательно признавался учитель музыки
Константин Егорович. – Людей развеселит, а музыканта всегда прокормит.
Вот таким заядлым скрипачом мечтал стать Витя Логинов. Он знал своё будущее, а Славка – нет, потому что у него не было таланта. Причём никакого. Он даже петь не умел и стеснялся своего голоса.
Нравилось ему летом и даже зимой ходить в лес. Летом за грибами-ягодами, а зимой на лыжах просто для своего удовольствия. Он воображал себя путешественником Амундсеном, на худой конец, Нансеном, а пожалуй, лучше Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым, который написал книгу про Дерсу Узала. Для того, чтобы стать путешественником – открывателем новых земель, надо быть выносливым, упорным и неутомимым. Вот Славка и торил лыжню, утопая в рыхлом снегу. Жаль, конечно, что все острова, моря и заливы на всех морях уже найдены и названы. Наверное, надо самому придумать, что открыть. Ездили же чехи Ганзелка и Зигмунд по всему свету на автомобиле, а Тур Хейердал в поисках древних цивилизаций плавал на папирусных судах. Но Славке пока в голову ничего не приходило, куда поехать и что открыть.
В детстве Славка просто без всякой цели гонял с гор на коротеньких лыжах. В овраге, который назывался пренебрежительно Засора, он по примеру ребят постарше прыгал на нырке, сделанном из снега. Это такой маленький бугорок-трамплинчик. На нырке редко кто мог устоять. Вот и Славку так бросало, что, упав, не знал, где руки, где ноги, где голова. Но он вновь и вновь лез в гору, чтоб опять оказаться в сугробе. Из Засоры возвращался Славка весь в ледяной коросте, которая покрывала и шапку, и затрапезное пальтишко с короткими рукавами, и штаны, и валенки. Сил не было сбить этот панцирь, пока не выходила Ольга Семёновна с веником-голиком. Но и веник толком не помогал. Мать сдирала со Славки пальтишко и долго хлопала его.
– Чучело-чемучело, ты нарочно что ли в снегу валялся? – ужасалась она, развешивая одежду возле печки. Славка, хлюпая носом, уписывал жареную на сале картошку и хвалился, что сегодня он два раза устоял, когда прыгал с трамплина.
Настал такой день, когда пришёл домой Славка сухой, даже не завозившись в снегу. Нырок был покорён. И теперь на него с почтением смотрели не только самая мелкая малышня, но и ребята постарше, у которых не хватало решимости прыгнуть с трамплина.
В это время появился у Славки кумир – девятиклассник Олег Трушков, который пробегал пятикилометровую дистанцию за девятнадцать минут и поставил юношеский рекорд Медуницкого района. Олег был красивый, ловкий, смелый, ходил в спортивном костюме на «молниях». Мог с шиком проехаться по перилам лестницы со второго этажа. Когда в коридоре прыгали парни, оставляя ботинком след на стене, то Трушков свою отметину от подошвы оставил выше всех.
В это время и появилась у Славки мечта стать спортсменом, как Олег Трушков, завести настоящие беговые лыжи с жёсткими крепленьями «Ротофелло». Долго копил Славка деньги, экономил мелочь, что давала мать на буфет.
И вот когда Олег Трушков, закончив школу, уехал в спортивный институт имени Лесгафта, Славке удалось купить лыжи. Он почувствовал себя счастливейшим человеком. Даже в коротенькие декабрьские дни находил время выскочить на лыжню и пробежать трёхкилометровку, в воскресенье же с утра отправлялся сначала на «пятёрку », а потом на «десятку». Нравилось, как лыжи режут снежный коленкор, какая оглушительная тишина наступает, когда он останавливается, какое чистое небо и как золотит солнце еловые шишки, висящие кистями на ветках. Не добрались пока до них белки.
Ему было приятно идти энергичным попеременным накатом, упруго отталкиваясь палками, легко опережая двигающихся прогулочным шагом, молодящихся дам и их мужей, девиц с кавалерами, выбравших лыжню для закрепления знакомства. Славка ими пренебрегал. Ему не терпелось вырваться на снежный простор. Сначала скучное мелколесье – ивняк, ольшаник, другая дребедень, потом березняк. Но вот лыжня вбегает в сосновый реликтовый бор. И Славка – мчится вперёд. Он испытывал в эти минуты ощущение полёта. Мелькали литые стволы сосен, расфранченные, увитые снегом ёлки. Он чувствовал уверенность, упругую силу, стремление лететь по лыжне ещё быстрее.
Однажды он засунул под куртку будильник, поскольку ручных часов у него не было, и не поверил, когда оказалось, что пятёрку пробежал за девятнадцать минут, а десятку за сорок четыре. Это время было лучше, чем у щеголеватого кумира Олега Трушкова. «Наверное, часы сбились от сотрясенья», – не поверил Славка.
Замечал: также азартно, как и он, каждое воскресенье скользит на лыжах главный агроном совхоза «Пестерёвский» Люция Феликсовна Верхоянская, женщина таинственная и какая-то необыкновенная, непохожая на остальных.
Однажды воскресным утром встретил Славка её на лыжне. Главный агроном Люция Феликсовна Верхоянская была с главным инженером совхоза «Пестеревский» Николаем Ильичом Лисочкиным, который пристроил свою маленькую дочку в специальном заплечном устройстве. Они не спеша катились по лыжне, любуясь инеем, унизавшим кусты с неоклёванными ещё кроваво-красными кистями калины и рябины, ягодами шиповника, которые рдели в пушистой куржавине.
– Дядя – крикнула девочка, увидев Славку.
– Это не дядя, это юноша, – поправила Люция Феликсовна и, уступая Славке лыжню, крикнула вдогонку: – Я давно любуюсь вами. Вы очень красиво ходите. Вас как зовут?
– Да ну, так просто хожу, – останавливаясь, стушевался Славка. – Мосунов я.
– За сколько минут вы проходите пятёрку?
– Не знаю, не засекал, – почему-то не признался Славка.
– У меня есть секундомер. Хотите, засеку время?
– Не знаю, – смутился Славка.
– Надо знать, чтобы поставить цель и выполнить её. А ну марш,– и Люция Феликсовна энергично сделала отмашку узорной рукавичкой.
Куда было деваться? Славка пошёл. Он старался, да и февральское утро выдалось на редкость тихим, светлым. Лыжня накатистая, не льдистая, как бывает после потаек, когда солнце лудит её, а мягкая, слегка припудренная лёгкой вчерашней порошей. Прекрасный, ворсистый, искристый снежок.
И ещё хорошо – не было пока гуляющих пеших пенсионеров, которые тоже норовили идти по лыжне, медуницких начальников с их неуклюжими жёнами, не реагирующими на крик: «Дорожку!» Те, наверное, наслаждались завтраками перед моционом. И влюблённые не успели выйти на лыжню.
Когда Славка вспаренный, красный, с покрытыми инеем бровями и ресницами финишировал около Верхоянской, стоявшей с секундомером, Николай Ильич зааплодировал, а их дочка из-за отцовской спины крикнула:
– Молодец!
– Восемнадцать минут тридцать секунд. Чемпионское время! Вас надо в сборную района, – обрадовано сказала Люция Феликсовна.
Славка не привык к похвалам да и люди, вдруг заметившие его, были незнакомые, хоть и известные в здешних местах. Застеснялся.
– Сейчас будем пить кофе, непререкаемо объявила Люция Феликсовна, снимая рюкзак с термосами. В одном термосе был горячий кофе, в другом чебуреки. Тоже горячие. Второй термос был как бидон – с широкой горловиной.
– Вам, как будущему чемпиону, – протягивая Славке стакан кофе и горячий чебурек, сказала она.
– Не, я завтракал, – застеснялся Славка.
– Возражения не принимаются, – отрубила рукой Верхоянская, отметая Славкин отказ. – Вы вспотели, вам надо согреться. Столько энергии потеряли. Прекрасное время!
И Славка принял угощение.
У Люции Феликсовны было худощавое энергичное лицо. Прямые ресницы придавали взгляду жёсткую остроту, даже пронзительность. Если бы ресницы были длинные и загнутые, наверное, она была бы очень привлекательной. Но ресницы эти подчёркивали решительность и порывистость её характера.
Славке нравилось, что с ним разговаривали как со взрослым. Да ещё Верхоянская нахваливала его без всякого удержу.
– Жалко, зима кончается, поздно мы познакомились, – А то бы я подсказала, чтоб вас в юношескую сборную района включили. Да и в областную можно. Могли бы на республиканские соревнования попасть.
– Ну скажете, – растерялся Славка от неожиданных похвал.
Люция Феликсовна, как со взрослым, заговорила с ним о том, что давно подбивает здешних начальников-ретроградов оборудовать освещённую лыжню, чтобы вечером можно было молодёжи всласть покататься, отдохнуть и размяться после сидячего дня.
– Как думаете, школьникам нужна такая лыжня? – спросила она.
– Конечно, – откликнулся Славка, – Я вечером уже в темноте с дистанции возвращаюсь, а тут бы катался себе.
– Тогда бы таких лыжников, как вы, было ещё больше, – подхватила она.
Славке было лестно, что Верхоянская разговаривает с ним на равных, словно от его мнения что-то зависит.
– Не хотят они признавать селян, – вздохнула Люция Феликсовна, – Как будто мы люди второго сорта. Смешки да улыбочки: «Силос-навоз. Хвосты коровам крутите».
Совхозу «Пестерёвский», который занимался луговодством на выработанных торфяниках, имел скотные дворы, силосные траншеи, конечно, трудно было похвастаться другими запахами. Но большинство механизаторов торфопредприятия – машинисты комбайнов, шофёры, экскаваторщики, ведь тоже вышли из деревни. Почему-то они-то замечают только силос-навоз.
Это Верхоянскую возмущало.
Директор совхоза Иван Иванович Сунцов седой, немало поживший и давно руководивший хозяйством к выпадам торфозаготовителей относился спокойно. Вёл дело без особого шума. Цели он ставил понятные и простые.
– Будет совхоз работать нормально, если решить проблему пяти крыш: чтоб коровники не текли, зерно, техника, фураж, удобрения были под кровом. На крышах экономить нельзя – много потеряешь без них. Скупость боком выйдет.
И в совхозе к зиме всё было прибрано, укрыто.
Ивана Ивановича кроме крыш интересовали вроде бы отвлечённые от прямых хозяйственных проблем явления. Он был согласен с великим Монтескье, который утверждал, что власть климата есть первая из властей. Все умнейшие замыслы размокают в дождях, засыхают от обильного солнца. Идеальных условий не бывает. Надо предвидеть погоду, знать закономерность в чередовании засушливых и мокрых лет, если она существует.
Иван Иванович за многие годы директорства вычертил синусоиду вятских дождей, которая красовалась в его кабинете. Когда заходила речь об этой синусоиде, он загорался и готов был толковать об этой закономерности часами.
– Какие перспективы открываются! – поднимал он вверх указательный палец, – Если знать заранее, какое будет лето, можно хозяйствовать уверенно, без промашки. В сухой год сеять засухоустойчивые культуры, а в мокрый – наоборот. И жить стало бы легче. Думы и планы крестьянские меняются в зависимости от погоды: дождя, ветра, засухи, снегопада.
Начальство считало Ивана Ивановича странным человеком, не очень удобным при внедрении всяких злободневных починов и новаций, когда – кровь из носу – надо было чётко и быстро раскочегарить новоявленное движение типа: «Девушки, за руль!», «Лучший способ уборки – раздельный», «Долой травополье!». Некоторые, вроде «Долой травополье!» – вообще Пестревского совхоза не должны были касаться, потому что травами они и призваны были заниматься с учётом своей специфики. Но и их пытались прижать.
Первый секретарь Медуницкого райкома партии Илья Филиппович Кладов исповедовал распространённый лозунг: «Нет таких преград, которые бы не одолели большевики» и, обычно, ссылки на трудности не принимал. Пробойностью и настырностью добивался своего: заасфальтировал улицы Медуницы, заставил райпотребсоюз сносно наладить торговлю и общепит, считал, что везде упорством можно достичь успеха. Требовал, «строгал» нерадивых. Податливые подчинялись, неподатливые уходили.
По внешнему виду Кладов соответствовал своему взгляду: носил усы под Чапаева, галифе и сапоги. Конечно, надо бы для цельности портрета ещё шашку на бок и коня. Но и уазик первого секретаря не хуже коня гонял по району.
В ту дождливую осень вызрел расписанный газетами почин о применении для уборки полеглых хлебов всяких приспособлений: чтоб не вязли комбайны на раскисшей почве, некоторые ухитрились оснастить их гусеницами и даже железными листами – пенами. Конечно, этот опыт надо было пробивать.
Заглянул Кладов в Пестерево.
– Эх, дожди, дожди, – вздохнул он, зайдя к Сунцову.
– Да, дожди, дожди, – повторил Иван Иванович. – У меня был всего один дождь. Начался 20 мая, а кончился 20 сентября.
– Значит, сам бог тебе велел, Иван Иванович, применить новенькое. Хлеб-то гибнет. А хлеб губить это преступление.
Иван Иванович выровнял стопку бумаг на столе, пригладил седые волосы. Он всё продумал, просчитал и пришёл к выводу, что от нынешних усовершенствований урон будет больше, чем выгода.
– Думал я об этом, Илья Филиппович, со счетами в руках, – сказал он глухо, зная, что одобрения его суждения не получат. – Зачем выгибать коромысло в обратную сторону? Навеска всех этих приспособлений приведёт к перегрузке двигателей. На будущий год технику эту придётся списать. И выйдет это дороже, чем с такими муками убранный хлеб. У нас овса двести га осталось. Мы его по застылку смахнём на корм скоту – и вся недолга.
Илья Филиппович Кладов обиделся. Он рассчитывал, что в Пестеревском совхозе почин подхватят. Тогда можно будет отрапортовать в обком партии, что убирают в Медунице хлеб, несмотря на непогодь благодаря тому, что обули комбайны гусеницами.
– Эх, всё на нервах. С таким трудом, а ты… – вздохнул Кладов.
Дёрнуло Ивана Ивановича вставить своё суждение:
– У кого нервы слабые – нельзя сельским хозяйством заниматься, – сказал он.
Кладов побагровел:
– Ретроград, – обозвал он Сунцова. – Прогрессивное не понимаешь.
Слова Сунцова о нервах были последней каплей, переполнившей чашу кладовского терпения.
Он и до этого знал, что давить на Сунцова бесполезно. Крепкий орешек. Не поддаётся. Выговоров он не боится, наград не ждёт.
Совхоз «Пестеревский» работал ровно, стабильно, однако в верхах и у Кладова мнение о нём было неважное: «Директор несовременный, по старинке всё делает». Стали подумывать о том, чтобы спровадить Ивана Ивановича на пенсию. Есть у него хобби – синусоида вятских дождей. Пусть уходит на покой и на досуге вычерчивает её да прогнозирует погоду хоть на сто лет вперёд.
На юбилее директору вручили благодарственное письмо, подарили телевизор. Говорили: наслаждайся отдыхом, смотри телик, но не уговаривали ещё остаться на посту.
Кандидатура преемника была давно оговорена. Это, конечно, главный агроном Люция Феликсовна Верхоянская. Выпускница «Тимирязевки». Человек энергичный, современный, фонтанирующий новыми идеями и затеями.
Сунцов принял свою отставку спокойно:
– Уйти лучше на день раньше, чем на минуту позже, – повторил чью-то мудрую фразу.
Наверное, немалая правота была в этом суждении.
Сказал на прощание ещё одну фразу:
– Помните одно – упасть нетрудно – подняться тяжело.
Верхоянская улыбалась оптимистично. Она падать не собиралась.
«Я думал, у меня есть заслуги перед этими местами, а, оказывается, нет их, одни прегрешения», – подумал Сунцов.
Но кому нужны были его обиды. Ушёл, так уходи.
Все в Медунице – и райком партии, и райисполком восприняли смену власти в совхозе «Пестерёвский», как добрый знак: новый, молодой, энергичный преемник на ходу всё подхватит.
Конечно, у Люции Феликсовны было немало заслуг. И агроном современный, живущий заботами совхоза, а ещё – душа художественной самодеятельности, организатор маскарадов, вечеров, пропагандист. И всему этому отдавалась с душой. Чтоб веселей прошёл вечер, сама садилась за швейную машину (когда-то, до института, работала швеёй) и строчила маскарадные костюмы. Под новый год объезжала с Дедом Морозом и Снегурочкой все молочные фермы, чтоб поздравить телятниц и доярок, механизаторов. А в день 8 Марта в паре с инженером Лисочкиным – ничуть не хуже Кириллова и Шиловой – вели традиционные «голубые огоньки».